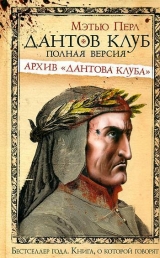
Текст книги "Дантов клуб. Полная версия: Архив «Дантова клуба»"
Автор книги: Мэтью Перл
Жанры:
Исторические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Детские разговоры, мой дорогой Лоуэлл! – Дженнисона точно утомил предмет беседы, но через миг он вновь почувствовал интерес. – На вас лежит обязанность перед миром и самим собой – большая, нежели на простом наблюдателе! Я не желаю более слушать о ваших колебаниях! Я не знаю, кто такой Данте и почему он спасет мою душу. Но гении, подобные вам, мой дорогой друг, призваны Богом сражаться за всех отверженных этого мира.
Лоуэлл что-то неслышно пробормотал, но, несомненно, стушевался.
– Именно, именно, Лоуэлл, – настаивал Дженнисон. – Не вы ли убеждали Субботний клуб, что простые торговцы также достойны сидеть за одним столом с вашими друзьями-небожителями?
– Как они могли вам отказать после вашего предложения купить Паркер-Хаус? – рассмеялся Лоуэлл.
– Отказали бы, оставь я борьбу за право принадлежать к великим людям. Могу я процитировать своего любимого поэта: «Так осмелься ж свершать то, что смеешь желать»? [13]13
Строка из стихотворения Джеймса Расселла Лоуэлла «Ода основателям Гарварда», написанного в июле 1865 г.
[Закрыть]О, как это прекрасно!
Лоуэлл рассмеялся еще более от мысли, что его пытаются воодушевить его же собственными стихами, однако так оно и было на самом деле. И почему нет? По мысли Лоуэлла, истинная поэзия низводит до сути единственной строки растворенную в людском уме неясную философию, делая ее доступной пониманию, полезной и применимой.
Теперь, по пути на очередную лекцию, на него нагоняла зевоту одна лишь мысль о том, что придется войти в аудиторию к студентам, пока еще убежденным в возможности узнать все о чем-то.
Лоуэлл привязал коня перед входом в Холлис-Холл, у старой водоразборной колонки.
– Ежели полезут, лягни их, старичок, как следует, – сказал он, прикуривая сигару. Лошади и сигары были под запретом при Гарвардском Дворе.
Неподалеку, лениво прислонясь к стволу вяза, стоял человек. Одет он был в жилетку с ярко-желтыми квадратами, лицо имел сухопарое, скорее даже истощенное. Поворотившись под косым углом, человек этот, слишком старый для студента и потрепанный для преподавателя, смотрел на поэта со знакомым жадным сиянием во взоре, что бывает лишь в глазах литературных поклонников.
Известность значила для Лоуэлла немногое – он попросту любил думать, что друзья найдут в его сочинениях нечто для себя хорошее, и после его кончины Мэйбл Лоуэлл сможет гордиться своим отцом. С другой стороны, он считал себя teres atque rotundas [14]14
«Гладким и круглым» (лат.) – цитата из «Сатир» (II, 7, 86) римского поэта Квинта Горация Флакка (65–8 до н. а.).
[Закрыть]– внутренний микрокосм, сам себе автор, публика, критик и последователь. При всем при том, слова мужчин и женщин с улиц не могли его не трогать. Он гулял по Кембриджу, и тоскливое желание столь сильно заполняло сердце, что даже от равнодушного взора случайного незнакомца на глаза наворачивались слезы. Однако почти ту же боль несла с собой встреча с непроницаемым, оцепенелым взглядом узнавания. Профессор точно становился прозрачным и отдельным от всего – поэт Лоуэлл, призрак.
Лоуэлл шел мимо, а наблюдатель в желтой жилетке так и стоял, прислонясь к дереву, и лишь коснулся полей своего черного котелка. Поэт смущенно склонил голову, щеки его горели. Торопясь в университетский городок сражаться с каждодневными обязанностями, Лоуэлл не заметил, в каком странном напряжении пребывал незнакомец.
Доктор Холмс влетел в крутой амфитеатр. В ответ – бурное топанье башмаков тех, кому карандаши и блокноты сдерживали руки; при его появлении раздались возгласы. Засим последовали громкие «ура» от самых буйных (Холмс называл их «юными варварами»), что собрались в вышине классной комнаты, именуемой «Горой» (точно дело происходило в Ассамблее Французской революции). Здесь Холмс каждый семестр конструировал с изнанки человеческое тело. Здесь четырежды в неделю пятьдесят любящих сыновей ловили всякое его слово. Стоя у подбрюшия амфитеатра, Холмс ощущал свой рост равным этим двенадцати футам, а не своим пяти с половиной (да и тем отчасти благодаря башмакам на толстой подошве, пошитым лучшим сапожником Бостона).
Оливер Уэнделл Холмс единственный из профессоров без труда сносил лекции, назначенные на час пополудни, когда голод и усталость соединялись с усыпляющим духом двухэтажной кирпичной коробки на Норт-Гроув. Кое-кто из завистливых коллег поговаривал, что литературной славой доктор обязан своим студентам. Однако большинство юношей, что предпочли медицину юриспруденции и теологии, происходили из низов, а потому до Бостона из всей литературы сталкивались разве что с немногими стихами Лонгфелло. Тем не менее весть о литературной известности Холмса распространялась подобно сенсационному слуху, а обладатели «Деспота обеденного стола» пускали томик по кругу, сопровождая передачу книги недоуменными взглядами: «Как, вы до сих пор не читали Деспота?» И все ж литературная репутация Холмса среди студентов более всего напоминала репутацию репутации.
– Сегодня, – объявил доктор, – мы перейдем к предмету, с коим вы, как я полагаю, вовсе не знакомы. – Он сорвал чистую белую простыню с женского трупа и, воздев ладони к топочущим башмакам, выкрикнул следующее:
– Уважение, джентльмены! Уважение к человечности и самому прекрасному творению Бога!
Потерявшись в океане внимания, доктор не узрел среди студентов незваного гостя.
– Да, предметом сегодняшней лекции является женское тело, – продолжал Холмс.
В первом ряду залился краской робкий молодой человек по имени Алва Смит, один из полудюжины обладателей тех ярких лиц, к коим естественным образом обращаются на лекциях профессора, дабы найти посредника меж собой и прочими студентами; соседи были только рады понасмешничать над его смущением.
Холмс это заметил.
– Наш Смит являет собой образец тормозящего воздействия сосудодвигательных нервов на мелкие артерии, что вдруг расслабляет и наполняет кровью поверхностные капилляры – сей приятный феномен некоторые из вас будут наблюдать нынче вечером на щеках юных персон, коих они намерены посетить.
Смит хохотал вместе со всеми. И тут Холмс услыхал невольное реготанье – надтреснутое и медленное, каким оно обычно становится с годами. Скосив глаза, он увидал в проходе преподобного доктора Патнама, не особо влиятельного члена Гарвардской Корпорации. Распорядители хоть и представляли высший уровень надзора, в действительности никогда не посещали аудиторий своего университета, а о том, чтобы проделать путь от Кембриджа до медицинского корпуса, размещенного так, чтобы находиться поближе к госпиталям, на противоположном берегу реки, для большинства администраторов не могло быть и речи.
– Теперь, – растерянно проговорил Холмс, располагая инструменты над трупом, к коему подошли два демонстратора. – Позвольте мне погрузиться в глубину нашего предмета.
Когда лекция завершилась и варвары вволю потолклись в проходах, Холмс повел преподобного доктора Патнама к себе в кабинет.
– Вы, мой дорогой доктор Холмс, представляете собою золотой образец американского литератора. Никто, помимо вас, не прилагает столь много усилий в столь различных областях. Ваше имя стало эталоном ученого и писателя. Не далее как вчера некий английский джентльмен поведал мне, сколь уважают вас у него на родине.
Холмс рассеянно улыбнулся.
– Что он сказал? Что он сказал, преподобный Патнам? Вы знаете, я люблю, когда сгущают краски.
Патнам нахмурился – ему не нравилось, когда его прерывали.
– Несмотря на это, Огастес Маннинг весьма обеспокоен некоторыми проявлениями вашей литературной деятельности, доктор Холмс.
Холмс удивился:
– Вы имеете в виду работу мистера Лонгфелло над Данте? Лонгфелло – переводчик. Я всего лишь адъютант, ежели можно так выразиться, притом не единственный. Рекомендую дождаться готовой работы; вы, несомненно, получите немало удовольствия.
– Джеймс Расселл Лоуэлл. Дж. Т. Филдс. Джордж Грин. Доктор Оливер Уэнделл Холмс. Неплохой подбор адъютантов, не правда ли?
Холмс был раздосадован. Он не думал, что их клуб представляет для кого-либо интерес, и не любил говорить о нем с посторонними. Дантов клуб был одной из немногих сфер, до которых публике не было дела.
– Ежели бросить в Кембридже камень, с уверенностью попадешь в автора двухтомника, мой дорогой Патнам.
Сложив руки на груди, Патнам ждал. Холмс махнул куда-то в сторону:
– С такими делами разбирается мистер Филдс.
– Умоляю, выйдите из столь сомнительного сообщества, – проговорил Патнам с гробовой серьезностью. – Убедите ваших друзей. Профессор Лоуэлл, к примеру, всего лишь…
– Ежели вам потребен человек, коего слушает Лоуэлл, мой дорогой преподобный Патнам, – со смехом перебил его Холмс, – вы совершенно напрасно свернули к медицинскому колледжу.
– Холмс, – мягко сказал Патнам. – Я пришел по большей части предупредить вас, ибо полагаю вас своим другом. Когда бы доктор Маннинг узнал, что я разговариваю с вами подобным образом… – Патнам помолчал, затем понизил голос до увещевающего: – Дорогой Холмс, ваше будущее окажется соединенным с Данте. Мне страшно подумать, что станет с вашей поэзией, вашим именем, когда Маннинг довершит начатое. Подумайте о вашем нынешнем положении.
– У Маннинга нет причин вредить мне лично, пускай даже он не одобряет тот интерес, что избрал себе наш маленький клуб.
Патнам ответил и на это:
– Мы говорим об Огастесе Маннинге. Не забывайте.
Когда доктор Холмс поворачивался боком, виду него делался такой, будто он проглотил глобус. Патнам часто задумывался, отчего некоторые мужчины не носят бород. Он ощущал оживление даже на ухабистой дороге в Кембридж, ибо знал, что доктора Маннинга весьма порадует его отчет.
Артемуса Прескотта Хили, 1804–1865, хоронили на главном склоне кладбища «Гора Оберн»; большой семейный участок был куплен одним из первых много лет назад.
Немало браминов и по сей день порицали Хили за принятые перед войной малодушные решения. Однако все соглашались, что лишь крайний радикал способен оскорбить память верховного судьи штата, презрев последние почести ему. Доктор Холмс склонился к жене:
– Всего четыре года разницы, Амелия. Коротко мурлыкнув, та потребовала разъяснений.
– Судье Хили шестьдесят лет, – шепотом продолжал Холмс. – Или скоро было бы. Всего четырьмя годами старше меня, дорогая, почти день в день! – В действительности разница составляла почти месяц, но доктор Холмс был искренне поражен близостью годов умершего к его собственным. Амелия Холмс указала взглядом, что во время надгробной речи недурно бы хранить молчание. Холмс захлопнул рот и стал смотреть на тихие акры кладбища.
Он не мог похвастать особой близостью к покойному – как и мало кто иной, даже среди браминов. Верховный судья Хили состоял в Попечительском совете Гарварда, и время от времени Холмс имел возможность насладиться плодами его административных талантов. Также Холмс знал судью по Фи-Бета-Каппа, [15]15
Студенческое землячество, куда входили дети из самых знаменитых американских семейств.
[Закрыть]ибо в прежние времена тот председательствовал в сем почетном сообществе. Доктор Холмс носил на часовой цепочке ключ ФБК – этот предмет и терзали его пальцы, пока тело Хили укладывали в новую постель. По крайней мере, размышлял Холмс с врачебным сочувствием к смерти, бедному Хили не пришлось страдать.
Самым долгим было их общение в суде в те потрясшие Холмса времена, когда более всего ему хотелось целиком уединиться в мире поэзии. Как и все дела о тяжелых преступлениях, процесс Вебстера слушался триумвиратом, председательствовал верховный судья, и защита потребовала от доктора Холмса свидетельств о склонностях Джона У. Вебстера. Тогда, много лет назад, в час жаркого разбирательства, доктор Холмс впервые оценил тяжеловесный и убийственный стиль речи, посредством которого Артемус Хили излагал свои законные убеждения.
– Профессора Гарварда не совершают убийств, – заявил в пользу Вебстера тогдашний президент университета, заняв трибуну незадолго до Холмса.
Убийство доктора Паркмана произошло в лаборатории, расположенной под лекционным залом Холмса, и как раз во время его занятий. С Холмса довольно было уже того, что он дружил как с убийцей, так и с жертвой, а потому не знал, о ком сокрушаться более. Ладно еще, что обычный раскатистый смех студентов заглушил звуки, с коими профессор Вебстер разрубал на куски тело.
– Благочестивый человек, всей душой преданный Богу…
Пронзительный голос священника сулил усопшему рай, лицо выражало родственную заботу, и Холмсу это было не по душе. Виновны принципы – любые красоты религиозных церемоний были не по душе сыну священника и последовательного кальвиниста, твердо и до конца противостоявшего унитарианскому перевороту. Оливера Уэнделла Холмса, равно как и его боязливого младшего брата Джона, в детстве окружала жуткая бессмыслица, до сей поры стоявшая у доктора в ушах: «Грешил Адам, а каяться нам». К счастью, защитой им служил острый ум матери – та шептала в сторону шуточки, пока преподобный Холмс с гостями-пасторами отмаливал авансом вечный первородный грех. Мать говорила, что скоро появятся новые идеи: особенно сии слова были необходимы Уэнделлу, потрясенному рассказом про то, как дьявол повелевает душами. И новые идеи появились – как для Бостона, так и для Оливера Уэнделла Холмса. Кто, помимо унитарианцев, смог бы построить Гору Оберн – одновременно сад и место упокоения.
Пока Холмс, дабы чем-то себя занять, пересчитывал явившихся знаменитостей, многие головы поворачивались в его сторону, ибо сам он принадлежал к известному кругу, нареченному различными именами – «святые Новой Англии» или «Поэты у Камина». Но как бы их ни называли, то был высший литературный контингент страны. Рядом с Холмсами стоял Джеймс Расселл Лоуэлл – поэт, профессор и редактор лениво покручивал длинный свисающий ус, пока Фанни Лоуэлл не потянула его за рукав; с другого боку расположился Дж. Т. Филдс, издатель величайших новоанглийских поэтов, голова и борода его устремлялись вниз строгим треугольником серьезного размышления и являли собою идеальное соседство для розовых ангельских щек и превосходной осанки его юной жены. Лоуэлл и Филдс были не более Холмса близки верховному судье Хили, но явились на церемонию из уважения к его чину и близким (с которыми Лоуэлл вдобавок ко всему состоял в некоем сложном родстве).
Разглядывая трио литераторов, присутствующие напрасно искали самого известного из их компании. Генри Уодсворт Лонгфелло вначале собирался вместе с друзьями на Гору Оберн, до которой от его дома было несколько минут пешего хода, но вместо этого, как обычно, остался сидеть у камина. Мало существовало на свете дел. способных вытащить поэта за пределы Крейги-Хауса. После стольких лет работы публикация, ставшая почти реальностью, требовала сосредоточенности. Помимо того, Лонгфелло опасался (и к тому были основания), что, явись он на Гору Оберн, внимание присутствующих вместо семейства Хили обратится на него. Когда бы Лонгфелло ни показывался на улицах Кембриджа, прохожие тотчас принимались шептаться, дети – пихаться локтями, а шляпы – подниматься в воздух в таком великом множестве, точно весь округ Миддлсекс одновременно являлся на богослужение.
Холмс запомнил картину, виденную им еще до войны, когда он вместе с Лоуэллом ехал в конном экипаже. Они миновали тогда окно Крейги-Хауса, за которым, точно в раме, горел камин, а Фанни и Генри Лонгфелло сидели у фортепьяно в окружении пятерых прекрасных детей. В ту пору лицо Лонгфелло еще было открыто миру.
Всякий раз вздрагиваю, глядя на дом Лонгфелло, – сказал тогда Холмс.
Лоуэлл, только что жаловавшийся на кривое эссе Торо, [16]16
Генри Дэвид Торо (1817–1862) – американский писатель и философ, проповедовал бегство от цивилизации и возвращение к ценностям природы.
[Закрыть]которое он в то время редактировал, ответил легким смешком, весьма отличным от тона Холмса.
– Их счастье полно настолько, – продолжал доктор, – что никакие перемены попросту не смогут пойти им во вред.
Распространяясь по безмолвным акрам кладбища, речь преподобного Янга все более приближалась к священному шепоту, Холмс же, смахнув с бархатного воротничка желтый листок, обвел взглядом каменные лица присутствующих и тут заметил преподобного Элишу Тальбота: знаменитый кембриджский пастор был неприкрыто раздражен трепетным приемом, оказанным речи Янга, – без сомнений, Тальбот повторял про себя, что бы на месте другого пастора сказал он сам. Холмс также восхитился сдержанностью вдовы Хили. Громко рыдающие вдовы обычно быстрее прочих находят новых мужей. Еще он случайно задержал взгляд на мистере Куртце в тот миг, когда шеф полиции настойчиво протиснулся к вдове Хили и притянул ее поближе, очевидно, пытаясь в чем-то убедить: сделано это было в столь краткой манере, что их обмен фразами походил на повторение более раннего разговора – шеф Куртц не то чтобы уговаривал вдову, скорее о чем-то ей напоминал. Та уважительно кивнула – но как же натянуто, подумал Холмс. Шеф Куртц испустил вздох облегчения, коему позавидовал бы сам Эол.
Ужин в доме 21 по Чарльз-стрит проходил тише обычного, хотя совсем тихим он не бывал никогда. Гости всякий раз покидали сей дом в изумлении от той скорости, не упоминая уже о громкости, с которой говорили Холмсы, а также недоумевая, слушают ли члены этого семейства друг друга, хотя б когда-либо. Дело было в заложенной доктором традиции, согласно которой лучший рассказчик получал добавочную порцию повидла. В тот вечер более обычного болтала дочь Холмса; «маленькая» Амелия рассказывала о недавней помолвке мисс Б. с полковником Ф. и о том, что их швейный кружок собирается подарить молодоженам на свадьбу.
– А что, отец, – с легкой усмешкой сказал Оливер Уэн-делл Холмс-младший, герой. – Думаю, ты сегодня лишишься повидла. – За столом Холмсов Младший гляделся чужим: от семейства маленьких и быстрых людей его отличали не только шесть футов росту, но также стоическая размеренность в речах и движениях.
Холмс задумчиво улыбнулся над тарелкой жаркого:
– Однако, Уэнди, тебя также почти не слышно. Младший терпеть не мог, когда отец звал его этим именем.
– Да уж, не видать мне добавки. Но ведь и тебе, отец, тоже. – Он поворотился к младшему брату Эдварду, который с недавних пор лишь изредка появлялся дома, ибо жил при Колледже. – Говорят, они собирают подписи, дабы в честь бедного Хили именовать кафедру в школе юриспруденции. Представляешь, Недди? После того как он выгнулся перед Законом о беглых рабах, [17]17
Закон о беглых рабах был принят в 1850 г. как составная часть компромиссного соглашения с рабовладельческим Югом. Он позволял плантаторам преследовать беглых рабов на территории других штатов.
[Закрыть]после всех этих лет. Бостон прощает одних лишь мертвых, я так понимаю.
На вечерней прогулке доктор Холмс, увидел детей, игравших в шарики, высыпал им горсть пенни, дабы те сложили на тротуаре слово. Он избрал «узел» (а чем плохо?), и когда медные буквы расположились в надлежащем порядке, оставил монеты детям. Он был рад, что бостонское лето уносилось прочь, а с ним – иссушающая жара, от которой у доктора Холмса лишь сильнее расходилась астма.
Усевшись неподалеку от дома под высокими деревьями, Холмс задумался о Филдсовой заметке в «Нью-Йорк Трибьюн» и о «превосходнейших литературных умах Новой Англии». Их Дантов клуб: Лоуэлл почитал своей миссией открыть Америке поэзию Данте, у Филдса имелись издательские планы. Да, академические и деловые интересы. И лишь для Холмса триумф клуба означал бы триумф людей, чью дружбу он почитал величайшей своей удачей. Более всего он любил свободную беседу и те яркие искры, что разгорались всякий раз, когда друзья отвлекались от поэзии. Дантов клуб был целительным сообществом – особенно в последние годы, что столь нежданно всех состарили; он соединил Холмса и Лоуэлла, затянув враждебную трещину; соединил Филдса с его лучшими авторами – в первый год, когда не стало Уильяма Тикнора, а с ним – опеки; соединил Лонгфелло с наружным миром или хотя бы с близкими литературе его посланниками.
Холмс не обладал особым талантом к переводу. В нем присутствовало необходимое воображение, однако не было того Лонгфелловского качества, что позволяло одному поэту целиком открыться голосу другого. Тем не менее, принадлежа к нации, слабо соотносящейся с другими странами, Оливер Уэнделл Холмс счастливо причислял себя к знатокам Данте – более, правда, к поклонникам, нежели к филологам. Во времена его учебы в университете аристократ от литературы профессор Джордж Тикнор уже не мог долее сносить вечные помехи, чинившиеся Гарвардской Корпорацией его стараниям на посту первого Смитовского профессора. Уэнделл Холмс, меж тем, с двенадцати лет свободно владевший греческим и латынью, изнывал от скуки в положенные академические часы, по большей части посвященные тупой зубрежке и повторениям Эврипидовой «Гекубы», давно уже разжеванной до бессмыслицы.
Впервые они повстречались в гостиной Холмсов: жесткие черные глаза профессора Тикнора задержались на студенте, который в этот миг перетаптывался с ноги на ногу. «Ни минуты не постоит спокойно», – вздыхал отец Оливера, преподобный Холмс. Тикнор предположил, что итальянский язык приучит юношу к дисциплине. Ресурсы департамента пребывали тогда в слишком плачевном состоянии, и профессор не мог формально предлагать студентам изучение языка. Однако Холмс получил на время словарь, подготовленный Тикнором, и учебник грамматики, а также «Божественную Комедию» Данте – поэму, разделенную на три «песни»: «Inferno», «Purgatorio»и «Paradiso».
Ныне Холмс подозревал, что гарвардская верхушка натолкнулась на Данте случайно, как это бывает с проницательными невеждами. Наука и медицинская школа разъясняли доктору деяния природы, свободной от страха и предрассудков. Он верил, что подобно тому, как на смену астрологии пришла астрономия, так и «теономия» заместит, в конце концов, свою тупоголовую сестрицу. С этой верой Холмс преуспевал – и как поэт, и как профессор.
Позже доктора Холмса подкосила война, а еще – Данте Алигьери.
Это началось летним вечером 1861 года. Холмс сидел в Элмвуде, имении Лоуэлла, и переживал известие о том, что Уэнделл-младший вступил в 25-й Массачусетский полк. Лоуэлл являл собою подходящее лекарство для докторских нервов – он дерзко и громогласно выражал убежденность, что мир во все времена ведет себя в точности так, как он, Лоуэлл, и предсказывал; а если переубедить собеседника не удавалось, делался саркастичен.
В то лето общество безмерно тосковало без обнадеживающего присутствия Генри Уодсворта Лонгфелло. Поэт разослал друзьям записки, отказываясь заранее от всех приглашений, кои вынудили бы его покинуть Крейги-Хаус; объяснял он это занятостью. Он начал переводить Данте, объявил Лонгфелло, и не намерен останавливаться. «Это сделано в часы, когда ничего более уже невозможно».
Письмо всегда немногословного Лонгфелло стенало в голос. Он был спокоен внешне, внутренне же истекал кровью.
Потому Лоуэлл только что не врос в землю у дверей Лонгфелло и на содействии настоял. Он не раз сокрушался, что невежественным в новых языках американцам недоступны даже ничтожные и малочисленные британские переводы.
– Дабы продать этим ослам книгу, мне потребно поэтическое имя! – восклицал Филдс в ответ на апокалиптические воззвания Лоуэлла касательно того, что Америка не внемлет Данте. Когда Филдсу требовалось удержать своих авторов от рискованных затей, он напоминал им о тупости читающей публики.
Лоуэлл не раз подбивал Лонгфелло заняться переводом трехчастной поэмы и даже угрожал, что сядет за него сам, хотя не имел к тому внутреннего устремления. Теперь он не мог не помочь. Помимо всего прочего, Лоуэлл был одним из немногих американских ученых мужей, хоть что-то знавших о Данте, – точнее, не что-то, а все.
Он расписывал Холмсу, сколь глубоко Лонгфелло захвачен Данте, – он судил по тем отрывкам, которые Лонгфелло ему показывал.
– Он родился для этого дела, я убежден, Уэнделл! Лонгфелло начал с «Paradise»,после перешел к «Purgatorio»,и, наконец, – к «Inferno».
– С заду наперед? – спросил заинтригованный Холмс. Лоуэлл кивнул и усмехнулся:
– Полагаю, наш дорогой Лонгфелло, прежде чем спускаться в Ад, пожелал убедиться в существовании Рая.
– Я так и не смог дойти до Люцифера, – сказал Холмс, по поводу «Inferno». – Чистилище и Рай – это музыка надежды, там чувствуешь, как приближаешься к Богу. Но эти жестокости – омерзительно, средневековый кошмар! Сему фолианту пристало лежать под подушкой Александра Великого!
– Дантов Ад в той же мере часть мира надземного, в коей – и подземного, избежать его невозможно, – отвечал Лоуэлл. – Возможно противостоять. Слишком часто в нашей жизни мы слышим голоса из глубины Ада.
Сила Дантовой поэзии более всего отзывается в тех, кто не исповедует католической веры, ибо верующие неизбежно находят способ уклониться от Дантовой теологии. Для удаленных теологически вера Данте выглядит столь завершенной и несгибаемой, что, подкрепленная поэзией, неодолимо проникает в самое сердце. Оттого Холмс и страшился Дантова клуба – сие общество могло стать провозвестием нового Ада, чему поддержкой будет непревзойденный гений поэта. И, хуже того, Холмс боялся, что он сам – он, кто потратил целую жизнь, дабы убежать от дьявольских проповедей отца, – сам частично окажется тому виной.
Поздним вечером 1861 года чаепитие поэтов в элмвудском кабинете прервал посыльный. Доктор Холмс знал почти наверняка: это принесли телеграмму, пунктуально переадресованную из его собственного дома и сообщавшую, что бедный Уэнделл-младший погиб в некой жуткой битве, возможно, от изнеможения – из всех резонов лишь «смерть от изнеможения» представлялась Холмсу с леденящей четкостью. Но это оказался слуга Генри Лонгфелло, прибывший из расположенного по соседству Крейги-Хауса; в короткой записке говорилось, что от Лоуэлла потребна помощь в переводе некоторых песен. Лоуэлл убедил Холмса пойти вместе с ним.
– У меня столько недопеченных пирогов, что я до жути боюсь новых, – отшутился по первости Холмс. – Уж больно она заразна, эта ваша дантемания.
К занятиям Данте Лоуэлл склонил также и Филдса. Не будучи итальянистом, издатель в некоторой мере изучил этот язык во время деловых поездок (свершавшихся более ради удовольствия и ради Энни, ибо чересчур малое число книг включалось в торговые обмены между Римом и Бостоном), теперь же он ушел с головой в словари и комментарии. Филдс, как любила повторять его жена, имел обычай интересоваться тем, что интересовало других. Старый Джордж Вашингтон Грин, что тридцать лет назад в совместном путешествии по итальянской провинции подарил Лонгфелло книгу Данте, окидывал взглядом работу, приезжая к ним в город из Род-Айленда. Приверженный распорядку Филдс предложил для их заседаний вечер среды и кабинет Крейги-Хауса, а славившийся умением давать всему имена доктор Холмс окрестил сообщество «Дантовым клубом»; сам же он при этом частенько называл себя и друзей «спиритами» – утверждая, что, если как следует приглядеться, у камина Лонгфелло возможно запросто встретиться лицом к лицу с самим Данте.
Новый роман – вот что вынесет имя Холмса на вершину публичного внимания. Это будет та самая Американская История, кою читатели ждут от книготорговцев и библиотекарей, – та, которую Готорн [18]18
Натаниэл Готорн (1804–1864) – американский писатель, мастер аллегорической и символической прозы.
[Закрыть]искал безнадежно и до самой смерти, книга, возвышающая души не хуже Германа Мелвилла, [19]19
Герман Мслвилл (1819–1891) – американский романист, поэт и автор коротких рассказов. Самый известный его роман «Моби Дик» вышел в 1851 г.
[Закрыть]однако вылепленная из причуд, ведших его к безвестности и уединению. Данте хватило смелости сделаться почти божественным героем, пронеся свою слабую душу сквозь бахвальство поэзии. В отместку Флоренция лишила его дома, мирной семейной жизни, изгнала из города, который он так любил. В нищете и одиночестве поэт защищал свою нацию, обретая мир и покой в одном лишь воображении. Доктор Холмс, как это было ему свойственно, намеревался достичь совершенства во всем, и притом сразу.
А как только роман получит национальное признание, пускай попробует доктор Маннинг и прочие хищники мира покуситься на его доктора Холмса, репутацию! На волне все умножающегося почитания Оливер Уэнделл Холмс в одиночку защитит от нападок Данте и принесет победу Лонгфелло. Но если перевод выйдет на поле битвы чересчур поспешно, он лишь углубит раны, уже нанесенные докторскому имени, и Американская История пройдет незамеченной, коли не сказать хуже.
Явственно, точно судебный вердикт, Холмс видел, что необходимо сейчас делать. Он должен затянуть все так, чтобы успеть подготовить роман прежде перевода. Дело тут не только в Данте, дело в Оливере Уэнделле Холмсе и его литературной судьбе. Данте, между прочим, терпеливо ждал сотни лет, перед тем как объявиться в Новой Англии. Что добавят лишние месяцы?
В вестибюле полицейского участка на Корт-сквер Николас Рей поднял глаза от блокнота и после долгого корпения над бумагой зажмурился от света газовой лампы. Перед столом стоял здоровенный медведь, точнее – облаченный в индиговый мундир человек и, будто младенца, укачивал бумажный пакет.
– Вы патрульный Рей, верно? Сержант Стоунвезер. Не хотел вам мешать. – Человек протянул внушительную лапу. – Нервное это, должно быть, дело – служить первым негритянским полисменом, кто бы что ни говорил. Вы чего там пишете, Рей?
– Вам что-то нужно, сержант? – спросил патрульный.
– Это вам что-то нужно. Вы ж разузнавали по всему участку про того кошмарного забулдыгу, что выпрыгнул в окно, нет? Ну вот, а я его и приволок на дознание.
Рей посмотрел, не открылась ли дверь Куртцева кабинета. Сержант Стоунвезер вытащил из пакета черничный пирог и теперь в промежутках между словами отправлял его по куску в рот.
– Вы помните, где его подобрали? – спросил Рей.
– А то – пошел искать, кто за себя не в ответе, точно по инструкции. Винные лавки, публичные заведения. Ну и заглянул в Южном Бостоне на коночную станцию – пара знакомых карманников прям-таки обожают там ошиваться. Этот ваш забулдыга валялся на скамейке, вроде спал, но при том еще и трясся – то ли белая горячка, то ли черная трясучка, шут его разберет.
– Вы его знали прежде? – спросил Рей. Стоунвезер вещал сквозь набитый рот:
– На конке вечно алкаши да бездельники шибаются. Этого вроде не видал. Правду сказать, вовсе не собирался тащить его в участок. С виду-то безобидный.
Рей удивился:
– Так отчего же передумали?
Чертов забулдыга сам напросился! – Эти слова Стоунвезер вытолкнул из себя, оставив в бороде крошки пирога.
– Как дошло, что я хулиганье собираю, так и попер прямо на меня: руки вперед, видать, наручников захотелось, прям тебе главный убийца на всем участке! Ну вот, думаю, небесам угодно, чтоб я притащил его на дознание. Юродивый какой-то. На все воля божья, я так полагаю. А вы что думаете, патрульный?
Того оборванца Рей представлял только в полете – по-другому образ не складывался.
– По пути он что-нибудь говорил? Чем вообще занимался? Болтал с кем-нибудь? Может, читал газету. Книгу?
Стоунвезер пожал плечами:
– Не приметил. – Пока он выискивал в карманах носовой платок, чтобы вытереть руки, Рей с отвлеченным интересом отметил торчавший из-под кожаного пояса револьвер. В тот день, когда губернатор Эндрю назначил Рея на службу в полицию, городское управление выпустило резолюцию, накладывавшую на нового патрульного особые ограничения. Рею не полагалось носить форму, иметь при себе оружие опаснее дубинки, а также арестовывать белых, кроме как в присутствии другого офицера.








