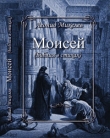Текст книги "Библия сегодня"
Автор книги: Меир Шалев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
У КАЖДОГО ТЕРНОВНИКА ЕСТЬ СВОЙ ЧАС
Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Гаризима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог! Пошли некогда дерева помазать над собою царя…Книга Судей Израилевых, 9, 7—8
Мы начнем эту главу с ряда высказываний, которым даже в Библии не найти равных.
«Мое самое главное качество – это моя способность принимать решения».
«В первом классе я твердо решил стать премьер-министром».
«Есть люди, которые говорят, что было бы преступлением оставить меня вне кабинета».
«Мой талант – не просто составлять планы, но и воплощать их».
«Мое великое преимущество, что я женщина».
«Я подобен дубу, глубоко пустившему корни в этой стране».
Эти смиренные признания в собственном величии выбраны из куда большего собрания высказываний разных израильских политиков, верующих, что им дарованы все необходимые способности для занятия министерских постов. Будь я наделен литературным дарованием, я бы сочинил для них притчу Иофама. Да только притча Иофама уже сочинена, и улучшить ее я не способен. А потому мы обратимся к Книге Судей, к Гедеону, Авимелеху, Иофаму и терновнику.
В былые времена в дни мира и покоя наши предки имели обыкновение давить виноград в точилах и молотить пшеницу на гумнах. Если Гедеон, сын Иоаса, молодой человек из Офры, тайком выколачивал пшеницу в точиле, то потому лишь, что у него не было иного выбора. Вот уже семь лет мадианитяне терзали Израиль, уничтожали урожаи, угоняли волов и вообще вели себя так, будто были там хозяевами. Страшась мадианитян, «сыны Израилевы сделали себе… ущелия в горах, и пещеры, и укрепления». Однако положение было невыносимым, и вскоре неблагодарный народ израильский возопил о помощи к Богу, которого покинул. Поскольку в те дни не существовало религиозных партий, дабы представлять Бога на земле, Бог взамен послал на землю одного из своих ангелов. Ангел явился к Гедеону и потребовал от него бросить плуг, чтобы стать вождем народа и спасти его.
Ангел был прямолинеен: «Иди с этою силою твоею, и спаси Израиля». Гедеон не преисполнился благодарности от такого назначения в критический момент и воздержался от старинного лозунга: «Бог избрал нас владеть!» Ответ его был уклончив: «Господи! как спасу я Израиля?» И добавил: «Племя мое в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Кроме того, он чуточку усомнился в военной помощи, обещанной ангелом. «Если я обрел благодать пред очами Твоими, – сказал он осторожно, – то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною». Он хотел получить от ангела доказательство, что тот действительно Божий вестник. Так что ангел был вынужден выбить огонь из камня и проделать еще несколько незамысловатых фокусов.
Тем не менее едва Гедеон убедился, что Бог вполне серьезен, и согласился принять мантию вождя, как этот сверхосторожный, неуверенный в себе паренек из Офры превратился в смелого полководца-новатора. Его ночные рейды, внезапные атаки и упорные преследования мадианитян стали азбукой военной тактики. Все помнят знаменитый тест с лаканием воды, который Гедеон провел у источника Харод. Английский командующий Орд Уингейт тоже изучил его тактические приемы и не только восхищался ими, но и успешно применял их во время Второй мировой войны сначала в Палестине, потом в Бирме.
Сенсационная победа Гедеона над мадианитянами принесла весьма соблазнительное предложение от народа Израиля: «Владей нами ты и сын твой и сын сына твоего; ибо ты спас нас из руки Мадианитян». Иными словами, они предлагали ему стать родоначальником династии – чего-то крайне необычного в тот период. Судьи, как правило, были героями дня или лидерами, которые возникали, чтобы найти выход из какой-то конкретной проблемы. Они выполняли свою задачу, некоторое время возглавляли народ, а затем умирали, не оставив преемника. Их отличала особая харизма и стремительная карьера. То есть израильтяне хотели от Гедеона не просто руководства, им был нужен царь.
И тут Гедеон опять показывает себя – как и в самом начале – порядочным человеком, лишенным и тени честолюбия. Отказ его категоричен: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами». Тут бы прославленному генералу удалиться на свою ферму, растить своих семьдесят сыновей и писать мемуары. Но он этого не сделал. Гедеон продолжал править еще несколько лет. Он учредил религиозный центр в Офре и так все устроил, что мадианитяне «не стали уже поднимать головы своей». В тексте также упомянуто, что «у него много было жен». Этот стих напоминает нам о том, что говорится во Второзаконии на тему о царях и их женах: «Из среды братьев твоих поставь над собою царя… и чтобы не умножал себе жен». Как бы то ни было, нам в душу начинает закрадываться подозрение, что отказ Гедеона владеть не был настолько уж решительным, и оно усугубляется, когда мы читаем следующие строки: «Когда умер Гедеон… не вспомнили сыны Израилевы Господа, Бога своего… И дому Иероваалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю».
Иными словами, отказ Гедеона («я не буду владеть вами»), вероятно, был вложен ему в уста автором, которому претила мысль о власти над Израилем царя из плоти и крови. Без сомнения, его наняла антимонархическая религиозная фракция в Союзе авторов Библии. Сам Гедеон, как мы видели, не отказался наотрез. Он продолжал править, не будучи официально помазанным и возглавляя своего рода теократическое правительство в Офре. Но после его смерти земляки, видимо, не приветствовали идею династии (они «не сделали милости» и т. д.). Чистый парадокс, но это предоставило шанс, какой бывает лишь раз в жизни, единственному внебрачному сыну Гедеона Авимелеху, родившемуся у его наложницы, жившей в Сихеме. И вот так солнце воссияло над терновником.
Родичи Авимелеха в Сихеме обеспечили ему базу в начале его политической карьеры, которая оказалась исключительно кровавой. Авимелех понимал, что после кончины отца должен действовать с молниеносной быстротой, если хочет чего-то добиться. А потому он попросил своих родичей в Сихеме обратиться к гражданам города со следующим призывом: «Что лучше для вас, чтобы владели вами все семьдесят сынов Иеровааловых, или чтобы владел один? и вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Ознакомившись с этим посланием, жители Сихема решили финансировать Авимелеха. Однако эти средства он использовал не для поддержания избирательной кампании. Авимелех «нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру, и убил братьев своих, семьдесят сынов Иеровааловых, на одном камне».
То есть борьба за наследование была короткой, и все получилось в ажуре. Авимелех убрал всех претендентов единым подлейшим махом и был официально помазан царем жителями Сихема и соседнего города Вефмилло. Три года он правил Израилем. Библия не сообщает нам никаких подробностей о царствовании Авимелеха. И только указывает, что злой дух разделил его и жителей Сихема. Сихемцы, вероятно, ожидали каких-нибудь проявлений благодарности, хотя бы в форме политического покровительства, если не за оказанные услуги, то, по крайней мере, в согласии с простенькими правилами непотизма. Можно заключить, что ожидания их были обмануты, так как «не стали покоряться жители Сихемские Авимелеху».
Мы забыли упомянуть о том, что во время избиения семидесяти сыновей Гедеона один уцелел. Иофам, самый младший, сумел спрятаться от Авимелеха и его головорезов, и теперь мы займемся им.
Одинокий, перепуганный после кровавой резни, в которой он потерял всех своих братьев, Иофам все-таки нашел в себе мужество выступить против Авимелеха и его кровожадных прихвостней в Сихеме. С вершины горы Гаризим возвысил он свой голос, крича жителям Сихема, и прочитал им свою знаменитую притчу: «Пошли некогда дерева помазать над собой царя». Сначала они обратились к маслине, затем к смоковнице, затем к виноградной лозе, но те все отказались. Так что в конце концов они пригласили терновник, бесполезный, неплодоносящий куст. Терновник, естественно, пришел в восторг. «Если вы по истине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею, – сказал он, – если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры Ливанские».
Такова была притча Иофама, и жители Сихема прекрасно поняли ее смысл. Авимелех был приравнен к терновнику, его отец и братья – к плодоносящим деревьям, которые отказались пойти в цари. Иофам предсказал, что Авимелех и его шайка плохо кончат, и не ошибся. Авимелех спалил город Сихем, а затем нашел свой конец от руки женщины на стене Тевеца, метнувшей ему в голову обломок жернова. Иофам бежал в Беер «и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха».
Однако притча Иофама – урок и для нас, поскольку соответствует нашей нынешней политической ситуации. Но чтобы полностью понять ее смысл, нам следует вернуться к ответам, которые давали деревья, отказываясь принять власть.
«Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» – вот как отреагировала маслина. Смоковница ответила в том же духе: «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» Лоза также отказалась оставить сок свой, «который веселит богов и человеков». Короче говоря, все они отказались от предложения, за которое уцепились бы тысячи нынешних терновников. Три плодоносящие, уважающие себя дерева были совершенно уверены в ценности пользы, которую они приносили обществу. Они не смиренны и не высокомерны. Они предпочли не править своей общиной или, как они насмешливо выразились, «скитаться по деревам».
Да, мысль, что они могут бросить свой обычный труд и удариться в политику, вызвала у них только насмешку.
Иофам выделил маслину, смоковницу и виноградную лозу как плодоносящие деревья, к которым воззвали все остальные. И не без причины. Библия рисует все три дерева с необычной любовью, уважением и даже восхищением. Эта троица неизменно фигурирует в позитивном контексте как символы плодоношения, пользы и достоинства. Выражение «каждый человек будет сидеть под своею виноградною лозой и под своею смоковницею» неизменно употреблялось для описания ситуаций в дни мира и процветания. Маслина фигурирует во фразах вроде: «Расширятся ветви его, – и будет красота его, как маслины» (Осия) или «Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами» (Иеремия).
Маслина и виноградная лоза появляются вместе, как уподобление благословенной Богом семьи: «Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей». И в притчах мы находим любимую смоковницу: «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее». А у Исайи написано про первую спелую смокву, созревшую еще до лета: «как скоро кто увидит, тотчас берет в руку, и проглатывает ее». Все три упоминаются и в первых Книгах: свою наготу Адам и Ева прикрывают листьями смоковницы; «свежий масличный лист во рту» голубя – это первый знак Ною, что потоп схлынул; и возделывание земли Ной начал с того, что насадил виноградник.
В ботаническом справочнике Иофама политика – бесплодный терновник, а политическая карьера привлекает тех, кто лишен способности приносить пользу обществу.
Истории Гедеона, Авимелеха и Иофама откровенно тенденциозны и направлены против идеи царства. Но если пророк Самуил говорит народу без обиняков: «и вы узна́ете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя», то эти истории раскрывают ту же заложенную в них идею через наглядные примеры. Приписываемый Гедеону отказ править народом, кровавое стремление Авимелеха к власти, насмешливый отказ деревьев «скитаться» – все это противостоит жалкому восторгу, с каким убогий терновник хватается за возможность властвовать над другими. Наш властитель – Господь, говорят нам. Те, кто ищут политические посты, очевидно, не в состоянии предложить обществу ничего по-настоящему ценного.
Видеть ли в Господе божество или символ высоких идеалов, мораль притчи в любом случае остается бесспорно преувеличенной. Тем не менее никуда не денешься: в сфере политики преобладают терновники. И чтобы распознать их, не требуется лупы. Все наши маслины, смоковницы и виноградные лозы словно бы пускают корни в других полях деятельности. Но наши терновники, хоть и бесплодны, зато очень крепки: им не опасен огонь, выходящий из их собратьев-терновников. Терновник Иофама, несомненно, гордился бы своими потомками. И следует сказать к его вечной чести, что сам он не выставлял свою кандидатуру в цари, но терпеливо ждал, пока с этим предложением не выступили другие. А вот у наших терновников даже такого терпения нет.
СБОР СРЕДСТВ – ДРЕВНЕЙШАЯ В МИРЕ ПРОФЕССИЯ
И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы находимся; Иерусалим пуст и ворота его сожжены огнем; пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении.
Книга Неемии, 2, 17
Царь Иудеи Иоас посмотрел в дворцовое окно. Его взгляд упал на безобразную трещину, змеящуюся по стене Храма. При более внимательной проверке выяснилось, что дом Господень начинает утрачивать не только свое великолепие, но и прочность. Кедровые балки потрескались. Некоторые ступени заметно рассыпались. Даже каменные стены начали крошиться. Ну а Храм был очень дорог сердцу царя, в свое время ученика первосвященника Иодая, и он решил, что необходимо принять меры для восстановления Храма во всем его былом величии. Ему не потребовалось много времени, чтобы додуматься до самого простого – начать кампанию по сбору средств среди населения. Вот так возник ОИП – Объединенный Иудейский Призыв.
«И собрал он священников и левитов, и сказал им: пойдите по городам Иудеи, и собирайте со всех Израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего». Однако святым сборщикам не очень улыбалось таскаться взад-вперед по пыльным дорогам царства, чтобы собирать деньги не в свой карман, и они не спешили выполнить порученное. Царь сделал выговор своему первосвященнику, а затем, мудро отказавшись от этой идеи, решил поискать другой способ подоить народ. И действительно, вскоре он нашел ну просто гениальный выход. «И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне… И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили, и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился». Доброхотные даяния были такими щедрыми, что Объединенной комиссии Дворца и Храма приходилось опорожнять ящик ежевечерне. Вскоре каменотесы и плотники, кузнецы и медники уже трудились над восстановлением дома Господня, причем осталось достаточно серебра для того, чтобы изготовить «сосуды служебные и для всесожжении, чаши и другие сосуды золотые и серебряные».
Пожертвования для сходных целей собирал века два спустя царь Иосия, но, собственно говоря, идея сбора добровольных пожертвований возникла гораздо раньше и восходит к временам Моисея, родившись сразу же после того, как евреи покинули Египет. Они только-только начали свои сорокалетние скитания по пустыне, когда было решено, что для религиозных целей совершенно необходим мобильный жертвенник. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого человека, у которого будет усердие». Ударение тут на «усердии», то есть на добровольности пожертвования, но, поскольку за кампанией по сбору средств стоял сам Святый и Благословенный, приношения были более или менее обязательными. Израильтяне тотчас начали нести «золото, и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситтим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника». Исход содержит трогательное описание, как «приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух», как несли семейные сокровища для святилища Господня и ткали для него дивные ткани. В те первые дни в пустыне евреев все еще вдохновлял великий национальный духовный идеал. Все они чувствовали, что имеют долю в святилище Господнем, что Господь охотно принимает каждое приношение, невзирая на его ценность. Разумеется, не стоит забывать, что довольно скоро после этого они столь же щедро жертвовали на отливку золотого тельца.
Библия повествует не только об общенациональных сборах средств, но и о помощи неимущим. Каждому еврею было заповедано поддерживать его менее счастливых собратьев в их нужде. «Не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою». Законодатель наставляет земледельца оставлять урожай седьмого, субботнего, года беднякам. А в обычные годы, «когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу». История моавитянки Руфи наглядно доказывает, насколько точно соблюдался этот закон.
Однако помощь бедным не была только делом закона. Это был нравственный императив. Пророк Исайя проповедовал: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, – одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Притчи считают милосердие одним из признаков «добродетельной жены»: «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». В псалмах про того, кто подает беднякам, говорится: «Правда его пребывает во веки; рог его вознесется во славе». Даже сам Бог известен, как тот, кто «пищу дает голодным».
Таковы самые ранние примеры традиционного еврейского отношения к беднякам. Существует множество устойчивых выражений, сложившихся за века Изгнания и показывающих, что подобный принцип был частью национальной этики. Например, «заем без процентов», «тайная милостыня», «ящик для подаяний», «филантропия», «деньги на мацу», «раздача милостыни», «дни кормления», «еда бедняка».
Идея заключалась в том, чтобы помогать истинно нуждающимся. Но среди евреев всегда само собой разумелось, что быть бедняком – не такой уж великий подвиг. Хлеб подаяния, как было сказано, горше желчи, и евреи молились о том, чтобы им не довелось его есть. Вот почему меня не перестает удивлять, что Государство Израиль неизменно проявляет бесстыдную готовность строить государственную экономику на подачках. Наши министры финансов ведут себя как нищие, а наши эмиссары – как побирушки, хотя и носят замечательные костюмы и летают на самолетах. И о своих успехах они сообщают с великой гордостью. Видимо, традиционная фигура еврейского нищего – голодного, униженного, молящегося о наступлении лучших дней – уступила место чванному пятизвездочному попрошайке, пускающему по кругу, фигурально выражаясь, шелковый цилиндр.
Неемия, сын Ахалиина, доказал, что это можно делать иначе. В то время еврейская община в Палестине была небольшой, бедной и слабой, однако под его руководством она старалась воздерживаться от выпрашивания пожертвований у богатых собратьев за границей.
Читатель, конечно, помнит Ездру Книжника, который иммигрировал в Святую Землю из персидского плена примерно два с половиной тысячелетия назад. С тех пор мало что изменилось: большинство евреев в изгнании с честью проводило Ездру и его компанию, но сами они предпочли остаться там, где были, – у персидских «котлов с мясом». Для очищения совести они помогли отбывающим «серебром, и золотом, и иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме». Вскоре после этого новая обосновавшаяся в Палестине община оказалась в тяжелом положении. Ездра, их духовный лидер, не справлялся с неотложными каждодневными проблемами и с непрерывными конфликтами между его паствой и аборигенами.
Неемия тогда занимал высокий правительственный пост в Сузах, столице Персии. Он был виночерпием царя Артаксеркса. Гости из Иудеи сообщили ему, что Иерусалим и еще живущие там находятся «в великом бедствии и в уничижении; и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Вне себя от горести Неемия попросил у царя разрешения посетить старую родину, и царь дал согласие. Неемия отправился в путь, сопровождаемый отрядом персидской конницы. В кармане у него было письмо с назначением его правителем, и, кроме того, обеспечивавшее его лесоматериалами для восстановления Храма. В Иудее он нашел бедствующую отчаявшуюся общину, сосредоточенную вокруг полуразрушенного города и окруженную враждебным местным населением.
Как правитель Неемия мог бы предпринять некоторые шаги для поднятия духа общины, шаги, которые любой израильский министр финансов предпринял бы и глазом не моргнув. Он мог бы, например, снизить цену на колесницы или отправить делегацию для сбора средств среди богатых собратьев в Персии. Делегаты могли бы объяснить персидским евреям, что их пожертвования будут употреблены исключительно на ремонт Храмовых стен, даже если на самом деле в виду имелись совсем другие цели. Они могли бы попросить у дружественного правительства в Сузах выделить им дополнительный заем или предложить евреям после того, как все пожертвования были собраны, приобрести облигации Храмовой стены с гарантированной выплатой процентов.
Неемия ничего из вышеперечисленного делать не стал. У него были свои идеи, представлявшие собой необычное сочетание пророческого провидения с прагматизмом. Он был опытным администратором, но не технократом. И сумел внушить обществу, что свою энергию ему лучше всего направить на выполнение полезных национальных проектов. Неемия сумел убедить евреев Иудеи восстановить Иерусалим и Храм собственными руками. Он не разрешил им ограничиться только денежными взносами и не обратился за помощью заграницы. Он сказал: «Пойдем, построим стену Иерусалима». Потом сам засучил рукава и взялся за работу.
Подобно многим великим идеям, идея Неемии была на удивление простой. Каждый человек, или семья, или селение, или профессиональное объединение брали на себя реконструкцию такого-то участка стены. Каждый по способности. Богатые и влиятельные вроде Елияшива, первосвященника, и его семьи построили Овечьи ворота и вставили двери. Шаллум, сын Галлохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, построил кусок стены вместе с дочерьми. Читателю предоставляется вообразить, как важный начальник дает указания своим потеющим дочкам, пока они перекатывают камни с места на место или стоят на лесах, передавая ведра с глиной. Малхия, сын Рехава, начальник Бефкаремского округа, чинил Навозные ворота: «…он построил их, и вставил двери их, замки их и засовы их».
Дальние города Иудеи также прислали добровольцев для участия в восстановлении. Иерихонцы построили часть возле Овечьих ворот. Каменщики из Фекойи «чинили… на втором участке, от места насупротив большой выступающей башни до стены Офела». Текст содержит кое-какие любопытные сведения о фекойцах: «знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать на Господа своего». Иными словами, богачи Фекойи остались дома. Быть может, они предпочли более удобный способ, послали чек почтой – или как там это делалось в пятом веке до н. э. А вот жители Заноаха, должно быть, явились в полном составе, потому что они чинили ворота Долины: «они построили их, и вставили двери их, замки их и засовы их; и еще чинили они тысячу локтей стены до ворот Навозных».
Неемия воззвал ко всему народу, а не только к богачам. Он устроил так, что в восстановлении Иерусалима могли участвовать даже беднейшие. Ведь для него немедленное восстановление города не было главным – самым важным было возрождение духа общины. Многозначителен пример Азарии, сына Маасеи, – он «чинил… возле дома своего». Это вся информация, которую предлагает нам текст, но из него со всей очевидностью следует, что Азария не был богат. У него не было средств отстроить ворота или башню. Но когда работы были завершены, даже простой человек Азария знал, что в стенах есть и частица его труда. Серебряных дел мастера и торговцы, в большинстве своем тоже бедняки, взяли на себя ремонт стены от углового помещения до Овечьих ворот.
В восстановленном городе царило ликование. Когда аммонитяне и арабы услышали об успешных восстановительных работах, они «сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим». Люди испугались, и некоторые сомневались, что сумеют продолжать восстановление города и одновременно оборонять его. Среди тех, кто пришел издалека, пошли разговоры о возвращении в свои безопасные селения. Но Неемия спас положение. Он организовал военные отряды из строителей. «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый из строивших препоясан был мечем по чреслам своим, и так они строили».
Пробудив в людях столь неукротимый дух, Неемия увидел, как его великий проект стал воплощаться в жизнь. Через пятьдесят два дня стена была закончена. Все ее части были полностью восстановлены, и, когда измученные строители, утирая потные, запорошенные пылью лица, наконец подняли глаза, чтобы осмотреть дело рук своих, они поняли, в чем заключалось величайшее достижение их лидера. Ему удалось укрепить их дух. Он дал им видение будущего и вселил в них решимость. Бедные кузнецы и энергичные дочери Шаллума, жители Заноаха из горного края, священники, начальники округов и торговцы объединились для создания нового общества.
Величие Неемии отражено еще в двух других его свершениях. Во-первых, он был достаточно дальновиден, и в процессе восстановления стены увеличил ее протяженность, так что внутри нее оказалось новое свободное пространство. И когда строительство завершилось, он сказал: «Город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены». Конечно, Неемия рисковал, расширив город больше, чем требовалось в тот момент, но таким способом он объявил миру, что народ Израиля возвращается в свой город и на свою землю навсегда. Городу еще предстояло застраиваться и заселяться дальше. Это прекрасно поняли как возвратившиеся изгнанники, так и их враги.
Второе его свершение носит социальный характер. Многие бедняки, чтобы избежать голодной смерти, наделали долгов. Заплатить долги они не сумели, и богатые кредиторы выгнали их из родных домов. Неемия воспользовался пробудившимся национальным духом и убедил «знатнейших и начальствующих» вернуть поля и виноградники их прежним владельцам.
Таких успехов Неемия добился не только благодаря величию своих планов, но и с помощью собственного примера. Он и его слуги принимали активное участие в строительстве стены и ее обороне, появляясь всюду, где возникала нужда. Кроме того, он отказывался извлекать какую бы то ни было личную выгоду из своего положения правителя: «В продолжение двенадцати лет, я и братья мои не ели хлеба областеначальнического. А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ, и брали с них хлеб и вино, кроме сорока сиклей серебра».
Не мне советовать министрам Израиля ходить путями Неемии. Однако почему лидерам страны, которая клянчит у своих соотечественников в изгнании, требуется так часто повышать собственные оклады?
Неемия не отличался скромностью. Он прекрасно знал себе цену. История его рассказана в первом лице, и он то и дело повторяет: «Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего!» Мудрецы не одобряли того, что Неемия «соблюдал свои интересы». Они предпочитали Ездру Книжника. Опекал ли Бог Неемию или нет, нам знать не дано. Да это и неинтересно. А интересно то, что Неемия получил самый замечательный памятник, какой только мог предложить ему еврейский народ, – место в Библии. К его чести, он упомянут в его собственном отчете наряду со множеством других людей, которые восстановили Иерусалим 2500 лет назад, людей, которые, презрев филантропию, просто засучили рукава. Таких людей, как Езер, сын Иисуса, Ханания, сын Шелемии, Ханун из Заноаха, Садок, сын Иммера, будут помнить среди прочих еще долго после того, как последний из израильских сборщиков пожертвований от моря и до моря будет забыт.