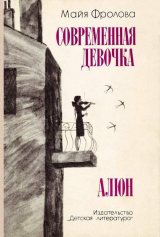
Текст книги "Алюн"
Автор книги: Майя Фролова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Увлекшись непривычным самоанализом, Алюн пропустил звонок, встрепенулся, когда мама торопливо прошла к двери. Звонок повторился. Алюн присел за холодильником – наверняка разгневанная делегация из школы, вырвут его из защитного угла, поведут на расправу.
Услышав слово «телеграмма», успокоился, высунулся из закутка и застыл, не понимая, что происходит с мамой. Она плотно прижалась спиной, затылком к стене, изо всех сил стараясь не сломаться, не сползти, смотрела на Алюна, не видя его, и Алюну вспомнилось изломанное лицо Лизки, чем-то сейчас похожее на мамино – лицо потрясенного человека, пытающегося осознать происшедшее и еще не верящего в беду.
Алюну стало страшно: неужели так – из-за него, но почему и откуда телеграмма?
Мама хотела оторваться от стены, шагнуть – и не могла. Алюн бросился к ней, но она отчужденно, неприязненно отвела его рукой, все-таки шагнула и пошла деревянными ногами в комнату, к телефону. Он плелся следом, близко, боясь, что мама упадет. Но она не подпускала его, не хотела видеть в своем горе (случилось горе, это понятно), он был недостоин разделить его. Алюн хорошо понял отстраняющий жест мамы, топтался на пороге, не решаясь спросить, дожидаясь, что мама скажет отцу, она, конечно, звонит ему.
Но мама не стала читать телеграмму, срочную, с голубым кантиком, которая, как опрокинутый кораблик, отражалась в полированном столике. Сказала твердым, застывшим голосом:
– Приезжай немедленно, надо лететь к Аркадию… – и положила трубку, хотя отец, конечно, задавал вопросы, просил объяснить.
Родители улетели в тот же день, и Алюн остался один, не наказанный, не прощенный ни дома, ни в школе. Собираясь, родители будто забыли о нем. Впервые оставляя его, не давали никаких наказов, никаких запретов. Между ними выросла беда. Какая – он не знал. Не понимал, что может случиться с Аркадием в армии, когда нет войны, а есть командиры, порядок и дисциплина. Но он видел, что эта страшная беда для родителей слилась с его виной, чувствовал себя так, будто его вина стала причиной того неведомого, что случилось с Аркадием, и теперь он родителям совсем не нужен, может уезжать, убегать, плясать, делать, что хочет, – им уже все равно. Их душевные силы, отпущенные на него, иссякли, он слишком быстро, бездумно расходовал их. Теперь они берегли силы, чтоб поддержать друг друга и встретить, перенести то, что ждало впереди. Из коротких слов телеграммы, вызывающих срочно в часть, можно было предполагать самое страшное, так как вызывают родителей на такое расстояние, конечно, не по пустяку.
Алюну оставили деньги на еду. О школе, о его делах – ни слова. Мама вообще его не замечала, отец на молящий взгляд «А как же я?» от порога жестко сказал:
– Ты – как хочешь. Тебе жить – тебе решать…
Исключили его из общей беды, как из семьи. Вот и расплата.
Один. Никто не руководит. Не поучает. Не давит. Можно наконец поесть. Весь день ничего во рту не было. Можно что угодно – танцевать, пить вино – деньги ведь есть, ходить или не ходить в школу. Но ничего этого не хотелось, а одному – страшно, будто ты не дома, а в темном лесу. Наверное, дом человека – это когда в нем есть еще кто-то, кроме него самого.
Когда же он узнает, что случилось с Аркадием? Что могло с ним случиться? Да что угодно! Ведь теперь Аркадий не тот испуганный кролик (Аркадий сам себя так называл), каким был в первые месяцы, он механик-водитель танка, второго класса. На учениях Аркадий все выполнил отлично, его хвалило командование (присылал вырезку из армейской газеты с фотографией: он возле танка). А танки такие, что под водой по дну идут. Когда танк под водой, залезать в него надо через высокую трубу. Вдруг труба эта сломается или застрянешь в ней?
Мало ли что может случиться, если человек занят таким сложным делом – водит танк! Это с ним, с Алюном, ничего не случится. Одни ничтожные выходки.
«В жизни всегда есть место подвигу» – привычное выражение, которое скользило из сочинения в сочинение, не задевая души, вдруг наполнилось живым смыслом. Да, да, он читал и про летчика Юрия Козловского, который почти месяц полз по тайге к людям, выбросившись из самолета, перенес сложнейшие операции и выжил, и про студента Мишу, выносящего с поля на руках снаряд, чтоб спасти своих товарищей. Снаряд разорвался… И про многое другое «классная» Елена Ивановна, хочешь не хочешь, заставит прочесть, и Лизка читает такие вещи на классных часах, на политинформацию ребята приносят вырезки из газет про всякие подвиги в мирное время. Он относился к ним с иронией – какие-то абстрактные люди, их далекие подвиги. Подумаешь! И вдруг – на месте каждого из них можно представить Аркадия. Может, он участвовал в какой-нибудь операции по спасению населения от наводнения или тайги от пожара? Искалечен, обгорел?
А он, брат, писал ему пустые, неискренние письма. Вся его жизнь, все переживания казались Алюну сплошным, очень длинным, очень одинаковым пустяком, растянутым на множество одинаковых дней. А в жизни есть какие-то события, важные, значительные, которые сразу отметают все ничтожное, начинают пробиваться тяжелые, важные вопросы, требующие искренности и мысли. Для чего, например, он сейчас один в этой квартире? Для чего он вообще? И почему обязательно должна случиться беда, чтоб человек начал задавать себе такие вопросы?
Из коридора почему-то не мог уйти, слонялся от входной двери к холодильнику и обратно. Зацокал в подъезде почтовым ящиком почтальон. Машинально взял ключ, вынул почту и вздрогнул – письмо от Аркадия! Ему!
Читал торопливо, перескакивая через строчки, будто мог узнать, что случилось с братом, хотя знал, что письмо написано раньше. Хорошее дружеское письмо, с обычным описанием службы, воспоминаниями о семейных событиях (Аркадий все-таки здорово скучал по дому) – это всегда перемешивалось в его письмах, – и совет Алюну был постоянным – заниматься самовоспитанием, и просьба – жалеть и беречь маму… Уберег…
Может быть, только сейчас Алюн смог бы написать брату настоящее письмо, всю, всю о себе правду, и начиналось бы оно словами: «Я еще ничего, ничего о себе не знаю!»
Он действительно ничего не знал о себе, кроме одного: какая-то сила, что-то страшное вышибло из привычных ощущений, взяло за шиворот, встряхнуло – и все в нем смешалось, он уже не Алюн…
Теперь он готов от всего приятного отказаться, стать таким, как хотят они все, лишь бы вернуть прежнюю маму, навсегда исключить день, когда пришла телеграмма. Думая, он все больше верил, что это он виноват в налетевшей на них беде, его лживость, изворотливость. Он теперь переживал то же, что и Брат Молчаливого Волка в единственной по-настоящему взволновавшей его книге, который, конечно, не был виноват, что чьи-то лыжи подрезали слепящую корку склона и хлынула снежная лавина, похоронив девочку Яну… Вроде никто ни в чем не был виноват, и все-таки все они были виноваты, потому что не может не быть виноватых, когда погибает человек.
Так вот как пишутся хорошие книги, вот почему нужно их читать – они никогда насовсем не уходят, возвращаются снова, выждав подходящий момент, чтобы объяснить, показать тебе тебя самого. А может, помочь, утешить: были, есть еще люди, которым больно, горько, и все-таки они все пережили, перебороли, стали другими, потому что оставаться прежними уже невозможно.
Он ничего сейчас о себе не знал, кроме одного: прежним не будет, не сможет.
Ну почему должно случиться что-то трагическое, чтоб человек поглядел на себя, о себе подумал? Где же раньше была его коробочка, его серое вещество? А может, ничего и не случилось? И с Аркадием – ничего, ну мало ли что, заболел – так поправится, родители проведают его и вернутся, и все его, Алюна, грехи за это время забудутся, все снова будет хорошо и приятно? А школа?
Да, еще ведь есть школа, есть все то, что он вытворял на Холме Славы, оно никуда не денется – и Лизкино перекошенное лицо, и то, как ребята убегали от него, стараясь отмежеваться, и презирающий крик «Плясун!», – пока он не выхлебает эту кашу, не расплатится за все…
Алюн томился в квартире, ходил от окна к окну, от двери к двери, вышел во двор. Притихший теплый осенний вечер, свобода, призывно мерцающие огоньки бульвара, знакомые голоса ребят, его дворовых, не школьных, товарищей, с ними можно просто потолкаться по бульвару, посидеть рядом, чтоб не одному. Они, наверное, ничего не знают, так что ничего объяснять не придется, но, постояв в нерешительности у подъезда, Алюн побрел в дом. Везде, везде сейчас ему будет плохо и одиноко.
Утром он не пошел в школу. И не потому, что боялся. Ну, объяснит, ну, скажет, и не так, как прежде – лишь бы отделаться. Скажет, как есть на самом деле: да, это свинство. Да, это кощунство. Ему – стыдно. И – страшно… Может, именно из-за этого кощунства стряслась с братом беда… Мистика? А что он знает о взаимосвязи жизненных явлений?.. Нет, нет, конечно же, его поступок и телеграмма никак не связаны, и все-таки отделаться от мысли, что он тоже виноват, не мог. Наверное, чтоб не испытывать вины, человек изо всех сил должен стараться быть хорошим, чтоб, в случае чего, хотя бы знать, что делал все как надо.
Алюн не привык столько думать, голова его просто раскалывалась, не мог так долго оставаться один. Но и в школу или еще куда-то к людям идти тоже не мог.
Алюн вышел из дома, направился в противоположную от привычного маршрута сторону, дошел до железной дороги, которая как бы отсекала крутой насыпью новый жилой район большого города от всего, что городские жители называют «природой», – от соснового леска, насаженного давным-давно, ровные ряды деревьев уже нарушились, сцепились кустами, разобщились полянками, перепутались тропками.
Родители, как и другие люди, живущие поблизости от этой «природы», ценили возможность в воскресные дни прямо от дома пешком, без надоевшего транспорта, дойти до леска, побродить между деревьями, подышать сосновым воздухом, посидеть у костерка на поляне, приготовить какую-нибудь лесную еду: кулеш с дымком в котелке, шашлык над костром.
У них была своя, заветная полянка. Аркадий не раз в письмах вспоминал ее, даже как-то написал, что пока у него в жизни ничего лучше этой полянки не было – все вместе, вся семья, медленный неторопливый день, разговоры, еда у костра, вкуснее всякой другой на красивых тарелках, за накрытыми скатертью столами.
Вот теперь Алюн мог бы согласиться с братом: да, было хорошо, никакой беды, а тогда он томился, не понимал умиленных этой чахлой природой родителей, стремился умчаться к своим товарищам и очень злился на письма брата, считал, что они написаны в назидание ему: разве можно искренне вздыхать по скукоте с родителями в воскресный день, да и мама читала эти места в письмах Аркадия подчеркнуто назидательным тоном.
А в общем-то, родители ничего плохого ему не делали, только докучали контролем и поучениями. Лучше бы взяли хорошенько за шиворот! Да что теперь перемалывать это! Хотя бы Аркадий был живой!
В этот лесок он приходил не только с родителями. Во время летних каникул, в перерыве между пионерлагерем и поездкой с мамой по турпутевке, когда родители были на работе, он несколько раз сам бывал здесь со своими дворовыми друзьями. И даже был магник с любимыми ритмами, и девочки, и бутылка вина, одна на всех, по глотку прямо из горлышка, затуманенное блаженство, то ли от этого глотка, то ли от любимых танцев с девочками, то ли от всей бесконтрольности и вольности – эх, хорошо, хорошо жить!
С упоением вытаптывали траву, острили и выламывались друг перед другом, мальчики и девочки, и ничего Алюну лучшего в жизни было не надо. Но эту развеселую компанию на свою полянку он не водил. Наверное, удерживали письма Аркадия. Родители об этих веселых моментах в его жизни не знали.
Наученный горьким опытом после посещения Гузьки, он уж постарался, чтобы никакого запаха родители не уловили, да и оставался ли запах от одного-двух глотков?
Алюн, с досадой на себя за эти воспоминания, потоптался на месте, будто сбрасывая их и притаптывая ногами, чтоб не привязывались. Пританцовывая, пошел дальше.
Ему было тяжело, горестно, горбились плечи, голову клонило к земле, а он все равно шел-танцевал, по-другому просто не мог. «Ну, затанцевал!» – одергивали его родители, раздражаясь, когда приходилось идти вместе. И сейчас, пританцовывающий, вихляющийся, он выглядел нелепо и жалко в короткой курточке с короткими рукавами, со своим кукольным личиком, которому природой не дано быть печальным, а оно все-таки печально, растерянно, несмотря на румяные щеки с ямочками…
Все деловое, шумное, чем переполнялся город с утра, осталось позади, за насыпью. Лесок в утренней тишине и задумчивости, в долгожданной отъединенности от людей казался усталым и печальным.
Никогда прежде Алюн не замечал природы, в книжках пропускал все красивые описания. Река для него была вроде большой ванны, в которой привольно купаться, этот лесок – местом удобнее подъезда, дающий возможность уединиться, повеселиться без помех. А сейчас почему-то защемило душу от этих печальных, множество раз обижаемых людьми деревьев, как в авоське, запутавшихся корнями в стежках-дорожках, общипанных, закиданных консервными банками кустов, от паутины, развешанной глупым трудягой-пауком в таком месте, где имеют право распоряжаться лишь люди.
Алюн постоял перед этим хрупким бесполезным сооружением, обошел куст с другой стороны. Шел медленно, ни о чем сложном уже не думая: все боли и сомнения отходили, отодвигались в утреннюю прохладную тишину, на душе становилось как-то печально-хорошо, вроде он сейчас окончательно приобщался к незнакомому прежде миру, становился частицей и этих сосен, их тихой задумчивости, мудрого упорства жить в человеческой суете, и не только терпеть, но еще пытаться что-то дарить, украшать, и всего-всего, что вокруг, позади и впереди.
Лес становился чище, на кустах алыми пуговками мелькали еще не везде обобранные ягоды шиповника. Прошлой осенью и они с мамой и Аркадием выщипывали с веток ягоды, мама вялила их на веранде и потом добавляла в настой «успокоительного чая» витаминный напиток из шиповника. Аркадий, мама… Сколько мама делала для них, для него…
Алюн уперся лбом в холодный шершавый ствол сосны, стоял, покачиваясь, сознательно, с болью вдавливаясь в дерево, испытывал от этого облегчение.
Их семейная полянка была с другой стороны леска, мама все-таки отыскала более уединенное место, где реже оседали шумные компании, меньше было мусора и суеты, а сквозь деревья проступало поле, небо, какие-то сады и дачные низенькие постройки вдали.
К Алюну опять прихлынула та волна нежности и виноватости перед мамой, которую он уже однажды ощутил, но не сумел выразить, не посмел. Как хотелось ему тогда обхватить ее скорбную голову, как хотелось ему это сделать сейчас… Как там мама? Аркадий? Отец?..
Алюн снова приник к дереву, жестко, с болью, и было ему скорбно и прекрасно, как никогда прежде, что-то в нем струилось, растекалось, омывая какие-то новые, чистые и трудные берега, и, достигнув лица, вдруг горячо и облегчающе хлынуло из глаз.
Обессиленный, он сидел потом долго, бездумно, прижавшись спиной к сосне, а перед ним было чистое, будто выметенное поле, за полем, в прозрачных, оголенных деревьях сквозили цветные дачные домишки, покинутые до следующего лета, а еще дальше – небо, незнакомо влекущее, втягивающее в глубину, приобщающее к движению и тайне. Идти бы туда – неведомо куда, только чтоб знать: там все начнется сначала, по-новому, чисто и хорошо.
Прижавшаяся к дереву спина не чувствовала тепла, что-то другое влекло к живому стволу, который дышал затаенно в глубине, поэтому, наверное, у дерева было не так холодно и одиноко, не хотелось отрываться, уходить, искать чего-то другого. Не осознавая, Алюн прятался за этой тишиной, за деревьями от всего, что нужно было делать и решать, когда наконец оторвется, поднимется, пойдет домой – куда же еще, не к горизонту, в самом деле! Нечего тянуть, надо все сделать до возвращения родителей, пройти через все и утвердиться в себе новом, еще не совсем понятном, но неизбежном. Как это произойдет, он не знал, но знал одно: вихляться в своем «застенке» больше не сможет, смотреть на маму невинными глазами и врать, бесконечно врать, выгораживаться тоже не сможет и многое другое, что было раньше, не сможет.
Алюн встал, не отряхнув штанов, побрел по опушке. Вот только еще заглянет на их полянку – и надо возвращаться. Пусть трудно, пусть стыдно, но все равно будет что-то делать… Пойдет в школу, к последнему уроку еще успеет, сейчас около полудня, бледное солнце едва коснулось верхней точки своего малого осеннего полукруга. Пусть останутся после уроков ребята, Лизка, пусть придет Елена Ивановна, завуч, кто хочет – все выложит о себе, все выяснится, он примет от них все, что решат, что сочтут нужным, зато он будет не один.
Он шагал, уже не вглядываясь ни в себя, ни в то, что было за полем, что таилось в деревьях, по привычке приплясывая и вывертывая ноги. Руки свободно и радостно подхватили привычный ритм тела, оберегая от заносов в сторону, как-то сами собой выпрямились плечи, поднялась голова, растерянность и мучительная мысль сошли с лица, оно, румяное, светилось ямочками, было привычным, и все же не таким, как раньше: это было лицо человека, решившегося на что-то трудное и нужное и потому просветленное и даже умиротворенное.
– А, Плясун, привет!
Он налетел на этот возглас, как на колючую проволоку, руки застыли в неоконченном движении вперед, он еще не мог понять, что это и откуда, хотя ясно видел приближающихся к нему ребят, и что-то знакомое в их лицах, и их приветливость и недоумение от того, что он смотрит на них, не узнавая.
– Плясун, да ты что?!
Гузька! Гузька и его приятели, с которыми он провел когда-то памятный вечерок, которых искал и не нашел тогда, много раз вспоминая и сожалея, что они так бесследно исчезли. И вот – они перед ним, их куртки, гитара, что-то еще на разостланных газетах валялось посреди полянки, и эта полянка была их, заветная – мамы, Аркадия, отца. Дымился костерок на том же, выжженном их костром месте. Незаметно, уже не стремясь к ней, он все-таки пришел сюда, как бы завершая круг своих новых ощущений.
– А мы тебя искали, – весело балагурил Гузька, – я даже ходил на витрину «Детского мира» глядеть, не устроился ли ты туда манекеном. Ну, идем, идем!
Его подхватили под руки, усадили возле разложенной на газете закуски. Гузька плеснул в единственный стакан вина, протянул ломтик хлеба с кружочком колбасы.
– Давай, подкрепись. Мы – уже…
Алюн машинально глотнул, стал жевать, не ощущая ни запахов, ни вкуса, будто набивал рот ватой. Он еще не утратил своего нового состояния, с которым несколько минут назад шагал по лесу, и сейчас все делал механически, будто вдруг отключили в нем одну пружинку и включили другую, но он еще по инерции живет, как велела прежняя, хотя поступает, как требует другая.
Почему они тут, в такой ранний час, и уже навеселе, и им хорошо, и ничто их не мучает, и почему он не может присоединиться к этой их беззаботности, чтоб ему было просто так, ни от чего, хорошо и весело, как бывало много раз прежде? Тоскливое, ноющее поднялось откуда-то снизу, от живота, заломило в груди, он пятерней обхватил горло, сдавил, чтоб боль не перекатилась выше, в голову, не разломила ее на куски. Он сидел с глупым, растерянным, напряженным лицом, уставившись круглыми глазами перед собой, а они, ребята, уже смеялись над ним, не понимая, не воспринимая его иным, не Алюном.
– Алюн, очнись! – теребил его Гузька за волосы. – Хватит тоску наводить, давай-ка спляшем, у тебя это здорово получается!
– Не могу… Телеграмма… С братом, Аркадием, несчастье… Мама…
– Плевать на все! – прервал его Гузька, даже не вникая в смысл того, что пытался объяснить Алюн. – Плевать, слышишь? Веселись, танцуй!
Они, трое, подхватили его, поставили на ноги. Им действительно сто раз плевать на его беду, на Аркадия, на маму, они не хотели его слушать, они хотели, чтоб он смешил, веселил их, как тогда, вечером.
Гузька схватил гитару, лихо забренькал, зацокал языком, задергал плечом, запритопывал, а двое других закружили Алюна, затолкали с двух сторон.
– Ну, пляши, пляши, давай, Плясун, это твоя стихия, сам говорил. Не ломайся! Брось умничать, ни о чем не думай, все будет хорошо, все будет хорошо! Эх, ого-го-го! – речитативом, под гитару выкрикивал Гузька, выламываясь перед ним. Лихая удаль рвалась из него, захватывала его товарищей, они то бросали Алюна, кружились и прыгали сами, вколачивая в землю свою лихость, задирая к небу орущие рты, мотая головами, руками, то снова цеплялись за него, толкали, гнули, втягивали в круговерть, в которую он сам еще недавно бросался с наслаждением и бездумностью. И уже что-то захватывалось в нем, поддавалось, втягивалось помимо его воли, но он не мог, не смел – перед Аркадием, перед мамой, перед самим собой, решившим жить по-другому.
Алюна замутило. Ему казалось: если они не перестанут, он сейчас разорвется на две половины, на двух Алюнов, которые отталкивались в нем друг от друга, и упадет, а Гузька с товарищами затопчут его своими безумными ногами.
– Хватит! – заорал он изо всех сил, чтоб сбить их шум, их движение. – Хватит!
Остановились мгновенно. Облегченно замерли кусты, деревья, а тяжелое разгоряченное дыхание, казалось, шло не от запыхавшихся парней, а от истоптанной, вздрагивающей земли.
– Ты что психуешь?
Из них троих Алюн реально воспринимал только Гузьку, двое других были приложением к нему. И именно Гузька, минуту назад веселый, бесшабашный, больше всех хохотавший его приятель Гузька надвигался на него недобрым безулыбочным лицом.
– Ты что, смеешься над нами, воспитываешь? Может, в детскую комнату милиции побежишь, донесешь, что мы здесь развлекаемся?
Что это Гузька? Зачем? Ведь просто невозможно сейчас так, разве нельзя понять человека?
– Гузька, я пойду, мне надо… – просительно-жалобно сказал Алюн, пятясь от недоброго лица Гузьки. – Понимаешь, надо, не могу я сейчас веселиться…
Но Гузька ничего не хотел понимать.
– Меньшинство подчиняется большинству, – изрек он категорически. – Нам хочется плясать – и ты пляши. Ну!
Гузька топнул ногой и уже так, без гитары, выбивая такты, поцокивая языком, щелкая пальцами, завертелся вокруг Алюна, но лицо его было недобрым и голос, которым он понукал Алюна (Ну! Ну!), будто кулаками толкал в лицо.
Алюн не двигался. Его вечно танцующие сами по себе ноги приковались к земле – не оторвать. И чтоб не видеть назойливого Гузьку и два других мелькающих чужих лица, он спрятал голову в согнутые руки, будто защитился острыми локтями от этой недоброты и назойливости.
Кто его ударил первым, он не видел. С одной стороны, с другой, в зад ногой так, что он пропахал защитно сложенными локтями землю и уткнулся носом в теплую золу.
Как они скрючивались над ним, задыхались от смеха, хватались за животы!
Поднимаясь, он отчетливо видел себя со стороны – испуганного, с черной блямбой на носу, всю свою человеческую жалкоту – и возмутился, захотел быть могучим, высоким, чтоб не словами, а могучими руками вытряхнуть из них это судорожное веселье, вышвырнуть их с заветной полянки!
Но ничего этого он не мог, даже голосом не мог возмутиться так, чтоб они поняли, сказал – как проскулил:
– За что? Что я вам сделал?
– Ничего, – доброжелательно ответил Гузька, стирая ладонью последние всхлипы смеха с лица. – И мы тебе ничего. Вот потанцуешь немножко – и отпустим, не боись. Так что валяй, не тяни!
Но танцевать он не стал, и его снова били, на этот раз не так добродушно, с каким-то удовольствием всаживали в него свои башмаки и кулаки. Поднимаясь с земли, с трудом и болью, и видя перед собой улыбающиеся разрумянившиеся лица Гузьки и его друзей, в которых проступало подзадоривающее любопытство к нему (ну, а что ты будешь делать дальше?), Алюн понял, что они еще и еще будут валить его, бить, пока не остынут, не насытятся. Измочалят его тут, может, даже убьют. И будь он с ними сейчас заодно, таким, каким он раньше хотел быть всегда – беззаботным и веселящимся, а на его месте кто-то другой, наверное, и он вот так же смог бы бить и унижать этого другого, ни за что, ради развлечения, взвинчивания нервов, за компанию. Подумаешь, пусть попляшет для общества человек, что ему сделается!
Будто кто-то другой вскинул руки Алюна вверх, со сжатыми кулаками, он выпрямился так, что зазвенела спина, и пошел на Гузьку. А тот отступал, хлопал перед его носом ладошками, вызывал, понукал на танец, сам слегка выкидывал ноги, и Алюн, тоже подтанцовывая под эти похлопывания и выкидывания, приблизился к Гузьке вплотную, они молча, с застывшими лицами и уставленными зрачок в зрачок глазами выламывались друг против друга.
Сейчас, через мгновение, танец этот должен был завершиться дракой. Нестерпимое напряжение от Алана передалось Гузьке, напряженно, недвижно стояли двое других, предвкушая зрелище.
Вдруг Гузька изогнулся, изловчился, крутанулся вокруг Алюна и с силой лягнул его. Гузька не принял серьезности момента, напряжение лопнуло, измельчилось, и, подымаясь, снова жалкий и униженный, Алюн услышал Гузькино насмешливо-миролюбивое:
– Ну, танцуй отсюда! Да поживей, пока не передумал!
И хохот, ржание троих вдоволь повеселившихся людей…

Алюн плелся домой, ни о чем определенном не думая – все чувства и ощущения были в нем смяты. Мысли всплескивались и пропадали, упорно держалось только состояние безнадежной раздавленности.
Ну почему, когда ему были нужны люди, когда он нес им себя нового, попались эти морды?
А что он о них знал и хотел ли знать раньше что-то другое, кроме тех маленьких минут беззаботности и веселья, которые пережил возле них и так горячо стремился повторить еще? Вот и получил! За что? Плясун – вот за что. И может, не они его били, а он сам, бездумный, веселящийся Алюн, проплясал по своей душе?
Алюн лежал на кровати, слюнявя грязным лицом подушку, обтирая ботинки и куртку о покрывало, не разжимая век, чтоб как-нибудь даже через подушку не пробился к нему дневной свет. Пусть будет только тьма! А ему ничего не надо! Ни от кого, все одинаковые, все готовы подставить ножку, пнуть, бросили его, избили, истолкли… Раздражение, обида против всего света горячим кольцом заклинила затылок, и он передвигал голову туда-сюда по подушке, чтоб сбросить это давившее его кольцо.
Звонок был настолько нереальным сейчас, что сознание никак на него не отозвалось, и уже только стук в открытую дверь вслед за звонком пробудил в нем движение – встать, кто-то пришел, наверное, он не запер дверь.
Перед ним стояла Лизка, и в ее растерянном, удивленном лице с брезгливой гримасой отражался он весь – побитый, грязный, жалкий. И то раздражение, что так непонятно сковывало затылок, стало вдруг реальным, обрело цель, захлестнуло его всего, пробежало по сознанию горячими колкими словами: «А, и ты! И все вы! Бейте, топчите! Люди, называется! Гады, всех ненавижу, всех! Никто не нужен, никто! Вы – сами по себе, я – сам по себе! И не лезьте!»
И он выдохнул в лицо Лизке злобное, остервенелое:
– Мотай отсюда, ну! Чего пришла? Учить? Воспитывать? Небось весь пионерский отряд за дверью топчется, плакатики с лозунгами держит. Никуда я с вами не пойду! Мотай, слышишь? Обойдусь!
Лизка напряженно смотрела на него, и лицо ее менялось, будто кто-то доброй ладошкой стирал с него растерянность, брезгливость и гнев. Распаленная староста класса, полная решимости прочистить ему мозги, все выложить его родителям, вытащить его в школу, выставить перед учителями, ребятами в самом позорном виде, какой он увидел Лизку в первые минуты, превращалась в жалеющую, понимающую, услышавшую в злобных словах, от которых только бы повернуться и уйти, пронзительно-жалкую человеческую беспомощность, маленькую женщину, способную неожиданно прозреть, простить, отвести беду. Они оба, ошарашенные, молчали, не сводя друг с друга глаз.
Лизка шагнула к нему совсем близко.
– Саша, успокойся… – И несмело тронула кончиками пальцев его волосы.
Саша? Да, ведь это он – Саша, Александр. Алюн – влипло в него так, что настоящее имя показалось чужим. Почему Лизка, которая звала его, как и все, полупрезрительным, легковесным – Алюн, сказала так значительно, именно сейчас, будто обращаясь к кому-то другому – Саша…
Он вглядывался в подобревшее, просветленное лицо Лизки, тянулся всем своим изнеможенным существом к ее светлоте и доброте, немного даже пугаясь этой новизны и близости. Это – Лизка? Да, нос ее, острый, Лизкин, выпирал неумолимо въедливо, как всегда, но были еще и глаза, и брови над ними, летящие, длинные, передающие глазам свой летящий свет и широту. Этот теплый свет – для него, и Алюну вдруг нестерпимо захотелось уткнуться в добрую, понимающую Лизку, как в маму, выплакать все свои обиды, но плакать, увеличивать свою жалкоту было невозможно постыдно, и он весь трепетал, преодолевая томление к слезам, щемило в носу, глазах, но все-таки он перемог, не заплакал.
Лизка, уловив этот его трепет и преодоление, облегченно вздохнула, шагнула от него, стала смотреть по сторонам, давая ему возможность справиться с собой.
И он оценил это, окончательно поверил в ее доброту, сказал:
– Посиди тут, – и шмыгнул в ванную.
Вошел в комнату умытый, переодетый, причесанный, сел за стол напротив Лизки, которая спокойно ждала его. Еще час назад Алюну и померещиться не могло, что может произойти такое: Лизка с ее доверчивым милым лицом и он перед нею, готовый рассказать все, что она захочет: и о Гузьке, и о том, что происходило у него с родителями, об Аркадии, но она не спрашивала об этом, хотя наверняка должна была спросить, глядя на выразительный синяк под глазом и, конечно, не забывая того, что произошло на Холме Славы.
Но она спрашивала совсем о другом, уводила вопросами от Гузьки, от всех его примитивных штучек к чему-то более значительному, пробивалась к каким-то его глубинам, о которых он ничего и сам не знал, и он вдруг испугался, что она там ничего не найдет и разочарованно отшатнется, утратив к нему свою светлоту и доверчивость.
– Почему ты все время танцуешь? Тебе нравится или просто хочется чего-то особенного? О чем ты любишь думать? Ты что-нибудь слышишь вокруг себя, видишь?
– Как это? – совсем растерялся Алюн.
– Ну, о людях разных, у нас, везде, думаешь?
Алюн молчал: ни о каких людях он не задумывался, и отвечать ему было нечего. Лизка стала объяснять, и было видно, что это она не специально для Алюна придумала, чтоб поучить его, она действительно об этом думает всерьез и сейчас выкладывает свое, сокровенное, чтоб показать, как доверяет ему.








