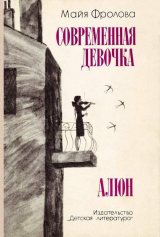
Текст книги "Алюн"
Автор книги: Майя Фролова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Алюн все это читал, выслушивал, но к себе не прикладывал: алкоголики – и он? Смешно! Неужели родители такие наивняки, что верят, будто он вообще вина никогда не пробовал? Бывало ведь и раньше: на именинах некоторые родители наливали по паре глотков шампанского или домашней наливки, просто он дома не говорил об этом, иначе бы и вовсе на именины не пустили. Они не замечали, не принюхивались, а он, в общем-то, к этим глоткам вина и не стремился. На именинах весело и так, вино и чоканье – ритуал.
Движение, ритмы, томящие душу мелодии, непонятные слова, по-особому выдыхаемые под музыку прославленными зарубежными певцами – вот что опьяняло, будоражило, влекло его к себе постоянно, и еще то волнующее, почти неосязаемое, что исходило от девочек, от прикосновения к ним…
Но в тот вечер, у Гузьки, он ощутил еще одну, неведомую раньше возможность – испытать блаженное состояние и без именин, без девочек, а вот так – с вином и хорошими веселыми парнями. И хотя он обещал маме и папе – не буду! не буду! – и брату сразу ответил, не вдаваясь в откровенность и подробности, а просто соглашаясь «быть хорошим и в бутылку не заглядывать», Гузьку и его приятелей искал. Но вечером во двор его не пускали, он и сам знал, что надо перетерпеть, чтоб поверили и снова ослабили контроль, «дышать воздухом» мог только после школы, а в такое детское время уважающие себя люди гулять не выходят. Поэтому их ни разу не встретил, но хорошее воспоминание о Гузьке, таком смешном, веселеньком, пьяненьком добряке и его товарищах, не бросивших Гузьку одного на темной мокрой аллее, жило в Алюне, как и надежда все-таки еще повстречаться с ними и хорошие часы-минуты повторить.
Родители решили, что ему очень приятно общаться с ними, почти все время теперь кто-нибудь при нем находился; то ли отец, то ли мама и очень часто – они оба. Даже о своих объектах и уколах они стали меньше заботиться. Часто покупали билеты в кино и театры, ходили вместе, хотя Алюну еще не исполнилось шестнадцати.
– По твоим данным этого не скажешь (голова Алюна возвышалась над маминой и даже чуть-чуть над папиной), и лучше ты будешь ходить с нами на взрослые фильмы, чем пить вино неизвестно с кем, – сказал отец.
По воскресеньям кто-то из них вел его в музей или на какую-нибудь выставку. Алюн с тоской подсчитывал, что музеев в городе и всяких мемориальных мест, которые можно созерцать с маминой воспитательной точки зрения, великое множество. Да еще всяких передвижных выставок навалом!
Не все было таким уж безынтересным. Может, сделай Алюн усилие, сбрось с себя привычное недоверчиво-настороженное отношение к родителям, он бы сумел пережить вместе с ними что-то хорошее, сближающее, понять, почему люди так рвутся и в оперу, и в драму – билетов не достанешь. Но его возмущало, что это навязывают насильно, с воспитательной целью, а потом родители до тошноты расписывают друг перед другом свои чувства и впечатления, выворачивают его вопросами наизнанку.
Иногда ходили в театр или в оперу всем классом, но это совсем другое дело. Только терпения набраться на первое действие, пока классный руководитель бдительно смотрит, а потом можно и в зал не ходить – посиживай себе в буфете, попивай лимонад, ешь бутерброды и пирожные, пока Татьяна с Онегиным завывают на сцене.
Алюн ждал, дождаться не мог, когда схлынет эта воспитательная волна. Но родители навалились широким фронтом, решили приобщить его и к хорошей литературе, к чтению. Мама сама выбирала в библиотеке книги, и перед сном проводилась читка вслух. Детективчики приходилось прятать глубоко под учебники, в стол, и выслушивать историю угнетенного негра дяди Тома в затерянной за океаном далекой Америке в давние-предавние времена. Правда, попадались интересные, даже захватывающие книги, как «Брат молчаливого волка», которую Алюн, не дожидаясь следующей читки, дочитал сам, но потом еще прослушивал и в мамином исполнении, скрывая интерес и волнение даже там, где мама плакала: чего доброго, родителям понравится, станут бесконечно душить его всякими умными книжками, воспитывающими, показывающими, что вот же есть примерные мальчики и девочки, не чета ему, Алюну (мама очень умело расставляла голосом нужные ударения).
Алюн пожаловался брату. Но брат, конечно, был на стороне мамы. И когда он успел так поумнеть? Или это его армия перевернула, облагородила? А может, и раньше Аркадий был таким мудрым, только Алюн не очень-то к нему присматривался. Даже уход брата в армию как-то пропустил, не пережил, занятый созерцанием своих ощущений.
Аркадий ответил:
«Мне кажется, ты плохо читаешь мои письма, слишком легко со всем соглашаешься, а мне бы хотелось, чтоб ты поразмышлял, даже повозражал. А то и переписываться неинтересно.
Кажется, твое главное стремление я все-таки уловил: ты хочешь, чтоб тебе постоянно было только хорошо и никто тебе ничего не навязывал. Не все бывает, как хочешь. Поймешь, когда пойдешь работать, а особенно – в армию. Придется стойко переживать все тяготы и невзгоды воинской жизни. Твое настроение я расцениваю как эгоизм и жадность. Жадность к постоянному удовольствию. Я тебе как-то писал, что нужно задумываться о себе. Теперь я все это немного переосмыслил: о себе относительно других людей. Вот когда начинается человек! Я, например, человеком становлюсь только сейчас. До этого – извини! – был таким же, как ты, Алюном. Я – человек! Среди живущих на земле существ я один могу осмысливать происходящее. Вот мы – пришли на все готовенькое: штаны, чтоб тебе тепло было и удобно, кто-то придумал и сшил; «наполеон», который мама для нас печет, тоже кто-то придумал; иголку, пуговицу и тысячу других вещей, которыми мы так бездумно пользуемся. Для нас трудилось все человечество много веков. А мы даже имен не знаем тех, первых… Я, наверное, теперь просто чудиком становлюсь. Беру в руки что-нибудь нужное – и сразу мысль: кто же это, умная голова, придумал? Спасибочки ему! Слышишь, Алюша, понимаешь, о чем я говорю? Вернувшись из армии, я тоже (тут я многому полезному научился и учусь) включусь в эту непрерывную цепь – создавать для людей. Что – сам еще не знаю, не решил, лишь бы для людей.
Ответь, что ты обо всем этом думаешь, мне так хочется знать, какой ты (почему-то мы с тобой никогда серьезно не говорили). Если еще не задумывался о таких серьезных вещах, то прошу: задумайся, сделай такое усилие и напиши мне…»
Но делать усилия Алюн не стал – не только не хотел, но и не умел, он жил своими ощущениями: хорошо – плохо, приятно – неприятно, а не мыслью: зачем, откуда, что потом?
Для чего все эти сложности, которые навязывает Аркадий? Действительно, чудик – и хитрец: сам жил, как нравилось, а хочет, чтоб Алюн делал все, как родители велят. Нет, он еще порезвится, потанцует, он еще побудет Алюном.
С внешностью вот только не повезло, действительно, хоть куклой в витрину детского универмага нанимайся! А может, ничего внешность? Девочкам нравится, и все-таки такое лицо здорово выручает: родители легко верят. Алюн, когда никого дома не было, подолгу себя разглядывал в зеркале: ни на маму, ни на отца не похож. Наверное, кто-нибудь из предков через свои гены в нем пробудился, такой кукольный.
Постепенно и эта воспитательная волна схлынула. Отец уехал в командировку, маме трудно было все вечера проводить с Алюном, комбинируя это с работой медсестры на участке, и жизнь Алюна постепенно возвращалась в прежнюю колею.
На именины он ходил, мама даже деньги снова стала давать, иногда и сама покупала для девочки подарок (всякий раз приговаривала: неужели у мальчиков нет именин?). Наверное, были. Но мальчики Алюна не приглашали, и на свой день рождения он пригласил только девочек.
К счастью, папы не было. Мама, наблюдая за ним, удивленно, почти как Алюн, вздымала брови (они у нее другие: не бледно-рыжие коротышки, как у Алюна, а длинные, черные, но кончики их могли так же вот вдруг изламываться у переносицы и становиться торчком, как у сына). И даже сказала ему современное словечко:
– А ты – пижон. За девочками ухаживать умеешь. Когда только научился?
Он не понял, осуждает его мама или даже как-то похваливает. Во всяком случае, нотации за этим не последовало. А он и не учился, само собой выходило. Себе он честно сознавался, что и в школу ходить хочется только потому, что там дружески к нему расположенные девочки.
А мама все удивлялась: кто это из предков передал ему свои женолюбивые гены (из живой родни ни о ком такого не скажешь) – и полушутя, полусерьезно наставляла, что даже самые стойкие гены все-таки нужно воспитывать, не давая им воли.
Если это от предка, то, конечно, от того самого, кто передал ему и свое безмятежное личико.
Произошло событие, которое ошарашило, обескуражило, потрясло Алюна: его не пригласили на именины. Не пригласила девочка! Не пригласила его! Девочка, которая в прошлом году не нарушила этой всеми признанной закономерности, так же благоговейно была послушна ему, умело и бережно втягивающему в ритм, расслабленность и неведомо еще во что, чего не выразишь словами.
Алюн, отметив в записной книжке прошлогодние дни рождений, примерно знал, когда и кто его пригласит. Готовился, придумывал, как сказать дома, чтоб отпустили с миром и подарком. И вдруг – такое! И – любопытные глаза, шушуканье за спиной. И сразу из «общей девочки», какой он воспринимал всю женскую половину класса, выплыла одна, не похожая на других. Со своими особыми глазами, руками, походкой, со своим нежеланием общаться с ним, Алюном, в привычно сложившемся русле. А ему казалось, что с девочками всегда будет только приятно и дружно. В классе он во всем им уступал, носил их портфели, помогал дежурить. Они тоже выручали его. На насмешки мальчишек внимания не обращал – таков я есть и мне хорошо.
И вдруг все это, приятное, сложившееся, распалось, разлетелось… Строптивая девчонка, выделившись сама, как бы высветила и остальных. Алюн даже растерялся, очутившись вдруг среди таких разных и, в общем-то, незнакомых девчонок, со своими отдельными глазами, носами, мыслями. Он даже испугался: что же дальше? Не представлял свою жизнь без именин, танцев, покорного обожания, без девочек, восторженно и благодарно окружающих его.
Собрав все свои душевные силенки, не показывал виду, что ему непривычно больно, но бровки сами обиженно надломились и скрыть от хитрых девчонок ничего не удалось. Правда, на следующие именины его снова пригласили, но что-то уже было утрачено, что-то беспокоило, мешало самозабвенному растворению: а вдруг кто-то еще вывернет фокус, как Лизка? Лиза – разве сейчас так называют девочек? Он даже не предполагал, что в классе есть Лиза, хотя она была не новенькой. Наверное, у нее было прозвище или звали по фамилии.
На именинах Лиза тоже была. Танцуя, он все время ощущал насмешливый взгляд этой ехидины. А когда переходил от девочки к девочке, касаясь то одной, то другой, царя над ними, сцепляя их в общий круг, Лиза небрежно молча отстранила его рукой, даже с тахты не поднялась. Сидела, спокойно перелистывая журнал, равнодушная к захватившим всех ритмичным движениям, и это ее равнодушное присутствие, насмешливо-презрительный взгляд сбивали Алюна с ритма, удовольствие сменялось раздражением. Нет, не зря ее назвали Лизкой, с этой въедливой буквой «зз-з», которая сверлит воздух своей вредностью, как и тонкий вздернутый носишко Лизки.
В порыве раздражения Алюн вдруг изменил своему правилу – не задирать, не обижать девочек: расцепил танцующих, остановился перед Лизкой (ноги и вся нижняя часть его вихлялись, он был похож на человека, впервые надевшего коньки, балансирующего на льду) и запел противным, скрипучим от раздражения голосом неизвестно откуда пришедшую на ум песенку:
– Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это, и за это, и за то, ну а больше ни за что! – и сделал несколько выразительных пошлых жестов, что, в общем-то, было ему не свойственно. Лиза резко, ни на что не опираясь, поднялась с дивана, и гневная волна, хлынувшая от нее, отбросила Алюна назад, а она ему даже ничего не сказала, прошла мимо, к имениннице Светке, стала прощаться:
– Извини, Света, я должна уйти. Спасибо. Было очень весело.
Света заволновалась – всем же было ясно, почему уходит Лиза, – стала уговаривать, другие девочки тоже окружили ее, загалдели:
– Мы еще чай не пили, есть вкусный торт, не уходи…
Но Лиза ушла. И хотя Алюн изо всех сил старался развеселить девочек, и те послушно танцевали и веселились, и чай пили с вкусным тортом, который сама Светка испекла, уже все было не то. Алюну вдруг тоже захотелось уйти, хотя по времени можно было домой не торопиться.
С того вечера к имени «Лиза» Алюн мысленно приставлял слово «заноза», и три «з», сливаясь, своим дребезжанием выражали то, что он чувствовал в присутствии Лизки в классе и даже дома, когда вспоминал ее.
И в «застенок», в который он снова забился, на этот раз безнадежно надолго, попал из-за этой занозы, вернее, из-за всего случившегося только потому, что за это дело взялась она.
Он вихлялся в «застенке», дожидаясь, когда мама начнет «разряжаться», но мама, убитая его новыми подвигами, сидела молча на кухне, подперев голову руками и безнадежно глядя в окно. Вытягивая шею, Алюн видел ее бледное красивое лицо (что она красива, стал замечать после писем Аркадия), усталое, отрешенное. Но Алюн ее не жалел, а жалел себя: наказывать-то должны не ее, а его и наказывать должна она. Наверное, сидит и придумывает, как и что сделать, чтоб наконец дошло и Алюн перестал быть Алюном. А что, собственно, должно доходить? С кем не бывает? Ну, нашло, ну, завертело! И если разобраться, то не один он виноват, все эта Лизка.
Хорошо им, его правильным родителям, знают наперед, что нужно, что не нужно. А может, взрослые перед детьми притворяются, что все знают и поступают только правильно? Наверное, так и есть. Зачем бы тогда суды и милиция всякая, дружинники с красными повязками, фельетоны в газетах, выговоры с занесением в личное дело, о которых иногда после собрания рассказывают мама и папа. Вот, взрослые – и то… А ему – легко ли?
Сейчас мама изречет какую-нибудь умную фразу, надо что-то ответить, чтоб мама начала наконец говорить, возмущаться и поучать. Чем скорее она выговорится, тем ближе момент прощения и тяжесть сползет с души. Скорее бы уж начала поучать!
Но мама вдруг произносит тоскливо, обреченно:
– Господи, когда же ты станешь человеком? И станешь ли им вообще? Может, это все зря – и я, и папа, и жить-то нам, в общем, незачем, свое главное дело не можем сделать – тебя по-человечески воспитать! Аркадию-то мы уже не нужны, сам пойдет.
Впервые что-то рванулось в душе Алюна навстречу матери, затопило острой жалостью, раскаянием, он готов был кинуться к ней, заплакать, пожалеть, но пока топтался в нерешительности, растерзанный этими необычными едкими чувствами, мама встала, прошла мимо него и начала говорить, говорить…
И Алюн, от ее привычного тона и привычных упреков, втянулся поглубже в «застенок» и даже слушать перестал, перебирая в уме все, что произошло.
…Лизка, которая вдруг так въелась в него со своими ехидными «з-з», была старостой класса, что-то там делала и организовывала.
Алюн будто проснулся и все это только сейчас увидел, раньше никакой классной жизни не замечал и ни в каких мероприятиях никогда не участвовал. Снисходительные девочки, занимавшие все «руководящие посты» в классе, прощали ему, тем более что уж в этом он не был оригинален, большинство мальчишек тоже избегали общественной деятельности.
И вдруг Лизка завопила, настырно лезла и в уши, и в души, категорически и непреклонно заявила, что намечается важное мероприятие – просмотр военной кинохроники в детском кинотеатре, после этого – возложение цветов на Холме Славы. Прийти должны все, так как классный руководитель Елена Ивановна заболела и поручила ей, Лизке, провести этот поход. Кто не придет, тот подводит Елену Ивановну, так что имейте совесть, «классной» из-за нашего разгильдяйства и так достается.
Конечно, пришли не все, но больше, чем собирается обычно на «мероприятие». Удивительнее всего, и не только для ребят, но и для самого Алюна, было то, что он тоже пришел. Мама обрадовалась, что он идет участвовать в таком хорошем общественном деле, сунула ему цветы из вазочки на столе. Цветы он держал завернутыми в газету – трубочкой, и вело его не какое-то вдруг возникшее «общественное самосознание» (слова мамы), а желание поглядеть на Лизку, будто она зацепила вдруг его своим острым носом и потянула за собой.
Лизка с важным видом собрала монетки, деловито растолкала мелюзгу у кассы и взяла длинную ленту билетов. И они все, девчонки и мальчишки, потянулись за ней покорным рядком.
Лизка оказалась далеко от Алюна. И на него вдруг нашло, стало все до лампочки – и ребята, сидящие рядом, и очень боевое и в другое время, наверное, интересное кино. Ему не хотелось, чтоб Лизкино матовое лицо было устремлено только к экрану. Она сидела, слегка подавшись вперед. Поворачивая голову, Алюн хорошо ее видел.
В общем, он «завелся», стал острить, услужливые шуточки неизвестно откуда так и выскакивали на язык, толкал всех, кто был слева, справа, впереди, сзади. Но Лизка почему-то не реагировала, ее нос так же был направлен к экрану – вперед и чуточку вверх. Тогда он стал трясти ногой, раскачивать стулья, затрясся весь ряд, от кого-то сзади и сбоку получил затрещину, сам отвесил, закричал «ура!» совсем некстати.
Когда зажегся свет, Лизка, даже не взглянув в его сторону, стала пробираться к выходу, и все цепочкой выталкивались за ней из кинотеатра на улицу. Увидев Лизку при дневном свете, Алюн понял, что все она заметила, все его старания. Лизка была не просто зла – она клокотала от возмущения, наверное, могла бы сейчас закричать и заплакать, затопать ногами, надавать ему пощечин. Это Алюн уловил в ее мелькнувшем взгляде, хоть она упорно не замечала его, отводила глаза. Алюн испытал удовольствие, ему хотелось еще чем-нибудь досадить этой занозе! Но повода прицепиться к Лизке не было, она сдерживалась изо всех сил. Конечно, хочет благополучно довести мероприятие до конца, поддержать авторитет старосты и отчитаться перед Еленой Ивановной.
Лизка сказала:
– Не обязательно всем идти на Холм Славы, достаточно нескольких человек, кто хочет… – Она наконец взглянула в его глаза, и он понял, что это сказано специально для него, уйти должен он.
Кое-кто действительно ушел, как всегда, кому-то нужно было на хор в музыкальную школу или просто с мамой-папой в гости к бабушке. Но Алюн потащился со всеми. Подумаешь, Лизке не хочется, чтоб он шел. А ему хочется! Даже цветы у него есть. Не для нее же он старался, берег их в газетной трубочке.
Возбуждение его угасло, да и не такое это было место – Холм Славы, где можно раздавать тумаки и свои плоские шуточки. Здесь всегда были люди, особенно в воскресные дни, шли сюда парами, семьями, притихнув, прервав разговоры, входили в улочку, ведущую к Холму, под которым были погребены воины, павшие при освобождении города.
Строгие однотонные заборы с траурными полосами, притихшие, будто не участвующие в жизни города, дома за ними, немеющие в постоянном созерцании непрерывного потока людей – как бесконечная нота в неслышно звучащей здесь траурной мелодии. Такой же нотой были четко организованные клумбы, где росли цветы, стлался мох, зеленели круглый год туйки, елочки, кусты самшита – дар разных городов, жителей, юннатов… Впереди – фигура матери, поднявшая на ладони чашу огня – символ живой памяти и жизни грядущих поколений. И – ширь, высь, зовущая неоглядная водная гладь Днепровского моря, слева, справа, позади Холма… Все это сливалось воедино, приглушало все остальное, оставляя в человеке щемящую причастность к смерти, к вечной красоте и движению жизни, в которой все это нераздельно слито, а человек – на грани слияния…
Здесь прерывалась повседневность. Даже дети становились значительны и серьезны, касаясь чуткими душами исходящей от взрослых сложности.
Алюн не любил приходить сюда именно из-за этой неизбежно здесь возникающей тревоги, вроде кто-то цепко хватал за душу: остановись, вглядись в себя, каков ты есть, ведь это всё, мы, здесь лежащие, – во имя тебя!
Алюн не стремился понять, что происходило здесь в его душе (успеется!), под разными предлогами ускользал от родителей, которые, как и другие жители города, помимо торжеств, связанных с военными героическими датами, просто так ходили сюда, влекомые чем-то слишком высоким и сложным, преждевременным, как считал Алюн, для него.
Впервые, хотя и смутно, издалека, сознательно отодвигаясь, почувствовал какую-то причастность ко всему этому, когда вместе с родителями и Аркадием, бродя по городу в прощальный вечер, пришли сюда. Молча постояли у надгробных плит. Потом, спустившись с Холма к морю, долго гуляли по набережной, и все разговоры были какими-то умиротворенными, не о главном – об уходе Аркадия в армию, но каждая фраза была значительной, как и молчание у подножия Холма.
Таких моментов – единства, понимания – было в семье очень не много, и трое взрослых чувствовали торжественность и особую близость, а он, Алюн, только примыкал к ним, и было ему как-то тягостно, будто дали подержать что-то очень ценное, хорошее, но – чужое.
И сейчас Алюну совсем не хотелось идти сюда, в эту торжественность и недозволенность обычного, но его несло за ребятами, за Лизкой что-то, что было сильнее его понимания. Мама называла это «что-то» завихрением, эмоциональной перегрузкой нервной системы, после каждого его стояния в «застенке» и покаяния заваривала по утрам успокоительный чай из трав, который пили в основном они с папой…
Он понимал: самое правильное сейчас – услышать призыв Лизки и уйти, но его уже «несло», и никакая доза «успокоительного чая» не сдержала бы его, потому что главным становилось одно – насолить Лизке, чтоб она, пусть гневно, с презрением, как угодно, замечала его, возмущалась им, боролась с ним, воспитывала, только не отводила глаза и не отсылала домой. Ну, сейчас она лопнет от удивления, и все ее ехидные «з-з» сдвинутся со своих позиций.
Алюн приотстал, развернул газету – боялся, что цветы измяты, изломаны, но это были стойкие ко всяким безводным передрягам хризантемы, они как ни в чем не бывало встрепенулись, выглядели молодо и бодро.
Когда девочки уже положили букет на общую, не иссякающую гирлянду цветов (почти никто сюда без цветка, без веточки не приходил), Алюн выдержал паузу, растолкал ребят и положил на середину плиты свои хризантемы… Все его мысли, все его жесты были нацелены только на одно: чтоб увидела Лизка. Он не выдержал, торопливо оглянулся. Лизка, конечно, оценила – удивилась, даже смутилась, лицо ее стало добрым и благодарным, но только на одно мгновенье. Лизка, будто отгоняя свою доброту, дернула головой, нахмурилась, задрала нос и взглянула на него резко, недоверчиво, с насмешкой – зря стараешься, Алюн!
Что-то горячее взмыло в нем, ударило по ушам, по глазам, он схватил свои цветы, изогнулся, кривляясь, протянул ей, будто преподносил, но рука как-то сама размахнулась и цветы полетели Лизке в лицо.
Лизка отшатнулась, глаза прикрыла локтем, а он подскочил к ней близко и со злобой, неизвестно почему оглушившей его, отдирая ее руку от лица, зашипел прямо в застывшие черными кругляшками Лизкины глаза, в задрожавший острый носишко:
– Что, испугалась, мероприятие срываю, галочку не поставишь, Елена Ивановна не похвалит?
Он подобрал цветы, снова бросил в Лизку, и они все – Лизка с застывшим и в то же время каким-то плачущим лицом, девчонки, мальчишки – пятились, отступали, глядя на него с удивлением и страхом, а он, разведя руки, заплясал перед Лизкой, яростно вскидывая голову, виляя туловищем, с каким-то сладостным удовлетворением глядел в Лизкино перекошенное лицо. Лицо это вдруг затрепетало, изломалось, будто он прошелся по нему каблуками, она крикнула жалко, неестественным тонким голоском:
– Плясун! Плясун! – и заплакала.
И они все, его одноклассники, увлекая Лизку, шарахнулись от него, чтоб отгородить его от себя перед людьми, застывшими вокруг в недоумении перед таким кощунством. Люди отхлынули, давая ребятам дорогу, он бежал следом, изо всех сил выкрикивая:
– А, испугались! А, побежали!
И было ему от этого их испуга необъяснимо радостно.
Почему никто не взял его за шиворот, не встряхнул, не ударил? Взрослые – не захотели, не успели вмешаться?
В общем, в тот момент пронесло, но он понимал – это ему не простится.
Ему стало тошно, бесприютно, когда оказался один в каком-то тупике, не видя больше перед собой ни Лизки, ни ребят, и горячая волна откатилась в тишину и безлюдье. Тошно – хоть сгинь, убеги ото всех и всего.
А почему бы нет? Но – куда? Голодный, в одной курточке… Побродив по улицам и немного успокоившись, Алюн решил подкрепиться в кафе и все обдумать. Несколько монет в кармане было, взял два пирожка, кофе, уселся у окна. Мимо спешили люди. Счастливые – ничего им решать не надо. Поглощая пирожки, Алюн вздыхал: да, на этот раз завертится всерьез. Простыми обещаниями не отделаешься. Опять эти бесконечные нотации, поучения со всех сторон…
Сколько он слышал правильных слов, истин дома, в школе, в кино! Кто сомневается, что они правильные? Он – не сомневается. Наверное, из этих правильных высказываний он мог бы целую книгу составить. А для чего? Все равно применить, приложить к себе он их не мог и не хотел – слова, а в жизни все катится по каким-то другим, более простым и более трудным рельсам. Вот как сегодня. Разве он хотел? Подмывало что– то сделать, но чтоб вот так накатило. Отдувайся теперь. У него уже просто сил нет оправдываться, выслушивать нотации. Что же придумать? Может, действительно сгинуть, убежать?.. Но ведь где-то надо жить, что-то есть, пить…
А если не всерьез, притвориться? Испугать? Разжалобить? Лизка тоже испугается… Какое у нее было лицо! Он вообще еще не видел у людей таких лиц. Из-за него – такое лицо. Может, такие лица бывают у людей при виде подлости? Он ведь все-таки не идиот, понимает: то, что он сделал, так и называется – подлость. Люди погибли на войне. Горит вечный огонь. А он… Но ведь он не специально так, в этом месте. Он просто перестал ощущать, какое это место. Зарвался. Можно понять или нет? И все-таки какое у Лизки было лицо! А ведь он ради нее старался. Она не знает, но он-то знает это. И в «мероприятие» ввязался ради нее, и потом завихрился, потому что она глядеть на него не хотела.
Тогда же в кафе, прямо на салфетке, написал большими буквами: «Вел себя гнусно. Все осознал. Меня не ищите. Решил начать жизнь сначала. Все расскажи моим родителям и Елене Ивановне. Прощайте! Алюн». Свернул, надписал сверху печатными буквами – ЛИЗЕ. Засунул салфетку в Лизкину дверь, позвонил, сбежал по лестнице. Внизу услышал, как отворилась дверь Лизкиной квартиры.
Бродил по городу, слепо слонялся по музеям, в картинной галерее, скользя пустыми глазами вокруг, а в голове было такое, будто вертел перед глазами калейдоскоп и сам вертелся вместе с ним: вверх ногами – вниз головой – наоборот и снова вверх ногами – вниз головой – наоборот…
После двух кинофильмов с этим вот ощущением верчения оказался на вокзале, там и уснул в уголке дивана, там и нашли его милиционер, родители и Елена Ивановна. И он, разбуженный, дрожащий, молча шел за ними, ничего не слыша из того, что они все разом говорили ему, потому что он знал все эти слова наперед. Ему хотелось побыстрее в свой дом, в свою постель, чтоб все осталось позади и продолжалась прежняя привычная жизнь.
Утром даже в школу не разбудили, спал долго, потом уже и не спал, а выжидал, когда мама уйдет на работу, но мама не уходила. Значит, он действительно сделал что-то серьезное? Все внутри у него заскулило, свернулось клубком, как виноватая собачонка, пытающаяся втиснуться в щель, уйти от расплаты. Но он не позволил этой собачонке скулить и метаться, надо вставать, покорно все пережить, быстрее с этим покончить, чтоб снова стало легко и хорошо. Его душа не приспособлена для страданий.
Он поднялся, оделся, все делал тихонько, подчеркнуто виновато, покорность и виноватость так и откатывались от него волнами, но маму почему-то эти волны не задевали, она сидела тихо и грустно за столом. А на столе – чисто, никаких признаков завтрака, ничего не булькало, не шипело на плите. Значит, что-то в маме очень перевернулось, раз она не торопится его накормить (знает же, что вчера он весь день голодал и даже, сонный, не поужинал), а ведь в любых обстоятельствах, при любых конфликтах она старалась прежде всего накормить Алюна.
Вот тут-то Алюн затосковал по-настоящему, снова что-то заскреблось, заскулило под сердцем, заныло в животе. Он не хотел видеть маму такой жалкой, растерянной, беззащитной перед ним, пусть бы лучше она была привычно нападающей, возмущенной, поучающей… И все они вдруг пришли в его мысли – отец, Елена Ивановна, Лизка – совсем по-другому, чем прежде. Он действительно перед ними виноват, им всем сейчас плохо, как маме, никого не пожалел, выгораживая себя. Смутно выплыла слышанная ночью фраза: «Господи, я за этот день поседела…» Кто сказал ее – мама, Елена Ивановна? Он издали, из-за холодильника приглядывался к маминой голове: блестящие, гладко зачесанные назад волосы – и седая полоска от лба к затылку, через всю голову, но он не знал, была ли эта полоска раньше или возникла только сегодня. Он действительно ничего не знал и знать не хотел, кроме своих ощущений. И вот такая мама, и все плохо, плохо до невозможности! И тут мама сказала те горькие слова:
– Господи, станешь ли ты человеком!..
И Алюн готов был рвануться к ней, обхватить ее милую скорбную голову, найти какие-то особые слова, верные, обнадеживающие, которые бы не только маму успокоили, но, будучи сказанными, и его от себя не отпустили, заставили быть таким, как сказано, как обещано. Чтоб было совсем по-другому, чем сто раз до этого, когда обещания-слова исчезали бесследно, так и не став делом.
Но как-то застеснялся в себе непривычного порыва, съежился, затоптался, завихлял, пританцовывая от волнения, и мама, раздраженная этим вихлянием, встала, начала привычно ходить мимо него из кухни в комнату и обратно, и привычные слова хлынули на Алюна, и он привычно отключился от них, втянулся поглубже в застенок, стал перебирать события минувшего дня, отыскивая для себя оправдательные лазейки и дожидаясь, когда мама выговорится и вспомнит, что он не завтракал.
И все-таки, кроме голода, томило предчувствие, что мама – это теперь не самое главное, еще придет отец, начнет выкладывать истины, но не выдержит, сорвется на крик. Но и это еще не главное, дома они все быстро выдыхались и спешили поскорее конфликт утрясти. Главное – то, что в школе, что раздуется там из-за его глупой выходки. И не объяснишь теперь, почему такое получилось. Тогда, из-за Лизки, жгло, раздражало, было неизбежно, а теперь выглядело так глупо, бессмысленно. Не хотелось, чтоб в классе думали о нем, будто он – дубина бесчувственная… «Плясун!»… Плясун? Согласен. Это его стихия, ничего не поделаешь, но… Сколько ни думал, за этим «но» ничего убедительного не выстраивалось, как ни подбирал оправдательные слова: «не убил», «не ограбил»… Все это смешно и жалко. И если даже себе не можешь доказать, выбарахтаться из пустых слов, то как докажешь другим, что ты «не…», «не…» и «не…», а всего лишь безобидный плясун?








