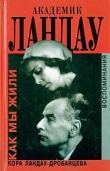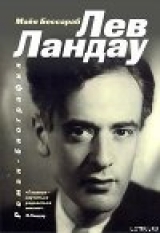
Текст книги "Лев Ландау"
Автор книги: Майя Бессараб
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Ты с очевидностью польстился на сенсацию, Миша, но, даже располагая исчерпывающими и неопровержимыми документами (а не сплетнями из третьих рук), ты был бы не прав, публикуя узнанное тобой», – говорится в этом письме.
Губерман справедливо утверждает, что нельзя кого бы то ни было обвинять в чем-то лишь на основании догадок. Ландау, Румер и Корец были кем-то преданы.
По-видимому, подбирались к Ландау, а его приятели попали за компанию с ним. Корец получил десять лет, в лагере ему добавили еще десять: только в 1958 году он вернулся в столицу. Разумеется, так же, как и Румер, он вне подозрений.
Главное действующее лицо этой истории, Ландау, вряд ли смог бы пройти лагеря и ссылку. В последние недели своего пребывания в тюрьме он уже с трудом ходил.
В конце апреля 1939 года небезызвестный Кобулов, начальник следственной части НКВД СССР, тот самый Кобулов, который лет пятнадцать спустя был расстрелян за зверства в отношении заключенных, подписал приготовленную следователем справку, из которой явствует, что еще 8 апреля того же года он допрашивал Ландау и тот «от всех своих показаний как от вымышленных отказался, заявив, однако, что во время следствия мер физического воздействия к нему не применяли. На мой вопрос: почему он целый год подтверждал свои показания, а сейчас от них отказался, Ландау не мог дать какого-либо вразумительного ответа».
Ничего удивительного, не мог же он, в самом деле, сказать, что таким образом избежал побоев. Но самый факт, что следователь отмечает как нечто исключительное, что к арестованному не применяли мер физического воздействия, то есть не истязали, весьма красноречив. Это – тоже черта времени.
Настало 28 апреля 1939 года, годовщина ареста Ландау. В тот день Кобулов подписал постановление суда, решившее его судьбу. Вначале повторяется бред о вредительстве, которым якобы занимался Ландау, о том, что он добровольно во всем сознался. Затем говорится, что он изобличен во всех названных преступлениях. А вот дальше следует интересное:
«Однако, принимая во внимание, что:
1. Ландау Л.Д. является крупнейшим специалистом в области теоретической физики и в дальнейшем может быть полезен советской науке;
2. Академик Капица П.Л. изъявил согласие взять Ландау Л.Д. на поруки;
3. Руководствуясь приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР, комиссара государственной безопасности I ранга тов. Л. П. Берия об освобождении Ландау на поруки академика Капицы,
постановил:
Арестованного Ландау Л.Д. из-под стражи освободить, следствие в отношении его прекратить и дело сдать в архив».
Из моего дневника:
«Сегодня, 22.1.70, Кора устроила день рождения Ландау. Еще она позвала Кирилла Симоняна и Данина. Но они не пришли. Были только Капица с женой, Голованов, Валерий Генде-Роте и я. Надо сказать, что игра стоила свеч. Я спросила Капицу, с кем он говорил в Кремле, чтоб освободили Дау. Петр Леонидович рассказал:
– Написал Сталину, говорил с Молотовым. Объяснил, что я открыл явление сверхтекучести, теоретически обосновать это никто, кроме Ландау, не может. Молотов сказал: «Хорошо, Ландау мы освободим. Но вам придется съездить поговорить в Наркомвнутдел». Я говорю: «Хорошо». Через несколько дней входит ко мне мужчина в пальто. Я говорю: «Почему вы в пальто?» Он снимает – форма НКВД. «Вы что, своей формы стыдитесь?» – «Вас вызывают на Лубянку. За вами приедут ночью». Первый раз приехали в двенадцать ночи. Водили-водили по коридорам, водили-водили, разговора не было. Второй раз – снова в двенадцать. Опять коридоры, двери, стража. Говорил с Кобуловым и Меркуловым. Кобулов говорит: «У вас трудная задача. Вот его дело. Ознакомьтесь». Я говорю: «Знакомиться мне с ним ни к чему. Объясните мне только одно: мотивы преступления». И вот ничего сказать не могли. Я с ними два часа разговаривал.
Он умолк, и в наступившей тишине Кора спросила:
– Анна Алексеевна, что с вами было, пока муж находился в НКВД?
– Я все время простояла у окна...»
Еще раз хочется сказать о смелости Капицы. Она беспримерна. Думаю, что друг Дау Александр Иосифович Шальников ошибался, утверждая, что Петр Леонидович потому так настойчиво требовал освобождения Ландау, что он просто не совсем понимал, с кем имеет дело, и что тут происходит. Живя постоянно за границей, Петр Леонидович привык к другим порядкам: ему и в голову не могло прийти, что человеческая жизнь ничего не значит, что Сталину ничего не стоит смести с лица земли и его самого, и любого другого жителя Страны Советов.
Разумеется, огромное значение сыграло и заступничество Нильса Бора, выраженное в весьма ненавязчивой форме, и скромное поведение самого заключенного. Отчасти положительное решение дела Ландау объясняется и сменой руководства: Ландау арестовали при Ежове, а выпустили при Берии. Когда Берия возглавил НКВД, он пересмотрел некоторые дела, ускорив их решение. Кроме того, выяснилось, что Ландау физик-атомщик.
Надо отметить, что между Дау и Капицей дружеских отношений не было. Внешне соблюдались все приличия, этим дело и ограничивалось. В одном из своих интервью зарубежной прессе академик Виталий Лазаревич Гинзбург, хорошо знавший их обоих, откровенно заявил:
«Спас его Капица, добился выдачи на поруки, и огромна в этом заслуга Петра Леонидовича перед физикой. Но, честно говоря, Капица обращался с Ландау грубо. Я сам был тому свидетелем и даже спросил Ландау, как он такое терпит, а он ответил: Капица перевел меня из отрицательного состояния в положительное, и я бессилен ему возражать...»
Ландау довольно редко говорил о тюрьме. Надо сказать, что у него был определенный взгляд на все эти вопросы:
– Тридцать седьмой год был для нашей страны чем-то вроде страшной средневековой эпидемии чумы. Это – стихийное бедствие. Меня оно тоже коснулось, но, по счастью, я остался жив.
Спустя почти четверть века после смерти Ландау, 23 июля 1990 года, был подписан окончательный документ по делу Льва Давидовича Ландау:
«1. Постановление НКВД СССР от 28 апреля 1939 года о прекращении дела в отношении Ландау с передачей его на поруки – отменить.
2. Уголовное дело в отношении Ландау прекратить на основании ст. 5 п. 2 УПК РСФСР – за отсутствием состава преступления».
Целый год Кора ничего не знала о нем. Она ждала... И вот ночью в один из последних дней апреля 1939 года в квартире 15 на улице Дарвина, 16, раздался телефонный звонок.
К телефону подошла Татьяна Ивановна. Спросонок она заговорила по-украински:
– Цэ вы, Дава?
Через минуту плачущая, улыбающаяся, счастливая Кора услышала родной голос:
– Коруша, приезжай!
Она взяла отпуск на кондитерской фабрике и вылетела в Москву на майские праздники. Дау осунулся и побледнел, но настроение у него было хорошее.
Много лет спустя Кора рассказывала:
– Он не только не жаловался на судьбу, он еще заявлял, что уныние – большой грех и унывать он не намерен.
Больше всего его мысли были заняты незавершенной работой; Кора ахнула, увидев кипу исписанной бумаги: она не ожидала, что он вернется к своим исследованиям до отпуска.
Счастливые дни промчались быстро, и Кора уехала в Харьков.
Стало очевидно, что они не должны жить в разлуке. Иногда ему удавалось вырваться в Харьков, но потом он снова возвращался в свою холостяцкую московскую квартиру. Он пишет ей все чаще и чаще. В письмах – грусть и тоска, они полны любви, тревоги и нежности.
Ей нелегко было расставаться со своей фабрикой, но осенью 1940 года она оставила Харьков и переехала в Москву. Поселились Ландау в одной квартире с Евгением Михайловичем Лифшицем, который тоже перешел в Институт физических проблем.
Глава седьмая. По воле рока
Я в старой Библии гадал,
И только думал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.
Николай Огарев. Тюрьма
Лев Давидович не любил жаловаться на судьбу, а уныние считал чем-то совершенно недопустимым, постыдным. Но год в камере не прошел бесполезно для здоровья. В тюрьме он завтракал через день. Дело в том, что там по утрам один день давали манную кашу, другой – пшенную. В детстве его кормили манной кашей насильно: не разрешали встать из-за стола, пока не доест. Понятно, что он ее возненавидел на всю жизнь и в рот не брал. Тюремный рацион и без того скуден, а при таких фокусах он, конечно, очень ослаб: боялся упасть, настолько кружилась голова. Неважно было и со зрением.
И вот много лет спустя Кора как-то сказала ему, что если он будет плохо есть, она станет кормить его манной кашей. Внезапно Дау, который всегда так понимал шутку, неожиданно воспринял это всерьез:
– А ты не боишься, что я от тебя сбегу?
– Боюсь. Это шутка.
– Очень неудачная шутка. Я манной каши даже в тюрьме не ел.
– Ты бы мог принимать ее, как невкусное лекарство.
– Коруша, как же это я не догадался!
Когда мне было тринадцать лет, мы переехали в Москву. Незадолго до того я разлучилась с отцом, которого любила без памяти. Целый год мы жили в гостинице «Москва», где мне очень не нравилось, потому что меня никуда не пускали. У меня не было ни друзей, ни знакомых, я чувствовала себя страшно несчастной, все время ходила заплаканная, и мама очень за меня боялась.
Но потом нам дали квартиру возле Даниловского рынка, и все переменилось. Я попала в хорошую школу, 545-ю, у нас был замечательный класс, и главное – это было недалеко от Воробьевского шоссе, где жила моя тетушка.
Каждый день после уроков, наскоро пообедав и оставив дома портфель, я отправлялась к Ландау. Так началась моя дружба со Львом Давидовичем, продолжавшаяся до его кончины. По-видимому, в те годы он относился ко мне так заботливо потому, что знал о происшедшей в нашей семье трагедии – гибели моего отца. От меня же все скрывали.
Дау уделял мне много внимания. Во-первых, он расспрашивал о том, что мы проходили, не так, как обычно спрашивают взрослые, мало понимающие суть дела.
Во-вторых, он довольно быстро выяснил, что мои любимые предметы – история и литература, и я от него постоянно узнавала много интереснейших фактов.
– А что, в школе до сих пор скрывают от детей, что Николай I покончил жизнь самоубийством? – спросил он однажды и с нескрываемым злорадством добавил:
– Собаке – собачья смерть.
И Дау подробно рассказал, что, получив сообщение о разгроме русской армии под Евпаторией, царь понял – война проиграна. Не выдержав позора поражения, он покончил с собой. До революции это скрывали: помазанник Божий не мог совершить столь тяжкого греха, – вот в школьных учебниках по старинке и пишут – «умер». У Герцена, который был остроумнейшим человеком своего времени, были все основания заявить, что царь умер от «Евпатории в легких».
Он любил повторять красивые мифы, события античной истории, отдельные латинские фразы, которые тут же переводил. И очень часто задавал мне вопросы, на которые я иногда отвечала невпопад. Особенно мне запомнился разговор о «тургеневских барышнях» – он их не одобрял, а я, честно говоря, никак не могла понять почему.
– А какой бы ты хотела быть? – спросил Дау.
– Добродетельной, – ответила я.
– Какой? – переспросил Дау. – Добродетельной? Это ужасно!
– Да она просто не понимает значения этого слова, – догадалась Кора.
Я растерялась, молчала.
Дау особенно часто обрушивал на меня шквал любимых изречений. Некоторые я тут же записывала:
«Я люблю людей, кроме пресыщенных жизнью ничтожеств». Джон Рид; «Я всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой». Герцен; «Любовь – поэзия и солнце жизни». Белинский.
Заканчивалось все стихами.
Я и их записывала:
Где бы ни шла моя жизнь, – о, быть бы мне всегда в равновесии, готовым ко всем случайностям,
Чтобы встретить лицом к лицу ночь, ураганы, голод, насмешки, удары, несчастья,
Как встречают их деревья и животные.
Уолт Уитмен
Меня охватывал какой-то священный трепет, когда он говорил о доблестных подвигах своих любимых героев. Ничто его так не огорчало, как несправедливо забытые имена. Он возмущался, если забывали истинного первооткрывателя.
Особенно часто Дау рассказывал о Николае Кибальчиче:
– Если бы я был писателем, то непременно написал бы книгу о Кибальчиче. Он был отважен и талантлив; в истории освоения космоса Кибальчич сыграл огромную роль: именно ему принадлежит проект первой космической ракеты. Этот проект он разработал в тюрьме, в ожидании смертной казни за участие в убийстве Александра П.
Как-то Дау и его близкий друг Юрий Румер были в Болшеве. Просматривая новые журналы, они нашли стихотворение, посвященное памяти Мате Залка, погибшего геройской смертью в освободительной войне испанского народа. Имя автора было им незнакомо, но стихотворение очень понравилось. Дау тут же выучил его наизусть и все время декламировал:
С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнем,
В Чапее о нем говорили,
В Хараме слыхали о нем.
Лев Леонидович спрашивал у всех знакомых:
– Вы читали стихотворение «Генерал» Симонова? Непременно прочтите. Замечательное стихотворение.
Он потирал от удовольствия руки, улыбался и говорил:
– Да, Рум, Симонов – настоящий поэт.
Для Ландау, с болью следившего за трагедией Испании, это стихотворение было событием. Судьба гордого и свободолюбивого народа волновала весь мир, и Ландау, с его восторженным отношением к революции, нашел в симоновских строках воплощение своего идеала.
Дау часто приносил в дом старинные книги: тома «Русского архива», «Звенья», «Русские Пропилеи», другие редкие издания. Видя его интерес к старым книгам, я принесла ему «Ходячие и меткие слова» Михельсона, с которой никогда не расставалась с тех пор, как начала читать книги. Это была роскошно изданная в конце XIX века книга, мне ее подарил отец, и я ее очень любила. Дау сразу погрузился в чтение.
Он держал у себя Михельсона так долго, что я повезла ему том словаря Даля, надеясь таким образом напомнить о первой данной ему книге. Дау действительно принес из своей комнаты «Ходячие и меткие слова» и начал наизусть читать отрывки, которые ему особенно понравились:
«Духовник Генриха IV, короля французского, укорял его за частые любовные увлечения. Узнав от повара, что любимое блюдо духовника куропатки, король велел подавать ему каждый день это блюдо. Духовник сперва был в восторге, но, наконец, пожаловался королю, что ему подают только куропатки! Король возразил духовнику, что он хотел ему наглядно доказать, что в жизни необходимо разнообразие».
Этот эпизод вошел в число наиболее часто повторяемых исторических анекдотов – в запасе у Дау было множество таких забавных историй.
Над моей привычкой все записывать Дау посмеивался. Но он довольно часто диктовал мне длинные цитаты, стихи Николая Гумилева (очень удивлялся, почему я не могу запомнить их, после того как он два раза прочитает: «Ведь хорошие стихи сразу запоминаются»).
В те годы я много и без разбору читала. Увидев меня с «Куклой» Болеслава Пруса, он воскликнул:
– Боже, что она читает!
И тут же продиктовал список книг, которые необходимо прочитать в первую очередь: «Красное и черное» Стендаля, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «История Тома Джонса, найденыша» Фил-динга, «Путешествие Гулливера» Свифта; далее следовал длинный список произведений русских классиков.
Возвращая мне том Далева словаря, он сказал:
– У Даля есть неплохое высказывание: «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски». А сам он был датчанин по отцу и полунемец-полуфранцуз по матери.
1941 год. Война. Институт физических проблем эвакуировался в Казань. Вместе с коллегами Ландау выполнял спецзадания.
«Ландау помог поднять советскую физику на невиданную высоту, и он был в значительной степени повинен в том потрясении, которое произошло в Соединенных Штатах, когда Россия стремительно обогнала всех в производстве водородной бомбы», – подобные заявления зарубежной прессы Ландау отказывался комментировать.
Однажды кто-то из военных рассказал ученым о пятнадцатилетнем мальчике Виле Чикмакове, судьба которого напоминает судьбу Пети Ростова. Немцы двигались к Севастополю, а Виля не брали в комсомольский партизанский отряд: мал еще. Он не отставал от секретаря горкома комсомола, пока не был записан в отряд. В первом же бою у Байдарских ворот, едва завидев немцев, Виль выскочил из окопа и бросился навстречу врагу. Он не успел сделать ни одного выстрела – был убит наповал. За ним поднялись все, и атака была отбита. Немцы отступили.
– Жалко как, – сказал один из присутствующих, – и не жил совсем. Бессмысленная гибель.
– Нет, не бессмысленная, – возразил Дау. – Только так и можно победить в этой войне.
В конце войны, уже после возвращения из Казани, Дау достал где-то сборник стихов Константина Симонова – небольшую книгу в ярком синем переплете. Скоро он знал на память почти все стихи из этой книги. Двух дней кряду не проходило, чтобы он не прочел наизусть какого-нибудь стихотворения.
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди...
Он читал, не пропуская ни строчки, с начала до конца в неизменном ритме, монотонно нараспев. Читал подолгу и с таким самозабвением, как читают только поэты. Не изменяя своей старой любви – Лермонтову, не забывая блоковского «О доблестях, о подвигах, о славе...», во время войны он больше читал Симонова: его поэзия в те годы была ближе всего его душе.
Чего у Дау не было, так это снобизма. Один из его друзей как-то сказал:
– Он был простой человек и любил простые, искренние стихи.
И уж, конечно, не стеснялся признаться, что ему нравятся стихотворения поэта, которого снобы в грош не ставили. Я очень хорошо помню, как дала Дау прочитать книжку стихотворений Симонова. Кора потом сказала:
– Ты должна ее подарить Дау, он с ней не расстается. Ведь он тебе столько книг подарил.
Я охотно отдала книжечку Дау. Он выучил ее наизусть.
С 1943 по 1947 год Лев Давидович Ландау преподает на кафедре физики низких температур Московского университета, а с 1947 по 1950 год – на кафедре общей физики Московского физико-технического института.
1946 год был для Ландау счастливым. 30 ноября 1946 года он избран действительным членом Академии наук СССР. Кандидатуру его поддержал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии наук, талантливый физик-экспериментатор. Льву Давидовичу была присуждена Государственная премия за работы по теории фазовых переходов в теории сверхтекучести.
За три месяца до избрания в академию у Ландау родился сын. От радости не сиделось дома, Дау носился по институту и всем сообщал:
– У меня родился сын!
Шальников советовал назвать мальчика Иваном. Но Дау дал своему сыну «лучшее из всех возможных имен» – Игорь. Лопнула еще одна «теория», которую Дау считал непогрешимой: раньше он говорил, что детей иметь нельзя – они мешают родителям заниматься делами.
Надо было видеть, как Дау играл с малышом!
Мальчик был толстый, краснощекий, с черными отцовскими глазами и льняными материнскими локонами. Едва научившись ходить, он с утра топал в отцовский кабинет, и через минуту там начиналась немыслимая возня.
В 1946 году, как уже было упомянуто, Ландау получил свою первую Государственную премию. По отношению к премиям он твердо придерживался правила: часть премии, не меньше половины, надо раздать людям, в первую очередь тем, кто в данный момент нуждается в материальной поддержке.
Известность не изменила характера Дау. Любой мог поговорить, посоветоваться с ним. Невозможно было представить себе Ландау важничающим.
Вскочив с постели, Дау стремился поскорее покончить со всеми утренними делами. Чисто выбритый, он садился к столу: в левой руке газета, в правой вилка или ложка. Утренние газеты просматривались очень внимательно, ничего интересного не пропускалось.
Вот он выходит из дому. На соседнем крыльце появляется жена Шальникова – Ольга Григорьевна. Поклонившись соседке, Дау спрашивает у нее, не проспал ли Шура. Не успевает Ольга Григорьевна ответить, как из двери выбегает Александр Иосифович, и друзья отправляются в институт.
Дау очень любит Шуру и, говоря о нем, часто вспоминает четверостишие их однокурсницы Жени Канегиссер:
Не плечист, зато речист,
Сердцем нежен, духом чист.
Просто грех о нем злословить —
Шура Шальников.
Ландау заглядывает в комнату теоретиков и останавливается в дверях. Увидев на столе Петра Леонидовича Капицы новый прибор:
– Какой красивый прибор!
Прибор его любимого цвета – красного.
Две молоденькие аспирантки с невероятно серьезным видом что-то пишут. Дау подходит, вникает в суть их работы и весело хмыкает.
– Лев Давидович, разве неправильно? – вспыхивают девушки.
– Я не принадлежу к числу мужчин, которые сильный пол ставят выше слабого. Однако если бы у меня было столько забот, сколько у женщин, я бы никогда не стал физиком.
– Зато женщины обладают безграничным терпением, которого у мужчин нет.
– Безусловно. Я думаю, что если бы мужчинам пришлось рожать, человечество бы вымерло, – отвечает Дау и исчезает так же внезапно, как появился.
Аспирантки хохочут.
В те времена во дворе Института физических проблем, прямо против окон жилого корпуса, были устроены теннисные корты. Дау любил теннис и каким-то образом умудрялся обыгрывать среднеиг-рающих, хотя с точки зрения профессиональных спортсменов игрок он был довольно странный – даже не умел держать ракетку как положено.
Чаще всего партнером Дау был Александр Шальников.
– Дау, а почему ты прижимаешь ракетку к плечу? – кричит Шальников.
– А мне так удобнее, – невозмутимо отвечает Дау.
Низенький Шальников и высокий Дау – весьма живописная пара. Они беспрестанно друг над другом подшучивают. Это превратилось в своеобразную игру. Можно было удивляться их постоянной готовности парировать очередной словесный выпад противника. Подтрунивание могло продолжаться бесконечно, не вызывая обид, потому что они искренне любили друг друга.
– До чего же ты не важный человек, – с серьезной миной заявляет Шальников. – В жизни не встречал такого не важного человека, как ты.
С легкой руки Александра Иосифовича за директором Института физических проблем Капицей укрепилось прозвище Кентавр, так до конца и не признанное Петром Леонидовичем, хотя сам Капица был на редкость остроумным человеком. К тому же он не мог не помнить, что в свое время дал прозвище Крокодил своему любимому патрону – Эрнесту Резерфорду.
У Шальникова была неистощимая фантазия на розыгрыши и шутки. Неудивительно, что в один прекрасный день Александр Иосифович написал пародию на семинар Капицы в Институте физических проблем.
«ТУТ ТЕБЕ НЕ ЗАСЕДАНИЕ – ПОЕЛ И ДО СВИДАНИЯ.
СЕМИНАР КАК ТАКОВОЙ.
Кабинет Капицы. По стенам скучают портреты бывших знаменитостей. В креслах тоскуют оригиналы знаменитостей будущих. Кандидаты в знаменитости приглушенными постными голосами ведут беседы сугубо частного характера.
Часы, которые ходят с резким стуком, напоминая походку дамы в деревянных сандалиях, показывают три минуты восьмого. Мощный топот по лестнице – и в кабинет врывается Петр Леонидович Капица. Не обращая внимания на присутствующих, он смотрит на астрономические часы и спотыкается о край ковра.
– Эти часы идут вперед, – говорит он. – На моих без полутора минут семь.
Непочтительный Ландау говорит обычным своим игривым тоном, каким он разговаривает с незнакомыми женщинами или делает научные сообщения в отделении физико-математических наук:
– Эти часы почти правильны.
Он смотрит на свои ручные часы и еще более непочтительно добавляет:
– Они неправильны. Они позади на полторы минуты. Они отстают.
Пользуясь правом председателя, Капица зажимает беседу о часах.
– Ну, что у нас сегодня? – обращается он к Стрелкову. Стрелков нервно оправляет рукава и официальным тоном сообщает:
– Сегодня доклад Николая Евгеньевича. Николай Евгеньевич, Петр Леонидович, приготовил большой обзор последних работ по сверхпроводимости...
Капица:
– Ну, если никто не э-э-э... Можно будет начинать. Пожалуйте, Николай Александрович...
К доске выходит Николай Евгеньевич Алексеевский. Он озабочен. Характер его озабоченности неясен и выясняется лишь постепенно. Он держит в руках кипу журналов. Он работяга и трезвенник, но вид у него такой, что спорить можно только о том, четверо или пятеро суток он не спал или просто не успел протрезвиться после вчерашней выпивки. Собравшиеся располагаются поудобнее, запасаясь уютом на предстоящие два часа... Капица смотрит в окно отсутствующим взглядом. Ландау поворачивается к докладчику спиной.
Алексеевский нервно прохаживается у доски, перебирая журналы. На лице у него отражается бурно протекающий процесс развертывания интеллектуальной деятельности. Он несколько раз открывает и закрывает рот, но никаких звуков пока не издает. Шенберг, предусмотрительно занявший самое мягкое кресло, погружается в сладкий сон. Лифшиц плотоядно и выжидающе поглядывает на входную дверь...
Неожиданно со стороны доски начинают доноситься какие-то звуки. Оказывается, Алексеевский уже несколько минут докладывает свой обзор. Но, испытывая некоторое стеснение духа в начале доклада, он изъясняется исключительно инфразвуками. Постепенно приобретая развязность, он повышает тон своей речи. Но пока что с достаточной степенью точности можно установить лишь тот факт, что источником неопределенных звуков, раздающихся в кабинете, помимо стука часов, является Николай Евгеньевич. Понять ничего нельзя. Можно только чисто качественно оценить великолепный басовый регистр докладчика, которому мог бы позавидовать сам Шаляпин.
– Э-бу-бу-бу-бу, э-бу-бу-бу, – говорит Николай Евгеньевич. Затем звуки сливаются в слова. Некоторые из них можно даже разобрать. Например; Лондон, Майзнер, тантал...
Обращаясь к Стрелкову, он сообщает причину своей озабоченности:
– Э-бу-бу-бу... Петр Георгиевич, э-бу-бу-бу... Материала у меня не больше чем на пять минут. Работа очень короткая.
– Работа большая, вы, наверное, просто не успели ее прочесть, – говорит Шальников, которого отсутствие папиросы превращает из ягненка в рыкающего льва. Голосом ехидны он обращается к Алек-сеевскому и спрашивает, что отложено на осях.
– Давление... – бормочет Николай Евгеньевич. – Нет, температура. То есть да, давление...
– А на другой оси? – спрашивает Е.М. Лифшиц.
«Ничего нет на другой оси. Она заготовлена исключительно для того, чтобы на том свете насаживать людей, задающих никчемные вопросы», – хотел сказать Алексеевский, но вместо этого он выдавливает из себя:
– Э-бу-бу-бу... Теплопроводность...»
Эта юмореска – мы приводим ее со значительными сокращениями – позволяет судить лишь об остроумии автора. А говоря об Александре Иосифовиче Шальникове, надо в первую очередь подчеркнуть, что он был талантливым экспериментатором, замечательным учителем для начинающих научных работников и человеком редкостной доброты.
Находились люди, которые умение Дау шутить, поддерживать легкий, остроумный разговор – и все это в несколько необычной, а иногда экстравагантной форме – называли актерским наигрышем. Можно ли с этим согласиться? Разумеется, каждый общественный деятель, будь то лектор, учитель, врач, всегда должен быть подтянут, распущенность и расхлябанность тут недопустимы, о столь очевидных вещах не приходится и говорить. Но Ландау нельзя упрекнуть ни в чем подобном. Ни при каких обстоятельствах не был он также важным, напыщенным, недоступным. По-видимому, прирожденный артистизм Дау некоторые принимали за актерский наигрыш, в котором всегда таится фальшь. Это ошибка: чего в нем совершенно не было, так это фальши!
Пишущей эти строки выпало счастье постоянно видеться с Дау более четверти века. Когда приходили гости, их встречал человек изящный, светский, чьи остроты вызывали смех и веселье. Дома, без гостей и учеников, он казался еще привлекательнее. Каким-то невыразимым уютом и спокойствием веяло от него. Даже когда он молчал, в его присутствии становилось легко и хорошо на душе...
Ландау был баловнем судьбы. Огромная творческая работа, неустанный труд – основное содержание его жизни. Как у каждого человека, иногда у него были ошибочные работы, иногда ему что-то не удавалось. Но у него было меньше ошибок, чем у других. Во-первых, Ландау никогда не боялся сознаваться в ошибке, не упорствовал, отстаивая ее. А во-вторых, и это главное, чутье подсказывало ему, по какому пути следует идти.
Это и была интуиция, которой судьба одаряет гения...