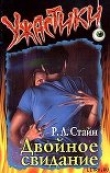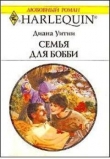Текст книги "Подозреваемый"
Автор книги: Майкл Роботэм
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
9
Джулиана и Чарли смотрят телевизор на первом этаже. Я сижу на полу чердака, перебирая коробки со старыми медицинскими картами в поисках записей о Кэтрин Макбрайд. Сам не знаю, зачем мне это. Возможно, я надеюсь оживить ее в своей памяти, чтобы задать ей вопросы.
Руиз не доверяет мне. Он думает, я пытаюсь что-то скрыть. Надо было сказать ему раньше, и сказать все. Это ни на что не повлияло бы. Кэтрин не вернешь.
На всех блокнотах наклеены даты и годы, поэтому найти нужные легко. Меня интересуют два: в темно-зеленых обложках, с пестрыми корешками.
В кабинете я зажигаю свет и начинаю читать свои заметки. Страницы формата А4 аккуратно разлинованы, на широких полях проставлены дата и время каждого сеанса. Подробности оплаты, медицинские замечания и наблюдения – все здесь.
Какой мне запомнилась Кэтрин? Я вижу, как она идет по коридору в Марсдене, одетая в голубую форму с темно-синей окантовкой на рукавах и воротнике. Она машет мне рукой и улыбается. На поясе висят ключи. У большинства медсестер рубашки с короткими рукавами, но Кэтрин носит длинные.
Сначала она была просто девушкой, которую я встречал в коридорах или кафетерии, симпатичной, хотя и недостаточно женственной: мальчишеская стрижка, высокий лоб, полные губы. Она нервно поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, никогда не глядя мне прямо в глаза. Кажется, я часто натыкался на нее, особенно когда уходил из больницы. Только потом я заподозрил, что она это подстраивала.
В конце концов она спросила, нельзя ли со мной поговорить. Только через несколько минут я понял, что она имеет в виду врачебный сеанс. Я назначил ей время, и она пришла на следующий день.
С того дня она приходила ко мне раз в неделю. Она приносила с собой плитку шоколада и, положив на мой стол, разламывала ее на серебряной фольге точь-в-точь как ребенок, который делит сладости. В промежутках между ментоловыми сигаретами она растапливала кусочки шоколада под языком.
– Вы знаете, что это единственный кабинет во всей больнице, где разрешается курить? – сказала она мне.
– Так вот почему у меня так много посетителей.
Ей было двадцать, она была прагматична, разумна и встречалась с кем-то из сотрудников. Не знаю, кто это был, но подозреваю, что он был женат. Порой она случайно говорила «мы» и тут же поправлялась, возвращаясь к единственному числу.
Улыбалась она чрезвычайно редко. Склоняла голову набок и смотрела на меня то одним глазом, то другим.
Я подозревал, что Кэтрин раньше посещала кого-то вроде меня. Ее вопросы были такими точными. Она знала о том, как пишется история болезни, и о когнитивной терапии. Она была слишком молодой, чтобы изучить психологию, значит, она прежде была пациенткой.
Она говорила, что чувствует себя недостойной и незначительной. Отделившись от семьи, она пыталась сломать барьер, но боялась «отравить их безупречную жизнь».
Когда она говорила и сосала кусочки шоколада, то иногда почесывала предплечья под застегнутыми рукавами. Я понимал, что она что-то скрывает, но ждал, когда она доверится мне настолько, чтобы сказать.
На четвертом сеансе она медленно закатала рукава. В ней боролись стыд и дерзость. Она хотела поразить меня жестокостью своих ран. Они были словно линии жизни, которые я мог прочитать.
Кэтрин впервые порезала себя в двенадцать лет. Ее родители были в центре бурного бракоразводного процесса. Она словно попала в капкан между ними, чувствуя себя тряпичной куклой, которую тянут в разные стороны два поссорившихся ребенка.
Она завернула карманное зеркальце в полотенце и разбила его об угол письменного стола. Осколком вскрыла себе запястье. Вид крови принес ей облегчение. Она больше не была беспомощной.
Родители запихнули ее в машину и повезли в больницу. На протяжении всего пути они спорили, кто в этом виноват. Кэтрин чувствовала себя спокойной и умиротворенной. Ее оставили в больнице на ночь. Рана перестала кровоточить. Она с любовью гладила запястье и целовала порез, желая ему спокойной ночи.
– Тогда я обнаружила то, что могла контролировать, – говорила она мне. – Я могла решать, сколько раз и как глубоко буду резать. Мне нравилась боль. Я жаждала боли. Я ее заслуживала. Знаю, наверное, у меня мазохистские наклонности. Посмотрели бы вы на мужчин, с которыми я связывалась. Послушали бы о некоторых снах…
Она никогда не говорила, что провела какое-то время в психиатрической клинике или на сеансах групповой терапии. Многое из своего прошлого она хранила в тайне, особенно то, что касалось ее семьи. Долгое время ей удавалось удерживаться от того, чтобы себя резать. Но за каждый срыв она наказывала себя, нанося все более глубокие порезы. Больше всего доставалось бедрам и рукам, где раны легко могла скрыть одежда.
Она также изучила, какие кремы и повязки уменьшают шрамы.
Когда раны приходилось зашивать, Кэтрин обращалась в травматологические пункты, расположенные далеко от Марсдена. Она не могла рисковать работой и в приемном покое называла себя вымышленным именем, а иногда притворялась иностранкой, не знающей английского.
Она знала по опыту, что медсестры и врачи относятся к членовредителям как к людям, которые ищут внимания и отнимают у них время. Иногда их раны зашивают без анестезии. «Нравится боль – вот тебе еще» – таково отношение.
Даже это не изменило поведения Кэтрин. Когда у нее текла кровь, она спасалась от эмоционального оцепенения. В моих блокнотах повторяются ее слова: «Я чувствую, что живу. Я спокойна. Я контролирую ситуацию».
На страницах виднеются темные пятна от шоколада. Она разламывала кусочки и бросала крошки на страницы. Она не любила, когда я писал. Она хотела, чтобы я слушал.
Дабы разомкнуть ее кровавый круг, я предложил ей альтернативную стратегию. Вместо того, чтобы браться за лезвие, я велел ей сжимать в руке кусок льда, кусать перец чили или втирать мазь в половые органы. Эта боль не оставляла шрамов и чувства вины. Если бы мы разрушили порочный ход ее размышлений, можно было бы найти другой способ справляться с проблемами, не такой физиологический и жестокий.
Спустя несколько дней, 15 июля, Кэтрин разыскала меня в онкологическом отделении. В руках она держала охапку простынь и тревожно озиралась по сторонам. В ее глазах я заметил нечто не поддававшееся определению.
Она знаком попросила меня пойти с ней в комнату и бросила простыни. Рукава ее кофты были набиты бумажными салфетками и полотенцами. Кровь сочилась сквозь слои бумаги и ткани.
– Пожалуйста, не выдавайте меня! – сказала она. – Мне так жаль.
– Вы должны пойти в травму.
– Нет! Пожалуйста, мне нужна работа.
Тысяча голосов у меня в голове говорили мне, что следует сделать. Я не обратил внимания ни на один из них. Я отправил Кэтрин к себе в кабинет, а сам собрал все необходимое для наложения швов: иглы, нити и зажимы, повязки и антисептические средства. За задернутыми занавесками и запертой дверью я зашил ей предплечья.
– У вас хорошо получается, – сказала она.
– Есть практика. – Я обезвредил рану. – Что случилось?
– Я хотела покормить медведей.
Я не улыбнулся. Она осеклась.
– Я кое с кем поссорилась. Не знаю, кого хотела наказать.
– Вашего друга?
Она подавила слезы.
– Чем вы воспользовались?
– Бритвенным лезвием.
– Чистым?
Она покачала головой.
– Прекрасно. Впредь, если будете продолжать, используйте это. – Я протянул ей упаковку одноразовых скальпелей в стерильном контейнере. Я также дал ей бинты, бактерицидный пластырь и нить.
– Таковы мои правила, – сказал я ей. – Если хотите делать это, вы должны резать только в одном месте – на внутренней стороне бедра.
Она кивнула.
– Я научу вас самостоятельно накладывать швы. Если окажется, что вы не сможете этого сделать, вы поедете в больницу.
Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами.
– Я не собираюсь отнимать у вас права причинять себе боль, Кэтрин. Я также не намерен сообщать вашему начальству. Но вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы себя контролировать. Я вам доверяю. Вы можете отплатить мне за мое доверие, не раня себя. Когда вы вновь почувствуете такое желание, немедленно позвоните мне. Если вы не сделаете этого и пораните себя, я не стану упрекать вас и думать о вас хуже. Но я и не побегу к вам. Если вы причините себе вред, я не буду встречаться с вами неделю. Это не наказание – это испытание.
Я видел, как напряженно она думает об этих условиях. На лице все еще был написан страх, но вся поза выдавала облегчение.
– Отныне мы устанавливаем пределы вашему саморазрушению и вы несете ответственность за него, – продолжал я. – В то же время мы продолжим поиск новых путей.
Я дал Кэтрин краткий урок шитья, воспользовавшись подушкой. Она пошутила, что из меня выйдет отличная жена. Когда она поднялась, чтобы уйти, то обняла меня:
– Спасибо!
Она прижалась ко мне так крепко, что я почувствовал, как бьется ее сердце.
После того как она ушла, я сидел, уставившись на окровавленные бинты в корзине, и пытался определить, окончательно ли я сошел с ума. Представлял себе коронера, с негодованием спрашивавшего меня, зачем я дал скальпели девушке, которая получала наслаждение, вспарывая себе кожу. Он бы еще спросил меня о том, одобряю ли я вручение спичек поджигателям и героина наркоманам.
Но все же я не видел иного способа помочь Кэтрин. Нетерпимость только укрепила бы ее веру в то, что люди контролируют ее жизнь и все решают за нее, считая, что она никчемна и не заслуживает доверия.
Я дал ей возможность выбора. Будем надеяться, что, прежде чем взяться за лезвие, она тщательно обдумает причины своего поведения и его возможные последствия. А заодно и другие способы, к которым могла бы прибегнуть.
В последующие месяцы Кэтрин сорвалась лишь однажды. Ее руки зажили. Мои швы оказались удивительно аккуратными для человека, давно в этом не практиковавшегося.
Заметки на этом заканчиваются, но история продолжается. Я до сих пор съеживаюсь от стыда, когда вспоминаю подробности, потому что должен был это предвидеть.
Кэтрин стала внимательнее относиться к своей внешности. Она выбирала время для сеансов в конце рабочего дня. Сменив одежду, подновив макияж и распространяя запах духов, она приходила в мой кабинет. Ничего очевидного – все очень тонко. На ее блузке оказывалась расстегнутой лишняя пуговица. Она интересовалась, чем я занимаюсь в свободное время. Друг дал ей два билета в театр. Не хочу ли я пойти с ней?
Есть старый анекдот о том, что психолог – это человек, которому ты платишь деньги, чтобы он задавал тебе вопросы, которые супруга задает бесплатно. Мы слушаем людей, прочитываем подтексты, выстраиваем самооценку и учим любить людей такими, как они есть.
Естественно, Кэтрин влекло к мужчине, который действительно слушает и сочувствует, но такое влечение легко было принять за нечто более интимное.
Ее поцелуй явился полной неожиданностью. Мы были в моем кабинете в Марсдене. Я оттолкнул ее слишком резко. Она отпрянула и, споткнувшись, ударилась о дверь. Она решила, что это игра.
– Можешь ударить меня, если хочешь, – сказала она.
– Я не хочу причинять вам боль.
– Я была очень плохой девочкой.
– Вы не понимаете.
– Понимаю. – Она расстегивала молнию на юбке.
– Кэтрин, вы ошиблись. Вы неправильно истолковали ситуацию.
Мой резкий голос наконец привел ее в себя. Она стояла у моего стола, блузка расстегнута, юбка на лодыжках. Ситуация была неловкой для нас обоих – но для нее особенно. Она выбежала прочь, придерживая юбку на талии, по щекам текла тушь.
Она уволилась и уехала из Марсдена, но воспоминания о том дне преследуют меня до сих пор. Нет ничего страшнее отвергнутой женщины.
10
Джулиана занимается стретчингом в свободной спальне. Каждое утро она принимает странные позы, напоминающие йогу, названия которых звучат как имена индейских скво: «журчащий ручей» сменяется «бегущей ланью».
Жаворонок со стажем, она готова к бою в 6.30 утра. То ли дело я. Мне всю ночь снились окровавленные, избитые лица.
Джулиана шлепает босыми ногами в спальню, на ней только топ от пижамы. Она наклоняется и целует меня.
– Ты беспокойно спал.
Ее голова ложится мне на грудь, пальцы выбивают чечетку вдоль моего позвоночника, и она прислушивается к моему трепету. Так моя жена напоминает мне, что знает каждый квадратный дюйм моего тела.
– Я не рассказала тебе, как хор Чарли пел хоралы.
– Проклятие! Совсем забыл. – Это было утром во вторник на Оксфорд-стрит. – Я был с инспектором.
– Не волнуйся. Она тебя простит. Видимо, юный Райан Фрейзер поцеловал ее в автобусе по дороге домой.
– Дерзок поганец!
– Это было нелегко. Троим ее друзьям пришлось поймать и держать его.
Мы смеемся, и я укладываю ее на себя, позволяя ей почувствовать мое возбуждение.
– Останься.
Она смеется и ускользает.
– Нет, я занята.
– Ну, давай!
– Время неподходящее. Надо бережнее относиться к твоим парням.
«Мои парни» – это мои сперматозоиды. Она говорит о них, словно о группе десантников.
Джулиана одевается. Белые трусики скользят вверх по ногам и устраиваются на месте. Потом, не снимая полностью блузку, она просовывает руки в лямки бюстгальтера. Она не рискнет поцеловать меня снова. На этот раз я могу и не отпустить ее.
Джулиана исчезает, я лежу в постели и слушаю, как она ходит по дому, едва касаясь ногами пола. Я слышу, как набирается вода в чайник, как забирают молоко с крыльца. Слышу, как открывают дверцу холодильника и как включают тостер.
С трудом приняв вертикальное положение, я делаю шесть шагов в ванную и открываю кран в душе. Котел в подвале захлебывается, трубы гремят и клокочут. Дрожа, я стою на холодной плитке и жду хоть какого-нибудь признака воды. Душевая насадка трясется. Я готов к тому, что в любой момент кафель вокруг крана начнет обваливаться.
Два раза кашлянув и судорожно сплюнув, душ выдает мутную струйку и иссякает.
– Котел опять сломался! – кричит Джулиана снизу.
Отлично! Великолепно! Где-то надо мной смеется водопроводчик. Он, без сомнения, рассказывает своим товарищам по цеху, как ловко он притворился, что чинит допотопный котел, и взял за это достаточно денег, чтобы провести пару недель во Флориде.
Я бреюсь под холодной водой, взяв чистый станок, и не режусь. Может, это и не большая победа, но она достойна внимания.
Я направляюсь в кухню и смотрю, как Джулиана готовит кофе и намазывает отличным джемом зерновой тост. Я всегда чувствую себя ребенком, когда ем рисовые хлопья.
До сих пор помню, как впервые увидел ее. Она была на первом курсе Лондонского университета, изучала иностранные языки. Я писал диссертацию. Даже собственная мать не назвала бы меня красавцем. У меня были темные вьющиеся волосы, нос в форме груши и кожа, покрывавшаяся веснушками при первых признаках солнца.
Я остался в аспирантуре, намереваясь переспать со всеми перспективными и временно свободными первокурсницами, но, в отличие от других будущих повес, я прилагал для этого слишком много стараний. Мне даже не удавалось быть по-модному неряшливым и бунтарским. Не важно, сколько ночей я проводил на чьем-нибудь полу, используя вместо подушки куртку, – она отказывалась мяться и покрываться пятнами. И вместо того чтобы выглядеть интеллектуальным и пресыщенным, я сильно смахивал на человека, идущего на первое собеседование с работодателем.
– В тебе была страсть, – сказала она, выслушав мои излияния против ужасов апартеида на митинге на Трафальгар-сквер рядом с посольством ЮАР. Она представилась в пабе и разрешила мне налить ей двойной виски.
Джок был там – и все девушки расписывались на его футболке. Я знал, что он заметит Джулиану. Она была новенькой – и хорошенькой. Он обнял ее за талию и сказал:
– Я мог бы стать лучше, просто находясь рядом с тобой.
Даже не улыбнувшись, она убрала его руку и ответила:
– Жаль, но когда у тебя встает, это вряд ли можно считать личностным ростом.
Все засмеялись, кроме Джока. А Джулиана села за мой столик, и я смотрел на нее в изумлении. Я раньше не видел, чтобы моего лучшего друга ставили на место так мастерски.
Я попытался не покраснеть, когда она сказала, что во мне была страсть. Она засмеялась. Рядом с нижней губой у нее была родинка. Мне хотелось ее поцеловать.
После пяти двойных она уснула в баре. Я отнес ее в кеб и отвез домой, в свою комнату в Ислингтоне. Она спала на кровати, а я лег на диван. Утром она поцеловала меня и поблагодарила за то, что я был таким джентльменом. Потом она снова поцеловала меня. Я помню выражение ее глаз. В них не было вожделения. Они не говорили: «Давай немного повеселимся, а потом посмотрим, что из этого выйдет». Ее глаза говорили: «Я стану твоей женой и рожу тебе детей».
Мы всегда были странной парой. Я был тихим и практичным, ненавидел шумные вечеринки, сборища в пабах и не ездил на выходные домой. А она была единственным ребенком отца-художника и матери-дизайнера, одевавшихся как дети цветов в шестидесятые и замечавших в людях только хорошее. Джулиана не бывала в гостях – гости сами приходили к ней.
Мы поженились через три года. В то время я уже был приучен к дому: научился складывать грязное белье в корзину, опускать сиденье туалета и не пить слишком много на званых обедах. Джулиана не столько «обивала мои острые углы», сколько лепила меня из глины.
Это было шестнадцать лет назад. Кажется, что это было вчера.
Джулиана подталкивает ко мне газету. Там фотография Кэтрин, заголовок гласит: «Замученная девушка – племянница члена парламента».
…Сэмюел Макбрайд был потрясен жестоким убийством своей двадцатисемилетней племянницы.
Член парламента от лейбористов (округ Брайтон-ле-Сэндс) был явно расстроен вчера, когда спикер палаты от имени собравшихся выразил искреннее соболезнование по поводу его утраты.
Обнаженное тело Кэтрин Макбрайд было обнаружено шесть дней назад на берегу Гранд-Юнион-канала в Кенсал-грин, Западный Лондон. На ее теле обнаружены множественные ножевые ранения.
«В настоящее время мы сосредоточены на установлении последних передвижений Кэтрин и поиске людей, видевших ее накануне ее смерти, – сказал инспектор Винсент Руиз, ведущий расследование. – Мы знаем, что она приехала на поезде из Ливерпуля тринадцатого ноября. Полагаем, она приехала в Лондон устраиваться на работу».
Кэтрин, чьи родители развелись, работала медсестрой в Ливерпуле и в течение многих лет не поддерживала контактов с семьей.
«У нее было трудное детство, и она пошла по неверному пути, – объясняет друг семьи. – Недавно родственниками предпринимались попытки к воссоединению».
Джулиана наливает вторую чашку кофе.
– Странно, правда, что Кэтрин вновь объявилась после всех этих лет?
– Что ты имеешь в виду под «странно»?
– Не знаю. – Она слегка вздрагивает. – Я хочу сказать, она доставила нам много проблем. Ты чуть не потерял работу. Я помню, как ты был зол.
– Она страдала.
– Она была озлобленна.
Она бросает взгляд на фотографию Кэтрин. Снимок сделан в день окончания школы медсестер. Девушка улыбается и сжимает в руке диплом.
– И вот она снова здесь. Мы там были, когда они обнаружили ее. Какова была вероятность этого? А потом полицейские попросили тебя опознать ее…
– Совпадение – это просто пара вещей, происходящих одновременно.
Она закатывает глаза:
– Сказано настоящим психологом.
11
В виде исключения Бобби приходит вовремя. На нем рабочая одежда – серая рубашка и брюки. На нагрудном кармане вышито слово «Неваспринг». Я снова удивляюсь его высокому росту.
Я заканчиваю последнюю запись, старательно выводя каждую букву, и поднимаю взгляд, проверяя, готов ли он. Именно тогда я понимаю, что он никогда не будет вполне готов. Джок прав – в Бобби есть что-то хрупкое и неустойчивое. Его сознание полно незаконченных мыслей, странных фактов и обрывков разговоров.
Несколько лет назад в Сохо открылось кафе под названием «Чудаки», которое, как планировалось, должно было собирать всех эксцентричных особ, населяющих Вест-Энд: художников с дикими прическами, трансвеститов, панков, хиппи, безумных журналистов и денди. Этого не случилось. Напротив, все столики заведения были заняты пришедшими посмотреть на чудаков обычными офисными работниками, которым в результате приходилось глазеть друг на друга.
Бобби часто говорит, что пишет в свободное время, и в его монологах нередко проскальзывают литературные аллюзии.
– Можно посмотреть что-нибудь из того, что вы написали? – спрашиваю я.
– Вы ведь этого не хотите.
– Нет, хочу.
Он обдумывает предложение:
– Может, принесу что-нибудь в следующий раз.
– Вы всегда хотели стать писателем?
– Да, с тех пор как прочитал «Над пропастью во ржи».
Мое сердце сжимается. Мне представляется еще один стареющий озлобленный подросток, который считал, что Холден Колфилд – это Ницше.
– Вам нравится Холден?
– Нет. Он идиот.
Я чувствую облегчение.
– Почему?
– Он наивен. Он хочет спасать детей от падения с утеса во взрослое состояние, сохранить их невинность. Но не может. Это нереально. В конце концов нас всех портят.
– Как испортили вас?
– Ха!
– Расскажите мне о ваших родителях, Бобби. Когда вы в последний раз видели своего отца?
– Мне было восемь. Он ушел на работу и не вернулся.
– Почему?
Бобби меняет тему:
– Он служил в авиации. Не летчиком. Но именно он позволял им летать. Механик. Во время войны он был слишком молод, но не думаю, что это его огорчило. Он был пацифистом. Когда я рос, он, бывало, цитировал мне Маркса, говорил, что религия – это опиум для народа. А по воскресеньям возил меня на автобусе из Килберна в Гайд-парк, чтобы подразнить светских проповедников за их кафедрами из деревянных ящиков. Один из этих проповедников выглядел, словно капитан Ахав из «Моби Дика»: длинные седые волосы, завязанные в хвост, громкий гулкий голос. «Господь отплатит за грехи наши вечной смертью», – сказал он, глядя прямо на меня. А папа заорал в ответ: «Вы знаете, в чем разница между проповедником и психом?» Помолчал и сам ответил: «В источнике голосов, которые они слышат». Все засмеялись, кроме проповедника, который раздулся, как рыба-собака.
«Правда ли, что вы поощряете все вероисповедания, но особенно приветствуете веру в фунты стерлингов?» – сказал отец. «Вы, сэр, отправитесь в ад!» – заорал проповедник. «А в какую сторону мне идти: прямо или направо?»
Бобби даже имитирует голоса. Осознав это, он смотрит на меня, смущенный тем, что так увлекся.
– Как вы с ним ладили?
– Он был моим отцом.
– Что вы делали вместе?
– Когда я был маленьким, он сажал меня на раму своего велосипеда перед собой. Он быстро крутил педали, а я смеялся. Однажды он повел меня на домашнюю игру «Куинз парк рейнджерз». Я сидел у него на плечах в сине-белом шарфе. После матча возникла потасовка между фанатами в Шепердс-буш-грин. Конная полиция ехала через толпу, но папа укутал меня в пальто. Я должен был бы испугаться, но я знал, что его ничто не свалит с ног, даже эти лошади.
Он замолкает и скребет ладошку.
Вокруг каждого детства возникает мифология. Мы копим свои желания и мечты, пока все истории о нем не превращаются в притчи, имеющие скорее символическое, нежели буквальное истолкование.
– Что случилось с вашим отцом?
– Он был не виноват, – произносит Бобби с вызовом.
– Он вас бросил?
Бобби в ярости вскакивает с кресла:
– Вы ничего не знаете о моем отце! – Он стоит на ногах и со свистом втягивает воздух сквозь сжатые зубы. – И никогда не узнаете! Такие, как вы, разрушают жизни. Вы наживаетесь на горе и отчаянии. При малейшей неприятности вы тут как тут, учите людей, что они должны чувствовать. Что должны думать. Вы словно стервятники!
Так же внезапно его гнев проходит. Он вытирает слюну, выступившую в уголках рта, и смотрит на меня виновато. Наполняет стакан водой и со странным спокойствием ждет моего следующего вопроса.
– Расскажите мне о своей матери.
– Она пользуется дешевыми духами и умирает от рака груди.
– Сочувствую. Сколько ей лет?
– Сорок семь. Она не позволяет ампутировать грудь. Всегда ею гордилась.
– Как бы вы описали свои отношения с ней?
– Я узнал о ее болезни от знакомого в Ливерпуле. Она там живет.
– Вы не навещаете ее?
– Ха!
Его лицо невольно кривится, но он сдерживается.
– Позвольте описать вам мою мать. – В его устах это звучит как вызов. – Она была дочь бакалейщика. Не правда ли, в этом есть ирония? Совсем как Маргарет Тэтчер. Она выросла в магазинчике на углу, подгузники ей меняли прямо у кассового аппарата. К четырем годам она могла подсчитать стоимость покупки, взять деньги и дать сдачу. Каждый день, включая воскресенья и национальные праздники, она работала в этом магазине. Она читала журналы за прилавком и мечтала вырваться к лучшей жизни. Когда появился папа, он был в форме, он представился летчиком. Все девушки на это велись. Быстрый перепих на заднем дворе клуба ВВС в Мархеме, и она забеременела. Вскоре выяснила, что он не летчик. Не думаю, что ее это расстроило, по крайней мере не тогда. Впоследствии это сводило ее с ума. Она говорила, что вышла замуж поневоле.
– Но они жили вместе.
– Да. Папа ушел из авиации и стал работать механиком в Лондонском транспортном комитете, чинил автобусы. Потом стал кондуктором на девяносто шестом маршруте в Пикадилли-серкус. Он говорил, что любит быть среди людей, но я думаю, ему просто нравилось носить форму. Он ездил на велосипеде в депо и обратно.
Бобби замолкает, вновь погружаясь в воспоминания. Я осторожно подталкиваю его, и он говорит, что его отец был изобретателем-любителем, постоянно обдумывавшим проекты новых устройств и приборов.
– Есть люди, которые хотят усовершенствовать мышеловку, так вот, он был одним из них.
– А как к этому относилась ваша мать?
– Она говорила, что он напрасно тратит время и деньги. Она то называла его мечтателем и смеялась над его «глупыми изобретениями», то говорила, что он недостаточно мечтает и что ему не хватает амбициозности.
Быстро моргая, он смотрит на меня своими странными бледными глазами, словно потерял нить рассуждений. Внезапно он вспоминает:
– Это она была мечтательницей, а не папа. Она считала себя свободной натурой среди скучной посредственности. Но как она ни старалась, она не могла жить богемной жизнью в таком месте, как Гендон. Она ненавидела это место – дома с плоскими каменными фасадами, занавески в сеточку, дешевую одежду, кафе с грязной посудой и садовых гномов. Рабочий люд обычно старается наладить свою жизнь любым способом, но она насмехалась над этим. Она замечала только мелочность, ничтожность и уродство.
Он начинает говорить монотонно, словно часто рассказывал эту историю прежде:
– Она обычно наряжалась и уходила каждую ночь. Я сидел на кровати и смотрел, как она одевается. Она примеряла разные костюмы, демонстрируя их мне. Она разрешала мне застегивать молнию на юбке и разглаживать чулки. Она называла меня своим маленьким мужчиной. Если папа не вел ее никуда, она уходила одна, в паб или клуб. У нее была особенная, порочная манера смеяться, которая оповещала всех о ее присутствии. Мужчины поворачивали головы и смотрели на нее. Они считали ее сексуальной, несмотря на полноту. Во время беременности она набрала несколько фунтов, которые так и не смогла сбросить. Она обвиняла в этом меня. А когда она танцевала или слишком громко смеялась, она иногда мочилась. Это тоже была моя вина.
Последний комментарий произносится со стиснутыми зубами. Он оттягивает пальцами кожу на запястье и выкручивает ее так, словно пытается разорвать. Унизив свое тело, он снова принимается за рассказ:
– Она пила белое вино с газом, потому что оно было похоже на шампанское. И чем больше она пьянела, тем громче становилась. Она начинала говорить по-испански, потому что этот язык звучит сексуально. Вы когда-нибудь слышали, как женщина говорит по-испански?
Я киваю, вспоминая Джулиану.
– Если отец ходил с ней, это вредило ее имиджу. Мужчины не станут флиртовать с женщиной, чей муж стоит за той же стойкой. Если же она была одна, то все они вились вокруг нее, клали руки ей на талию, щипали за задницу. Она не ночевала дома и приходила утром, принося трусики в сумочке, вертя туфли на пальце. Она даже не пыталась изображать супружескую верность. Она не хотела быть идеальной женой. Она хотела быть кем-то другим.
– А что же ваш папа?
Проходит долгая минута, прежде чем он находит нужный ответ.
– Он с каждым днем становился меньше. Понемногу исчезал. Смерть от тысячи ран. Вот как, я надеюсь, она умрет.
Фраза повисает в воздухе, но на этот раз молчание мной не предусмотрено. Кажется, что кто-то дотянулся до часов и остановил пальцем минутную стрелку.
– Почему вы произнесли эту фразу?
– Какую?
– «Смерть от тысячи ран».
Его губы непроизвольно изгибаются в тонкой кривой усмешке.
– Я хочу, чтобы она так умерла. Медленно. В мучениях. От своей собственной руки.
– Вы хотите, чтобы она сама себя убила?
Он не отвечает.
– Вы представляете себе, как она умирает?
– Мне это снится.
– И что же вам снится?
– Что я буду рядом.
Он смотрит на меня, его бледные глаза похожи на бездонные озера.
Смерть от тысячи ран. У древних китайцев было сказано более точно: «Тысяча ножей и десять тысяч кусочков». Женщина, которую Бобби вытащил из кеба, была приблизительно одного возраста с его матерью и носила похожую одежду. Она также продемонстрировала холодность по отношению к сыну. Достаточно ли этого, чтобы объяснить его поступок? Я подбираюсь к истине. В самом желании понять чужую жестокость есть нечто беспощадное. Не думай о белом медведе.
Другой пациент ждет в приемной. Бобби медленно поднимается и поворачивается к двери.
– Встретимся в понедельник, – говорю я, делая ударение на дне недели. Я хочу, чтобы он его запомнил. Я хочу, чтобы он продолжал приходить.
Он кивает и протягивает мне руку:
– Мистер Баррет сказал, вы собираетесь помочь мне.
– Я собираюсь подготовить психологический отчет.
Он снова кивает:
– Я не сумасшедший, вы же знаете.
– Знаю.
Он похлопывает себя по голове:
– Это была всего лишь глупая ошибка.
И вот он ушел. Моя следующая пациентка, миссис Эйлмер, уже усаживается в кресло и сообщает, сколько раз она проверяет перед сном, заперта ли дверь. Я не слушаю. Я стою у окна и смотрю, как Бобби выходит на улицу и идет к станции. Он периодически семенит, чтобы не наступать на трещины в плитах мостовой.
Он останавливается, увидев молодую женщину, идущую навстречу. Когда она проходит, он разворачивается и смотрит ей вслед. Мгновение мне кажется, что он решает, пойти ли за ней. Бобби смотрит в одну сторону, затем в другую, словно попал на перекресток. Но спустя несколько секунд он перепрыгивает через трещину и продолжает путь.
Я снова в кабинете Джока, слушаю, как он бормочет о результатах тестов, в которых я ничего не понимаю. Он хочет, чтобы я как можно скорее начал принимать лекарства.