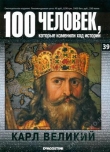Текст книги "Крушение Римской империи"
Автор книги: Майкл Грант
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Западная империя закончила свое существование. Восток пережил ее, но без Запада его дальнейшее развитие было куда менее впечатляющим. Античный мир Рима был сведен до половины своего начального размера, и одной из причин этого знаменательного истощения великой классической культуры, как указывал Гиббон, явилась прискорбная неудача двух прежних половинок в попытках сотрудничать. Проигравшим оказался Запад, более слабый партнер.
Глава 9
РАСА ПРОТИВ РАСЫ
Когда германцы вступили в Империю, Риму представилась возможность ассимилировать их, однако эта возможность была упущена с самыми печальными последствиями. Вместо объединения и партнерских отношений между двумя народами возникли острые трения, которые, как это ни печально, внесли свой вклад в распад римского мира.
Еще задолго до последнего столетия Западной империи, многие германские племена жили в пределах имперских границ. С момента установления империи один римский правитель за другим приглашали их в большом количестве, чтобы обезопасить границы и заполучить как можно больше солдат и сельскохозяйственных рабочих. Со времен Константина Великого целые полки имперской полевой армии состояли из германцев. Многие из этих людей получали офицерские звания. Императоров окружали военачальники-германцы. Символом того периода явился германец, ставший Учителем Солдат или командующим имперских армий. Императоры всегда были склонны полагать, что они могут рассчитывать на лояльность иноплеменников.
С течением времени получилось, что эти люди стали фактически над правительством. Таким властителем был, например, Арбогаст во времена Грациана и Валентиниана II; хотя он вряд и заслуживал доверия, как это обнаружилось позже, после таинственной смерти Валентиниана II, которая почти наверняка была делом рук этого франка. Наиболее выдающимся из всех таких командующих и правителей, стоявших за троном, был Стилихон, который правил Западной империей при юноше Гонории.
Благоговение перед имперской монархией было настолько неописуемым, что даже наиболее могущественные военачальники-германцы не помышляли войти в число правителей. Из всех многочисленных военных узурпаторов и потенциальных узурпаторов четвертого и пятого столетий только две совершенно исключительные фигуры в период 350-х годов, по-видимому, были германцами. Даже перед самым концом германец Рицимер предпочитал править, оставаясь в тени трона послушных императоров, нежели пытаться, вопреки традиции, выйти самому на авансцену.
Внутренний баланс власти между римлянами и германцами в Империи еще за три четверти столетия до Рицимера необратимо сместилась в пользу германцев. Это изменение стало явным, когда Валенс пропустил толпы вестготов в провинции. «Никогда самого опытного государственного деятеля [современной] Европы» – казалось Гиббону в восемнадцатом веке, – не принуждали выбирать между уместностью и опасностью допуска, либо отражения бесчисленных полчищ варваров, которых отчаяние и голод гнали просить разрешения поселиться на территориях цивилизованной нации. Но это проблема встала перед Валенсом, и он разрешил вестготам пройти через границу; иммигранты потом отплатили черной неблагодарностью, разбив его под Адрианополем.
Они остались, а в 382 г. Феодосии I сделал революционный шаг, разрешив всем германским племенам поселиться на территории Империи в качестве отдельных, автономных, союзнических либо федеральных субъектов при условии службы в римской армии, хотя и под началом их собственных командиров. Эта практика продолжалась и расширялась, и впоследствии такие федеральные субъекты стали регулярной и широко распространенной частью Империи.
В начале пятого века, когда вестготы и бургунды поселились в Галлии, было проведено формальное перераспределение земель, при котором местные римские собственники отдавали одну треть своей пашни германским иммигрантам. Со временем эта пропорция выросла до двух третей и включала в себя также владение недвижимостью; лесные территории делились пополам. Принципы такого распределения были взяты из старой римской практики расквартирования солдат у землевладельцев. Но теперь расквартирование стало непрерывным процессом, то же относилось и к передаче собственности. Старая оригинальная система была известна как гостеприимство, и это название продолжали использовать, так что для владельца и частично вытесняющего его германца существовал эвфемиам «хозяин» и «гость».
Эти переустройства составляли важную часть процесса, в ходе которого в античном мире постепенно формировались прообразы новых характерных особенностей национальностей средних веков. Роль, которую играли в этом историческом преобразовании поселенцы – вестготы и бургунды, можно оценить только задним числом. В те времена, когда они строили свои первые дома на земле Империи, у них и в мыслях не было расколоть Рим или отторгнуть его государственные институты.
Как показали археологические раскопки, германцы, жившие вне Империи, но в контакте с ней, за исключением варварских племен, таких, как англы, саксы и юты, вторгавшихся в Британию, – в определенной степени сами нуждались в романизации. Времена им кочевой жизни уже завершились, и им была нужна земля для обработки. Подобно их соплеменникам, раньше их просочившимся в течение столетий в Империю, их самым сильным желанием было обосноваться в одной из Имперских провинций и получить свою долю ее мирного благополучия.
Когда они поселились в этих провинциях, вопросы борьбы за полную независимость от Империи в первое время вообще не возникали. Напротив, эти вновь прибывшие германцы надеялись установить какую-то форму сосуществования. Это был исключительный момент. Появились проблески нового порядка, при котором и римляне и германцы могли стать добрыми партнерами.
Римляне ранее были не в состоянии удержать германцев за пределами империи, а теперь у них не было сил вытеснить их со своих территорий. Очевидно, римские поселенцы были не в восторге от перераспределения земли. Но тем не менее Рим отчаянно нуждался в военной службе иммигрантов, а также и в сельскохозяйственных рабочих. Более того, германцы, как представители «третьего мира», вкусившего плоды имперской цивилизации, стремились только (в той мере, в какой они вообще представляли ситуацию) к добрососедским отношениям с римлянами, среди которых они поселились. Конечно, практически у них не было выбора, поскольку доля германского элемента во всем населении была относительно малой. По-видимому, насчитывалось не более 100 000 вестготов во всем их королевстве, которое раскинулось от Луары до Гибралтара. Если это так, то они составляли не более двух процентов от всего населения этого региона.
В самом конце существования Империи вестготы выступили против Рима и разграбили его. Их лидера Алариха не следует воспринимать только, как захватчика Рима. Исходно он был куда более положительной и неординарной личностью, человеком, который согласно готскому историку шестого века Иордану, стремился к образованию единого германо-романского народа. Его сын и преемник Атаулф (410—415), который женился на сводной сестре Гонория, Пласидии, сформулировал те же идеалы на языке, который остается совершенно уместным и сегодня в связи с нашими расовыми проблемами. Житель Нарбо (Нарбон-ны) рассказывал Орозию, автору Истории против язычников, что Атаулф говорил следующее:
…Начнем с того, что я горячо мечтаю стереть само имя римляне и преобразовать Римскую империю в Готическую империю. Романия, как ее обычно называют, должна стать Готией, а Атаулф должен заменить Цезаря Августа. Но давний опыт учит меня, что неуправляемое варварство готов несовместимо с законами.
Без законов нет государства. Поэтому я решил скорее стремиться к возрождению славы Рима во всей его незыблемости и к ее умножению за счет мощи готов. Я хочу, чтобы потомки связывали с моим именем возрождение Рима, а не его разрушение.
Так что существовал прекрасный идеал, к которому явно стремились, по меньшей мере, некоторые лидеры германцев. Их практические возможности проанализировал Иосиф Фогг в своей книге Упадок Рима, изданной в 1967 годе.
…Вестготы и бургунды были «постояльцами» в римских провинциях и как таковые всецело зависели от земельных установлений. Численное меньшинство чужеродцев само по себе являлось поводом для достижения согласия с местным населением. Этим германским меньшинствам было трудно устоять против давления Рима.
Более того, солидарность германцев в какой-то степени нарушалась из-за их собственной общественной организации. У вестготов были верхний и нижний слои общества, каждый живший по собственным законам, а бургунды были разбиты на три слоя – высший, средний и низший.
На таком шатком фундаменте два народа стремились построить государство, которое бы включало и германцев и римлян, два разнородных элемента, обязанных жить бок о бок и при этом сохранять свою идентичность.
Наиболее важной связью, скреплявшей их, был [германский] монарх. Для своих римских субъектов он стал приемлемым благодаря официальным и почетным титулам, дарованным римским императором, и вымышленным родством с императорским двором. С ассамблеей германских воинов редко советовались перед принятием важных решений, а германская аристократия должна была довольствоваться службой королю.
С самого начгла римляне заняли высокое положение в центральном правительстве и при королевском дворе, с которым правительство было тесно связано. Суд лорда-канцлера сохранил свою римскую печать, структура провинциальных правительств оставалась нетронутой, и не было никаких препятствий в делах экономики. Латинский был принят в качестве административного языка, налоговую систему не изменили, а в чеканке монет следовали имперским образцам.
Но основной вопрос заключался в следующем: как собирались себя вести римляне в этом беспрецедентном эксперименте сосуществования, в котором от них требовалось разделить свои провинции и свои земли с другой расой в незнакомых условиях сотрудничества?
На высоком уровне не было недостатка во взаимных заверениях самого общего плана. Августин, указывая на то, что все мы связаны узами общего происхождения от Адама и Евы, в нужный момент воспроизводил экуменизмы св. Павла из Послания к Галатам: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба и ни свободного; нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Но, как и в давние времена, ощущалось серьезное напряжение в универсальном, многорасовом обществе Римской империи. «Мы должны пить из Рейна и из Оронта, заявлял Клодиан, – мы все один народ», а непрерывной обязанностью Рима было установление дружбы между нациями:
Она единственная, кто приняла
Побежденных в свои руки и взлелеяла
Человеческую расу как единое целое,
Обращаясь с людьми, как с детьми, а не рабами.
Она назвала их гражданами Рима
И связала дальние миры узами верности.
А христианский лирик Пруденций писал со всеми подробностями в том же всеобщем духе:
Общий закон уравнял их и
Связал одним единым именем …
Мы живем в самых разных странах,
Как сограждане одной и той же крови,
Укрывшись за стенами родного города
И объединившись в общем доме предков …
Еще одним доказательством таких настроений служат слова другого поэта, Рутилия Намациана, заявившего, что Рим правит потому, что он заслужил это право, поскольку мудро объединил всех людей под сенью закона, чтобы они жили без оков.
Не было недостатка в признаках того, что если опустить эти возвышенные рассуждения на землю, то все они будут относиться к сосуществованию с германцами. В частности, христианский историк Орозий видел большие перспективы в мире, который хотел заключить с Гонорием преемник Атаулфа Ваала. Орозий был даже готов утверждать, что настанет день, когда германские вожди станут великими королями. Более того, он заявил, что, хотя и сталкиваясь с постоянным сопротивлением и враждебностью, германцы уже начали жить дружно со своими соседями, а бургунды, например, достаточно кротки и скромны и могут поэтому относится к галло-римлянам, как к братьям.
Орозий, как и ряд других священнослужителей, стремился прийти к согласию с новыми силами и предвидел возможность будущего христианского порядка, как определенного союза между римлянами и германскими племенами, который разрешит наиболее острые проблемы. Его единоверцу, Паулину из Нолы, также казалось, что варвары, однажды обращенные на путь истины, могут стать союзниками закона и порядка.
Сальвиан также высказывался в поддержку такого сосуществования. По общему мнению, он делал это в основном по этическим и риторическим соображениям, поскольку постоянно противопоставлял коррупции римского общества преданность варваров принципам морали, гуманности, общественной солидарности и справедливости – какими бы неотесанными и неорганизованными не были эти люди. Эта точка зрения помогла Сальвиану взглянуть на германцев под необычным, конструктивным углом зрения. Размышляя о будущем и отстраняясь от высокопарных сентиментов современников, он смог обнаружить то важное и привлекательное, что было в новом германском феномене. Но можно ли было начать все по-новому в межрасовых отношениях, если его одинокий голос был слышен только высшему классу Рима?
Представителем этого класса, писавшим двадцатью годами позже – и всего за десять лет до окончательного крушения римского правления – был некий Паулин; еа тот хорошо известный Паулин из Нолы, а Паулин из Пеллы, города в Македонии, где он родился, хотя потом перебрался в Галлию. В своей поэме Благодарение он рассказывает нам, как обернулась жизнь для галло-романских аристократов под властью варваров. Сам он в это время понес большие материальные потери. Тем не менее еще будучи юношей, он установил личные дружеские отношения с Атаулфом и, хоть и с неохотой, согласился на мир с вестготами.
Я думал – этот мир был дарован
Готическими правителями. Им самим был нужен мир
И задолго до того, как они его дали другим, хотя
И ценою возможности жить в покое.
Мы об этом не сожалеем, так как видим, что
Власть в их руках и под их покровительством мы процветаем.
Все это было не легко, многие переживали
Страдания. Я был не последним из них,
Потеряв все нажитое и покинув родину.
Другой галло-романский аристократ, Сидоний, пришел к тем же выводам. Правда в 471—475 гг. он, как епископ Арверны помогал борьбе против короля вестготов Эвриха. Но как до, так и после этого военного противостояния он писал и выступал в пользу сосуществования с вестготами, многих из которых он хорошо знал. Это отношение выразилось, например, в его панегирике Авиту, который был посажен на престол в 455 году своими друзьями римлянами из Галлии в сговоре с вестготами. Поддерживая такие совместные действия, Сидоний заметил, что поскольку германцы и римляне стали друзьями, у них теперь общие интересы в деле спасения Империи.
К тому времени это уже не было правдой, и Сидоний знал это. Но вестготы защищали его и его друзей от других, намного более свирепых германских племен, таких, как саксы. Так что Сидоний лицемерил, и после года пребывания в умеренном заточении за свое сопротивление правлению вестготов в Арверне, он в самых льстивых выражениях обращался к королю Эвриху «наш владетель и господин, которому покоренный мир платит дань». Граф, франк из Тревери (Трир), также получил заверения от Сидония в том, что его латинский стиль изливается так же восхитительно, как и течение Тибра.
Все эти мнения, выражающие в определенной мере сочувственное отношение к новому положению германцев, не так легко найти и извлечь из огромной массы всецело неблагоприятных римских публикаций. Даже такой выдающийся историк, как Аммиан, не был исключением. Правда, он показал, что циничное отношение римских официальных лиц к германским иммигрантам – они кормили падалью голодающих вестготов в обмен на их сыновей, проданных в рабство – ускорило катастрофу под Адрианополем. Тем не менее он весьма наивно думал, что всех германцев, осевших в Империи, можно будет при необходимости как-то попросить прочь, если только приложить для этого усилия или, в противном случае, вынудить их жить в крепостной зависимости от римлян. А гунны, которые принимали большое и полезное участие в армиях Феодосия I, казались Аммиану недочеловеками: «Они настолько чудовищно безобразны и бесформенны, что их можно принять за двуногих зверей или за пни, которые вырублены в виде идолов, устанавливаемых на краях мостов … Как неразумные животные, они совершенно не понимают разницы между истинным и ложным.
Не может быть и речи, заявлял в том же духе епископ Оптат из Милева (Мила) в Алжире о существовании среди варваров любой христианской добродетели. Синесий из Сирены (Шахта) также проявлял исключительную враждебность к германским поселенцам, критикуя политику наделения их землей и требуя их высылки (что было совершенно невозможно, а он этого не понимал), либо превращения их в рабов или крепостных.
…Титул сенатора, который в античные времена казался римлянам вершиной всех почестей, превратился из-за варваров во что-то жалкое … а те белокурые варвары, которые являются простыми слугами в частных домах, в общественной жизни повелевают нами.
Феодосии I из-за чрезмерного милосердия обращался с ними мягко и снисходительно, даровал им титулы союзников, предоставлял политические права и почести, щедро одарял их землей. Но они не могли понять и оценить благородство такого обхождения. Они толковали его как слабость с нашей стороны, что толкало их на дерзкое высокомерие и неслыханное хвастовство.
Разочаровывает и Пруденций, тот самый, кто многообещающе объявил народы Империи «равными и связанными единым именем» и тем не менее проявивший невероятное отвращение ко всем варварам, огульно представляя их вкупе с римскими язычниками объектом презрения.
Как звери от людей, бессловесные среди говорящих,
Как от праведников, следующих заповедям Господа,
Отличаются эти глупые язычники, так и Рим стоит
В гордом одиночестве над землями варваров.
Становится ясно, что терпимость св. Павла заменило среди христиан традиционное для Рима презрение к инородцам. И снова такие же чувства выражает Амвросий, который видит в готах жестоких гонителей народа магог, оплаканного пророком Иезекиилем, а когда кажется, что епископ принимает методы варваров – то его поведение выглядит чистейшим святотатством. Амвросий описывает жесточайшие войны между различными племенами варваров, и этот феномен вдохновляет Клодиана, как и прочих, таить надежду на то, что одним из преимуществ предпринятой Стилихоном вербовки германцев на военную службу будет то, что теперь они столкнутся и перебьют друг друга.
Хотя покровитель Клодиана Стилихон сам был германцем, поэт совершает чудеса литературной эквилибристики, ухитряясь обвинить их восточного врага Руфина в тайной прогерманской политике:
Он в стенах укрепленного города,
Обвиненный в преступлениях, смердящих бесчестьем …
Разорение услаждало его взор,
Он смотрел на дикарей с нежным восхищением …
Не краснел от стыда при виде заросшего шерстью варвара,
Вершившего суд, отбросив в сторону латинские законы.
В Клодиане возродились все старые традиционные предрассудки. Варвары, заявлял он, более, чем дикари, нацеленные только на войну и бандитизм. Гунны убивают собственных родителей, а затем получают удовольствие, давая клятвы над их мертвыми телами. И до чего же отвратительны смешанные браки с африканцами, когда «цветной ублюдок запятнает колыбель!». Иероним обвинил Рим в том, что он «откупился от варваров золотом и драгоценностями», и повторил, цитируя Библию, что все они, как дикие звери.
Что касается Симмаха, то в одном из его писем, отмеченном высокой культурой, излагается история, показывающая его расистские взгляды в прискорбном свете. Игры гладиаторов все еще продолжались в Риме, и Симмах, как городской префект, доставил группу из двадцати девяти саксов для этих поединков. Но еще до начала представления, жалуется он, эти люди ухитрились повеситься, или повесить друг друга в своих каморках, очень расстроенный потерей таким образом своих денег, Симмах не находит даже слова сочувствия к этим несчастным жертвам относится к ним, как к неотесанной деревенщине, сыгравшей дрянную варварскую шутку.
Это презрение и ненависть глубоко укоренились в обществе. Даже Орозий, так необычно и просвещенно рассматривавший германцев как политическую силу, сопровождает свой приговор обескураживающим заявлением о своих личных чувствах к ним: Я смотрел на германцев и понял, что должен избегать их – они пагубны, льстить им, потому что они хозяева, молиться на них, хотя они и язычники; спасаться от них бегством, потому что они заманивают в ловушки».
И Сальвиан, несмотря на все свои провидения относительно будущей роли германцев в западном мире, не удержался, чтобы не упомянуть вызывающее тошноту зловоние, исходящее от их тел и одежды. И, несмотря на свое сочувственное сравнение их простых и наивных добродетелей с порочной коррупцией римлян, он находит также возможным поносить каждое из германских племен по очереди, описывая готов как предателей, аланов как отвратительных развратников, алеманнов как алкоголиков, саксов, франков и герулов как беспричинно жестоких людей. Еще один из тех, кто положительно воспринял новую роль германцев в современной жизни, Сидоний, точно так же поясняет, что все его оценки, это чрезвычайное насилие над собой, поскольку ему тоже отвратительны непристойные, невежественные, тупые обычаи даже лучших из его германских соседей, ему не нравятся ни шумно общительные, затянутые в кожу готы, ни покрытые татуировкой герулы. Его не привлекают отталкивающие обычаи добрых, но невоспитанных бургундов, «бесчувственных истуканов», поливавших свои волосы прогорклым маслом. Они оплакивали своих покойников, выписывая на скулах кровавые рубцы – и это тоже отталкивало его. «Я больше не могу писать стихи длиной шесть футов, – говорил он, – когда живу среди семифутовых гигантов с волосами, как пакля».
Фактически, высказываемая Сидонием терпимость в отношении германцев искусственна либо дипломатична: он не хочет иметь с ними ничего общего. «Ты избегаешь варваров, – писал он своему другу Филагрию, – из-за их дурной славы. Я остерегаюсь их, если даже у них хорошая репутация». А другому приятелю, Сягрию, который хорошо говорил на бургундском, что было совершенно необычным, Сидоний смог только насмешливо выразить саркастическое восхищение таким полезным талантом. Другими словами, даже такой культурный и интеллигентный человек, который так высоко оценивал политическую роль германцев, был не в состоянии хотя бы в минимальной степени поддерживать с ними человеческие отношения и был рад держаться от них подальше.
На важнейшем психологическом уровне межрасовое партнерство полностью провалилось. Лидеры высшего класса Рима слишком во многом были узниками своих наследственных культурных стереотипов, чтобы достичь компромисса с германцами и обеспечить позитивное сотрудничество с ними.
Эмоциональная и интеллектуальная реакция Рима на вызов варваров с предложением о сосуществовании была угнетающе неадекватной в любом аспекте. В лучшем случае, на иммигрантов смотрели с презрением и плохо скрываемым отвращением, связанными частично с их чисто внешними характеристиками, которые римляне находили отвратительными, и частично с традиционными невежественными предрассудками. Эта смесь предвзятых мнений привела к бесплодному и искаженному изображению вероломных и распутных недочеловеков, полярно противоположных всему цивилизованному. Римляне преднамеренно поставили своих новых нежелательных соседей в состояние духовного апартеида, рассматривая их как некую массу меченых людей, заключенных в оболочку красноречивой или молчаливой неприязни.
Уцелевшие записи этих иммигрантов свидетельствуют о том, что они осознавали навязанное им чувство неполноценности. На надгробной плите из Южной Галлии два германца в извинительном тоне написали, что их расовое происхождение есть «часть пятна, смытого крещением». Эпитафия из Антверпа сообщает, что покойник Мурран, выходец из района Дуная, составил ее сам «так как жалкое существование научит писать даже варвара».
Но другие германцы неизбежно реагировали на окружающую их враждебность совсем иначе, вообще отказываясь от романизации. Будучи менее грамотными, чем римляне, они не оставили после себя литературных описаний своих чувств. Но факты сами по себе отчетливо отражают их реакцию. Схема включения германских частей федератов в армию потерпела неудачу: отверженные и презираемые, они платили той же монетой Риму, чью славу они когда-то надеялись разделить.
Первоначальная идея Феодосия I о призыве этих частей в армию была совсем неплохой. Она предоставляла шанс этнического партнерства и была лучшим средством из всех, имевшихся его распоряжении. Германцы были хорошими воинами, а содержание их обходилось дешевле, чем римских солдат. Если бы их военные действия можно было ограничить необходимыми рамками, и если бы после сражения их можно было убедить спокойно вернуться в свои жилища, то все было бы в порядке. В благоприятных ситуациях использование таких федеративных частей резко возрастало. Иммигрантов включали даже в большие воинские соединения, которые фактически становились частями регулярной армии.
Несмотря на широко распространенное в Риме неблагоприятное мнение о германских солдатах в римских частях, они, взятые каждый в отдельности, сохраняли лояльность государству. Печальным фактом, однако, оставалось то, что федеративным частям, даже хорошо показавшим себя в ряде чрезвычайных ситуаций, в большинстве случаев нельзя было доверять выполнение приказов – они были совершенно ненадежными. Эти части постоянно находились в состоянии волнений и бунтов. Частично это было связано с обычной для них недисциплинированностью, а также безмерным желанием получить как можно больше земли. Главным же очевидно было то, что они чувствовали окружавшую их ненависть римлян, а потому не могли быть им преданными. Кроме того, они видели, что некоторые из самых лучших римских военачальников, даже офицеры масштаба Констанция III, предпочитали в непрерывных войнах проливать кровь союзников и германцев, а не римлян.
В результате, все больше и больше происходило актов неповиновения и прямой нелояльности федеративных частей. Так, например, в 409 г. они преступно отказались предотвратить переход других германских племен в Испанию. Через тринадцать лет они оставили своего римского командира в руках его врагов-вандалов, ставших снова друзьями германцев. Федеративные силы совершенно не подчинялись, что представляло серьезную опасность и приносило Риму много вреда.
Таким образом, большой эксперимент завершился катастрофой. Вместо проторения нового пути к единству в самом сердце Империи возникла ужасная дисгармония. Массовый набор германцев в армию не спас Империю от распада. Более того, он способствовал крушению всего здания Империи. Сам по себе это был вполне разумный план. Беда в том, что римляне не были готовы к его осуществлению.
Ранее утверждалось, что Рим пал из-за нарушения расовой чистоты. На самом деле все было не так. Хотя и многое изменилось в течение столетий благодаря расовому смешению, к большому сожалению не произошло соответствующего изменения характера римского этноса. Симбиоз с германцами слишком мало отразился на нем. Вместо того, чтобы сокрушаться по поводу генетических загрязнений, было бы куда ближе к истине признаться: падение Рима было ускорено полной неудачей в ассимиляции германцев путем смешения двух рас (раз уж их впустили в Империю).
Конечно, с обеих сторон осуществлялись экономические и технологические заимствования на повседневном уровне. С германской стороны это было следствием их страстного желания, по крайней мере на первом этапе, использовать все возможные преимущества своего нового положения. И, наоборот, большой перечень римских технических заимствований (например, длинный германский меч) заставил автора книги О делах войны прийти к выводу о том, что «народы варваров ни в коей мере не чужды изобретениям». Официальная политика не приняла во внимание эти факторы и способствовала всеобщему желанию римлян изолировать иммигрантов.
Плохо было уже то, что местные правители и военные командиры жестоко эксплуатировали вестготов еще до битвы у Адрианополя. Но они хотя бы действовали не по имперским приказам. Однако такие приказы, разделявшие римлян и германцев, к этому времени уже были на подходе. Закон Валентиниана I и Валенса в 370 г. не поощрял заключение смешанных браков между римскими гражданами и германскими иммигрантами. Напротив, он требовал самыми жесткими методами препятствовать этим бракам.
Подобные запреты распространялись даже на такие внешние признаки, как одежда. Среди римских заимствований у варваров были различные виды одеяний. Аристократы, например, любили носить шерстяные рубашки дунайского образца, саксонские штаны и плащи из Северной Галлии, скрепленные у плеча германской брошью.
Но у имперских властей было явно отрицательное отношение к такой моде. В 397 г. ношение штанов в самом городе Риме было запрещено под угрозой пожизненной высылки и конфискации всего имущества. Затем последовали еще три эдикта, а в 416 г. носить меховую и кожаную одежды варваров в столице и ее окрестностях запрещалось даже рабам.
Если бы Аэций, величайший лидер своего времени, не был бы убит в 454 г., то даже в такой поздний период что-то можно было бы спасти, хотя бы на время, из-под обломков крушения римско-германских отношений. Это связано с его исключительным искусством и тактом ведения дел с германцами, за что он заслужил похвалы от Гиббона. «Варвары, которые осели в западных провинциях, постепенно приучались уважать честность и доблести патриция Аэция. Он охлаждал их страсти, учитывая предрассудки, уравновешивал сталкивающиеся интересы, сдерживал амбиции». Но Аэций был убит своим собственным бездарным монархом Валентинианом III. И тогда процесс разделения рас ускорился и вошел в свою окончательную разрушительную стадию.
Отчуждение римлян от германцев, как в официальном, так и в неофициальном аспектах, существенно усилилось из-за религиозных различий. Действительно, те племена, которые остались вне Империи, были язычниками, а те, что поселились внутри ее границ, стали христианами. Однако они были приверженцами арианства, и между ними и католиками, контролировавшими правительство Рима, все шире и глубже становились догматические различия, как об этом сказано в Приложении 1.