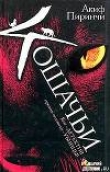Текст книги "Плохие кошки"
Автор книги: Марта Кетро
Соавторы: Тинатин Мжаванадзе,Виктория Лебедева,Кирилл Готовцев,Ева Дзень,Константин Кропоткин,Ната Немчинова,Лариса Павлецова,Станислав Барашек,Ира Форд,Татьяна Замировская
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Вот только отдавать в добрые руки – это слишком, слишком долго.
На следующее утро он посадил Мерзика в коробку, коробку бросил в багажник своего старенького низко посаженного «опеля» и поехал за город.
Ехали долго. Дорога оледенела, и машину опасно заносило на поворотах. Стекла покрывались ледяной коркой, оставляя только два удивленных полукружия там, где ходили дворники; приходилось останавливаться и счищать лед, чтобы как-то наладить видимость.
Мерзик жался в темноте и скреб коробку, но выбраться не мог.
Потом свернули в какую-то просеку, проехали по ней метров сто и едва не увязли.
– Ладно, хватит, – сказал режиссер. – Выходи! – и распахнул багажник.
В коробке завозилось.
Когда она была открыта, кот пулей вылетел на улицу и спрятался под машиной.
– Вот идиот! – выругался режиссер.
Он стал выгонять кота, но тот жался к колесу и шипел. Пришлось лезть в сугроб и рвать в ближайших кустах прут подлиннее. А потом, когда это не помогло, подобрать на обочине несколько крупных ледяных осколков и начать огонь на поражение. Потому что время уже поджимало.
Наконец удалось шугануть Мерзика из-под днища и отогнать метров на двадцать дальше по просеке. Режиссер вскочил в машину и дал задний ход. Машина сначала забуксовала, но потом пошла тихим ходом. «Опелек» с трудом выбирался на трассу, шкрябая брюхом по снегу, а следом за машиной бежал Мерзик, не понимающий, что происходит. Казалось, он вот-вот догонит и прыгнет на капот, станет биться в лобовое стекло. Смотреть на это было совершенно невыносимо.
Машина выбралась на трассу и с визгом развернулась. Режиссер дал по газам. Последнее, что он видел в зеркале заднего вида, черно-белый комок, катящийся следом за машиной, но отстающий, отстающий, отстающий, пока совсем не растаял.
До города было больше пятидесяти километров, но все время пути режиссер вглядывался в зеркала, и ему мерещилось, что кот все еще гонится следом за машиной, попирая законы природы. Но, конечно, Мерзик давно отстал, только белая дорога стелилась между деревьями, на ней машин-то почти не было.
Труппа М-ского драматического театра закрывала фестиваль. Никто не хочет выступать последним, и по жеребьевке им досталось удачное место в самой середине общего списка, а последний день освобожден был для торжественных речей и банкета, но пришлось уступить свою очередь для перепоказа сорванного «Гамлета», только на этих условиях пострадавшие согласны были как-то замять инцидент.
Вообще, все шло наперекосяк с того дня. Выяснилось, что Шокин практически незаменим, и за каждым чихом приходилось бежать к нему в больницу, иначе вся организация расползалась и трещала по швам. Врачи беспокоились и театральных, кроме тихой виноватой Леночки, пускать к нему не хотели. Всякий раз прорывались с боем.
Всем после истории с Мерзиком было очень стыдно. Так стыдно, что бедную девочку, упустившую его с поводка, буквально за пару дней затравили до увольнения по собственному. Все чувствовали себя виноватыми и наперебой кричали: это не по-людски, да как же так можно?! – имея в виду, разумеется, не уволенную сотрудницу, а несчастного маленького котика, затерянного в окрестных зимних лесах. И рассуждали, что могли бы забрать его на недельку-другую домой, – такое простое, очевидное и так поздно пришедшее решение… За этими разговорами образ Мерзика светлел, очищался от всего дурного, и вот уже вместо осточертевшего всем паразита мнился душка и талант, избавитель от скуки и инфекционных эпидемий, переносимых грызунами. Так что Мерзик, невидимый глазу, как бы все время присутствовал в театре и заполнил его собою весь. О фестивале никто уже не думал.
А на фестиваль привезли всякое. Лидировал, конечно, «Гамлет, принц Датский» – пять постановок. За ним, представленный тремя постановками, неожиданно оказался «Макбет». Третье место поделили два «Короля Лира», две «Двенадцатых ночи» и два «Укрощения строптивой». Потом еще были: «Венецианский купец», «Виндзорские проказницы», «Много шума из ничего», «Король Ричард III» и одна приторная поэтическая постановка по мотивам сонетов… Трагедий в целом получилось больше, чем комедий. Удивительно, но все забыли про «Ромео и Джульетту».
М-ский драматический показывал «Отелло». Это был, наверное, самый древний спектакль театра. Он пережил смену двух режиссеров и шел с некоторыми мелкими поправками лет пятнадцать – так что престарелая прима Полянская на первых порах успела отметиться в роли Дездемоны. Полянская и сейчас чувствовала себя в силах играть Дездемону, но ей, конечно, не давали. Престарелая прима видела тут извечные театральные интриги.
Последние два года Дездемону играла Леночка. Ох, как же ненавидела она этот спектакль! Роль, доставшаяся в наследство от престарелой примы, не сулила ничего хорошего. Для Леночки это была дурная примета – как с дороги вернуться и в зеркало не посмотреть. Но актеры люди подневольные, выбирать не приходилось.
Начался спектакль не по-человечески, в четыре часа дня, втиснутый между торжественной частью и фуршетом. Зрителей в зале практически не было. То есть обычных зрителей не было, а сидели в зале почитай что одни конкуренты-театралы. Поэтому было особенно важно не облажаться, и Леночка старалась вдвойне.
Она, как и многие в театре, оплакивала Мерзика уже вторую неделю, представляя самое страшное – окоченевший ли трупик под елкой, растерзанные ли клочки, красные и черные на белом снегу; ее хорошенький курносый носик от этого немного припух и покраснел, натертый одноразовыми гигиеническими платочками, а в глазах стояла такая вселенская печаль, что было невооруженным глазом видно: Дездемону ждет в скором времени какая-то большая засада.
Действие плавно катилось к финалу.
Леночка в длинной прозрачной сорочке уже забралась под одеяло и уже известила разъяренного мужа, что молилась на ночь. И он уже ответил в том духе, что, мол, умри, обманщица, не верю я ни одному твоему слову. Спектакль принимали холодно, зал был тяжелый, настороженный, работать с каждой сценой становилось все труднее. К тому же Леночка заметила в служебной ложе Полянскую, вооруженную армейским биноклем.
Леночка откинулась на подушки, исступленно прикрыла глаза, вполне убедительно скорчилась, изображая удушение, и почувствовала, как смыкаются на горле потные руки партнера. И тут М-ский драматический неожиданно взорвался хохотом и бешеными аплодисментами. А потом через покрывало она ощутила, как кто-то мелко семенит по ее ногам и, потоптавшись на месте, устраивается на груди.
– Твою мать, Мерзик! – сказал Отелло в сердцах. – Ну невозможно работать!!!
Потом сорвал парик, утер лицо синтетическими черными кудряшками, размазывая мавританский грим, и ушел за сцену.
Растерянная Леночка села в постели. На покрывале мостился, урча и преданно заглядывая в глаза, Мерзик. Он стал тощий, невыносимо грязный и умудрился где-то порвать ухо. Но он был живой, живой!
– Браво! Бис! – кричали в зале.
– Чудесное спасение Дездемоны!
– Кот начинает и выигрывает!
Театралы изощрялись в остроумии, кто как мог.
– Какой позор! – громко сказала Полянская, силясь перекричать общий гвалт. И покинула служебную ложу, от души шарахнув дверью.
А Леночка не выдержала – прижала Мерзика к себе и расплакалась.
Александра Асадова
БРЫСЬКА

Никто не помнил, откуда пошла традиция гонять кошек. Их «держали» всегда – во дворе, само собой разумеется, а не в доме, еще чего, от них же зараза, по мусорникам лазают, лишаи разносят, да котята – тоже не было печали. Кошкам пеняли, что не ловят мышей, душат соседских голубей, вопят как резаные, нажираются отравы у голубятников, дохнут в самый неподходящий момент, хорони их потом. Кошки требовали еды, им отвечали: «Нечего, нечего» и кидали объедки в вонючее блюдце, где уже пировали муравьи.
Зимой кошек нехотя пускали в дом – ладно уж, грейся. Друг другу жаловались на несовпадение: кот желал гулять, как раз когда хозяин засыпал, и возвращался с гульбищ ровно в тот момент, когда утренний сон был особенно сладок. А потом, словно в насмешку, сам отсыпался целый день – дрыхнет, обжора, тунеядец. Мышей бы лучше ловил.
Кошки бывали биты за прилюдную половую жизнь. «Он Мурку мучает!» – объясняла всем бабушка, норовя угостить соседского Васеньку по харе веником. Биологиня пыталась в свой черед объяснить, что совокупления с котом в Муркиной же природе, что мучилась Мурка скорее бы от отсутствия Васьки, что за попытку изнасилования Васенька отвечал бы не по суду, а в тот же миг по совести, и крепко. Но бабушка, разгоняя котов, святое дело делала веник, считала она, был эффективнейшим средством кошачьей контрацепции.
Коты ценились выше кошек: чужих-то они мучили, но сами в сарае не рожали и котят в платяные шкафы не перепрятывали. И при выборе зверька на освободившуюся вакансию хозяева тщательно исследовали кошачьи подхвостья. Когда Мурзик оказывался Муркой, а Васька – Василиской, в доме целый день лаялись: «Глаза у тебя где? Кто проглядел? И котят на этот раз сама будешь топить? А?!»
Но это были свои кошки с правами на двор, сарай и в исключительных случаях – на дом. Они все больше «осваивались», приобретали сварливые интонации хозяев, не желали гладиться – нечего, нечего, вон лучше молока мне налей, да рыбки бы купила, один черт шляешься по магазинам!
Чужих же кошек гоняли со двора. Было в этом что-то барское – согнать со двора, отказать от дома В минуты ссор звучало: «Уйду я от вас» или «Пойдешь к себе на Мурлычевскую, чтоб духу твоего тут не было!» Пролетарии и потомки пролетариев, обретя частную собственность, охраняли свою территорию почище цепных псов. И псы все понимали: своих кошек игнорировали, но чужих облаивали по полной программе, хрипя и заходясь от ярости. Выслуживались. Псы также получали вонючие лежбища, объедки с муравьями да редкие хозяйские ласки, но лишены были свободы передвижения и вольной кошачьей половухи. Может, от этого так стремились порвать чужаков.
Человек и пес уже не ходили на охоту. Отыгрывались на кошках: срывали кошачьи концерты, угрожали и ругались каждый по-своему, да изо всех сил орали: «Брррррыысь!» На садовом столике лежали метательные картофелины, а потом дядька сделал рогатку – Муркиных кавалеров разгонять. Стрелок из дядьки вышел неважный, Санькины картофелины тоже попадали в забор и в людей рикошетом, а иногда случались неприятности – когда Санька попадала картофелиной по дядюшке почти что не нарочно. Тогда уже всем миром орали на Саньку. Но когда охота на кошек удавалась, какое это было единение, какая причастность к правому делу! В тысячу раз лучше демонстрации и раз в десять лучше семейного застолья!
Демонстрация, как ни крути, обязаловка, идешь строем, как дурак, три часа из жизни долой. Старшие вспоминают совсем нерадостные хождения строем, средние помнят, что стирка стоит да еще успеть борщ, а Николаша, подлец, на больничном отлежался; младшенькие ноют о классовой враждебности советской обуви – советским детским ножкам. Им говорили, что на демонстрацию надо и весело, а где ж оно весело-то – непонятно. Не получалось единения.
Застолья были веселее: топтаться не надо, тетка сама все подаст, сиди себе на мягком да кушай вкусное. Накладывай, накладывай, ты ж это любишь. Совместная оргия обжорства, пересказа общеизвестных анекдотов, обмусоливания общеизвестных фактов с улыбочкой да с подколочкой. Это единство ломалось на оглушительном Высоцком – женщины к тому времени обычно уставали и желали тишины, а не мытья посуды; дети хныкали от переедания и оттого, что праздник уходил, с Денисом подрались, а кошка поцарапала («а ты не лезь»); у мужчин же рвалась душа – уж Высоцкий, так, чтоб окрестные собаки взвыли, уж добавить – чтоб жена родная не узнала, и гори оно все!!! На чужих кошек тогда особенно яростно орали: «Брррррррриииииись! Пасссссскудинаааа!» и, догоняя, падали иногда мордой в свеклу. Праздник заканчивался под крепкий чай и слезливое оханье, детки же страдали в туалете и клялись, что даже если любишь и вкусно, больше – столько – даже если тетка потчует – никогда!
Нет, совсем другое удовольствие было прогонять кошек.
Сумерки. Охотники притаились в засаде. Все трезвые, бодрые, готовые к обороне территории. Легкое чувство голода вознаградится потом среди золотого света и пара жареной картошки, легкое чувство азарта – переходящее в мощное чувство азарта – переходящее в неистовое желание, – разрядится прямо сейчас! «А-а-а-! А ну-ка, брысь! Брысь отсюдова!!!»
– Ав-ав-ав-ав-ав!!! – разряжался пес Дружок. Иногда он даже срывался с цепи.
Кот взвивался на забор. Вслед ему летели картофельные бомбы и комья земли. Жаль, что нельзя свеклой, – заругает тетка, что продукт переводишь. Дядька с лицом старого пирата, прихрамывая, бежал за котом, грозя рогаткой. Мы его прогнали, прогнали! Мы победили врага! Мы – самые – сильные!
И когда мороз сковывал метательные снаряды и не пускал во двор, коты нагличали – тянули свое «мряяяяяяяу», у кого дольше получится, а люди распахивали форточки и кричали в ночь дружное «бррррыссссь!».
На ловца и зверь бежит – очень скоро ко двору прибилась, не найдя себе ничего получше, чужая кошатина. Она подъедала остатки из собачьей миски, а ведь кошки переносят чумку, «через нее и пес сдохнет», сказала бабушка. Она лакала воду, предназначенную для полива огорода, и дядька мечтал сбить ее выстрелом из рогатки да так ловко, чтоб черная дурочка шлепнулась прямо в бочку. То-то будет смеха! Она сидела на крыльце, вылупив желтые глазки-монетки, ужасно наглая и верткая, – всегда удирала прежде, чем человек успевал подойти. Папка ворчал, что пахнет кошками, что заразу в дом носим.
Бродяжка подъедала и за Рыжиком, и толстый благодушный кот начал даже уступать ей свою порцию. Тетка прогоняла чужачку, но от вопля «бррррыссссь!» сбегали обе кошки. «Рыжик, а ты куда, вернись на место, ешь, кому говорят!» – надрывалась тетка, но Рыжик впервые не был солидарен с хозяйкой. Кошка стала не своя, но уже как бы и не вполне чужая. Называли ее Брыськой.
Тихими летними вечерами Санька с дядькой выслеживали не просто чужих кошек, а Брыську, холеру черную, дармоедку. А ну, кто кого? Только покажутся над бочкой треугольные уши, как дядька и Санька хором: «Бррррыссссь!», и только скрежет кошачьих когтей по дереву, да старый пес захлебывается хриплым лаем.
Санька припасала яблоки-падалицы, ими кидаться было еще веселее, чем гнилой картошкой. А тетка раскричалась, что Санька развела червей, и выбросила в помойку весь ее арсенал. Ну, Брыська, ты еще поплатишься! Устроим тебе веселую жизнь!
Почему-то эти забавы никогда не развлекали Биологиню. Какая-то она была безжизненная, «хилая», как говорила тетка. Никогда она не пела: «Ой, мороз, мороз», говорила, голоса нет. Не хохотала даже над свежими и смешными анекдотами – улыбнется, и все. Никогда не охала – съем еще кусочек, нехай нутро пропадет, чем добро, и ее невозможно было употчевать. Никогда не пьянела.
Никогда не подстригала малину – ленива была, а может, боялась поцарапаться, кромсая буйные заросли. Говорила, что малину и виноград подстригать нужно совсем не так, что это просто варварство, а чем языком молоть, ты лучше возьми да подстриги! Но Биологиня не подстригала, помня, что это не ее малина. Грустила над спиленными деревьями – да проку с той абрикосы, все равно ее щитовка съела, лучше лук посадим! А Биологине вот было невесело, может, раздумывала, что с позиций прока и толка ее тоже правильнее было бы спилить, чем кормить. Но мужа она просила: «Не пили меня, пожалуйста!» Никогда не крикнет: «Отстань!» или еще что-то такое, чего нельзя повторять. Совершенно не умела ругаться.
Грустила и в дождик, и в зной, грустила по вечерам, легонько обнимая ладонями свои розы. Грустила над своими журналами, но о чем, не рассказывала. Не было, чтобы пришла она, потрясая «Иностранкой», и прокричала: «Чего понаписали, а на самом деле все не так!» Ни сама не возмущалась, ни к чужому возмущению не присоединялась. Она вообще не любила спорить, уходила, ускользала. Не боец.
Не препиралась ни с кошками, ни с собаками, мол, что лаешь попусту? Что мявкаешь? Ловил бы мышей, гонял бы котов! Просто подходила и гладила, а животное прижималось к ее узенькой лапке, затихало, и они начинали грустить вместе.
Странно, что своего зверья не развела. Была красивая кошка, которую потом сманили, Санька помнила только, как они вместе с Биологиней горевали. Но Биологиня так и осталась нюни развозить, а Санька сообразила: нашла себе кусочек меха от пальто, назвала Муркой и гладила, хотя старшие и посмеивались, мол, ума палата, и когда ты уже, Санька, повзрослеешь.
И с тех пор – все. Своих кошек не держала, только робко трогала чужих И они ей отвечали.
Именно Биологиня спросила Саньку, почему та любит кошек и кричит им «брысь»? Санька в том никакого противоречия не увидела: чужих же кошек гоняю. Так и объяснила. Даже слегка покраснела от усердия – выдавала лозунги, вспоминала и выкрикивала еще, объясняя очень охотно, да еще оттого, что промелькнула мыслишка про своих кошек. Их Санька тоже гоняла, что вообще-то не поощрялось. Но ведь за дело: они сами удирали от ее нежностей, не желали играть, шипели даже – это свои-то на своих! И все-таки совесть у Саньки была неспокойна.
– А зачем гонять? – с ласковой настойчивостью спросила Биологиня.
Действительно, зачем? Так уж повелось.
– А чего они в наш двор лазают, – очень вразумительно сказала Санька. – Если все им с рук спускать, совсем на голову сядут.
– Так ведь это мы знаем, что двор наш, а они-то думают – общий, – сказала Биологиня.
– Вот пусть и знают! Мало ли что они думают! – возразила Санька.
Биологиня молчала. Как всегда, она не присоединялась к возмущению, а Санька не знала, что еще сказать: кошек гонять – что тут непонятного? Потом полюбопытствовала:
– А что они еще думают?
– Ну, кошки думают, что дом – твой, потому что ты здесь живешь. А двор – общий, двор для них – как улица. И ты здесь бегаешь, и кошки. Они же тебе не мешают.
– Как это не мешают! – возмутилась Санька. – Орут, заразу разносят…
Хотя кошки Саньке скорее помогали, чем мешали. Кому еще она могла кричать: «Брысь отсюдова! Сейчас же! Чтоб духу твоего здесь не было!» Чьи еще вопли она могла бы передразнивать без риска получить по губам? В кого еще она могла кинуть гнилой картофелиной? На кого бы еще бежала, пыхтя и топая, и чтобы этот кто-то удирал, как заяц?
– А хотела бы ты Брыську погладить? – вдруг спросила Биологиня.
– Еще чего, она ж лишайная! Сами свою Брыську гладьте! – фыркнула Санька.
Биологиня улыбнулась. Видно было, что она-то с удовольствием В Санькином сердце шевельнулась зависть.
Собственно, лишаев на Брыське не наблюдалось. Она была черная, но не угольно-черная, а с подпалинами: голова и уши чернущие, а бока почти коричневые. И такая пушистая, каких во дворе не бывало, пушистее, чем Рыжик, пушистее даже, чем кошка Биологини. И Биологиня, которая все на свете трогает да гладит, будет перебирать своими хилыми пальчиками Брыськину шерстку, может, даже возьмет кошку на руки – как она ходила на руках с той кошкой, что потом пропала, а тетка фыркала: лучше б ребенка родила, нашла себе хвостатую лялечку… И Брыська еще размурчится на руках у Биологини, а она, Санька, останется в дураках со своей гнилой картошкой…
– Да и не пойдет она ко мне, – уныло подытожила Санька, а Биологиня ей:
– Не пойдет, пока ты ее гоняешь. Но ведь Брыську можно приручить.
– А как?
Они приготовили вкусные кусочки, и Санька – настоящий следопыт! – объяснила Биологине, откуда обычно приходит Брыська и в какое время.
Затаились, сидя на корточках перед грудой бревен, что были когда-то старым абрикосовым деревом. Вставать нельзя: Брыська испугается и убежит. Не делать резких движений. И завели заклинание: «Брыська, Брыська, кис-кис-кис! Брыська, Брыська, кис-кис-кис!». Наконец выдохлись. Кошка не показывалась.
Они оставили пушистому божеству свои приношения и удалились. Слабые пальчики Биологини потрепали Санькину кудлатую голову: ничего, Москва не сразу строилась. Санька пробурчала, что не больно-то и хотелось, но назавтра прийти не отказывалась.
Долго Брыська испытывала их терпение. Кусочки курицы или котлеты, остатки мяса, тоненький ломтик колбасы – все эти гостинцы недолго оставались на поленнице, и съедали их не муравьи и не толстый Рыжик. Иногда мелькала у бревен черная тень, но Брыська не выходила на зов, хотя, конечно, отличала ритмичное «Брыська-Брыська, кис-кис-кис!» от задушевного вопля: «Бррррыссссь, холера черная, Рыжика совсем обожрала!»
И вот однажды из-за груды бревен показались черные ушки, бархатный лоб и робкие желтые глаза, похожие на теткино кольцо с янтарем. Мордочка у Брыськи была черная, виноватая, а рыльце розовое. Санька прыснула: такая пушистая, красивая невероятно, и вдруг пятачок поросячий. Брыська тут же спряталась.
Оказалось, что Санька-следопытка многого не знала о Брыське: розовый носик, серебринки на щеках и на черной грудке маленькая серебряная прядочка. Одна Брыськина лапка уперлась в замшелое бревно, другая замерла в воздухе. Ноздри задрожали: Брыська чуяла куриную шкурку. Быстро взглянула на Биологиню. На Саньку.
Медленно-медленно кошка стелилась по бревнам, а Санька дрожала от предвкушения, от вынужденной неподвижности – не беситься, не орать, не скакать! Не спугнуть эту крадущуюся тень! Вытерпеть совершенно невозможно…
Наконец Брыська цапнула куриную шкурку и плавным прыжком перемахнула за поленницу.
– Брыська, Брыська, куда же ты! – захныкала Санька. Биологиня объяснила, что теперь Брыська не боится им показываться, и можно дальше ее кормить, постепенно приручая.
Свои гостинцы они оставляли все ближе к домику Биологини, и Брыська при них уже отходила довольно далеко от поленницы. Но открытых мест все еще боялась. И едва в большом доме распахивалась дверь, Брыська тут же прыгала обратно, пренебрегая угощением.
– Я хочу ее погла-а-адить! – ныла Санька, с упреком глядя на Биологиню. – Говорили же: приручим, из рук будет есть. А сами…
Биологиня дипломатично отвечала «терпение» и «всему свое время» – любимые, бесполезные слова Все так говорят.
Но вот настал день, когда Брыська сдалась. Сперва долго принюхивалась, потом тронула черной щекой протянутую руку Биологини и тут же отстранилась, пряча глаза. Вся такая пушистая, готовая сорваться и убежать в любой момент. К Саньке, как она руки ни тянула, не подошла. Боялась.
– А меня? – взмолилась Санька.
Брыська попятилась.
Теперь Брыська-дикарка позволяла себя погладить, но только Биологине и очень избирательно. Биологиня объяснила, что Брыське можно погладить лоб и за ушком почесать, а по спине нельзя, у нее вся спина в шрамах. Даже под невесомой рукой Биологини Брыська приседала, змеилась по траве – она не любит, чтоб ее по спине гладили. Запомни: только голова и шея, больше ничего. Против шерсти нельзя, кошкам это очень неприятно. Не фыркай и не хмыкай – кошки так ругаются, Брыська подумает, что ты ее прогоняешь. Не пытайся ее поймать, чтобы погладить, пусть Брыська сама захочет об тебя погладиться…
Сплошные запреты. Саньке стало скучно смотреть на чужое счастье, и она канючила:
– Когда Брыська принесет котенка-брысенёнка? А мы его как назовем? Мне тогда будет котеночек, а вы Брыську забирайте, чтоб у каждого по кошке. Чтоб никому не обидно.
Биологиня улыбалась. Она никогда не говорила: «Помолчи! Голова трещит от твоих вопросов!» Только напомнила Саньке, что котенка ей не разрешат.
– Это точно. Выгонят вместе с котенком, – легко соглашалась Санька.
Ее еще год назад предупредили строго-настрого, и больше она котят с улицы домой не таскала. Как притащила, так и назад уноси – верни, откуда взяла.
– И все-таки, если у Брыськи будет котенок?
– Не будет, Санька.
– Ну а вдруг? Как у Мурки, все же думали, что Мурзик, а оказалась Мурка, и котяток родила, и потом у нее были котята каждый раз…
– Да не будет у Брыськи котят. Оперировали ее, видишь шрамы вот тут и тут?
– Ну и что?
– Брыське специальную операцию сделали, чтобы не было котят. Понимаешь? И у нее не будет котят. Хотя это и к лучшему…
– Она лежала в больнице! – поражалась Санька.
Больницы были не для трусих – ну-ка, чтобы по живому резали да зашивали, и втыкали трубки всякие, и уколы каждый день. Дедушка так и говорил: «Буду умирать дома, никаких больниц! Так и пишите: отказ от операции!», а ведь дедушка очень храбрый, всю войну прошел, и он не боится йода В отличие от некоторых, которым бы все пищать.
Вот и Брыська, словно посмеиваясь, переворачивалась с боку на бок, да так ловко! А ты думала, Санька! Вот так!
Между передними лапами у Брыськи росла белая шерстка – не только прядочка на груди, но и трусики с маечкой, или такой купальник, или галстучек. А если смотреть на бегущую Брыську – просто черная кошка с желтыми глазами, ничего особенного. А она черно-коричневая и даже с рыжим, а внутри эта полосочка белая – вот ведь хитрюга!
– И после больницы у Брыськи не будет котяток никогда-никогда-никогда? – допытывалась Санька. Может, оставалась еще хоть малюсенькая надежда?
– Уж не знаю, в какой больнице так кошку искромсали… – цедила Биологиня. – Нет, Санька, теперь уже никогда. Так что пусть лучше Брыська у нас общая будет.
Сытая Брыська вытянулась у ног Саньки и Биологини, словно и вправду была их кошкой. Поглядывала искоса, словно знала что-то, чего не знали они.
– А на спине у нее шрамы тоже из больницы?
– Это вряд ли…
Стукнула форточка. Брыська тут же подскочила, нервно оглянулась и поползла к себе за поленницу – мало ли что. Муж Биологини звучным голосом сказал в окошко:
– А мясо давно уже все сгорело! Это я так, к сведению!
Биологиня тут же побежала к себе во флигель. Хотя теперь можно было уже не спешить – все равно красивый муж, тот самый, что лучше всех пел «Ой, мороз, мороз!», будет пилить ее, пока они не доедят последний кусочек мяса. А тогда, наверное, найдется еще за что пилить – за студентов, за свет по ночам, а потом на работу опаздываешь, за кашу, которую есть невозможно…
Он нипочем не разрешит ей Брыську, догадалась Санька Будет только пилить: «Одного раза тебе было мало?» А что Биологиня скажет, неизвестно, потому что бабушка шуганет Саньку: «Не твое это дело! Взяла моду в окошки заглядывать!»
Пока они обольщали Брыську, Рыжик пропал. Кошки вообще легко пропадали, и Санька научилась не спрашивать, где же кошка. Ответ был всегда один: «Убежала», а почему – «Займись своим делом!». Дядька объяснил как-то раз, что кошки – неверные, не то что собаки. Собака – друг человека. Собака служит человеку верой и правдой. Собаки вместе с человеком сражались на войне, погибали под танками. Кошка ни на что такое не способна – ни о ком не думает и гуляет сама по себе. Собаке нужен хозяин, а кошке никто не нужен, только корми ее. И никакой благодарности.
– Прихожу с работы – Дружок меня встречает! – рассказывал дядька. – А этот же дармоед сидит – головы не повернет. Я ему: «Рыжик, Рыжик!» – и ухом не ведет. Словно и нет меня!
Раньше Санька сочувствовала дядьке насчет кошачьей неверности, а теперь вспомнила слова Биологини: «Им ведь тоже бывает обидно». Вот и Рыжик ушел – надоели ему хозяйские пинки, надоело, что дядька наступает ему на хвост: «Ишь, лентяй, с места не сдвинется!», надоело, что тетка ругает его дармоедом. И Мурка-мышеловка, должно быть, в один непрекрасный момент вспомнила про котят, про пинки: «Не крутись под ногами!», подумала-подумала да и ушла куда глаза глядят. Каждый хотел свою Биологиню с нежными ручками, с мурлыканьем «красавица моя» и «ах ты мой пушистый», с мясными кусочками без нотаций, за просто так.
Но ведь на всех не напасешься. Люди разные бывают, и не все они той же породы, что Биологиня. Санька про себя знала, что она точно не из таких, ласковых и грустных. А значит, с кошками у нее гораздо меньше шансов. И когда в большом доме появлялся новый котенок, Санька старалась не очень-то и привязываться: все равно ведь вырастет и станет независимым Не захочет играть с веревочкой и с бумажным бантиком. Не захочет, чтобы она, Санька, его гладила-гладила-гладила, ну вот как Дружка всегда можно было погладить, почесать и потрепать, хоть он и вонючий. С Дружком еще можно играть в догонялки, когда его спустят с цепи, а кот что – будет шипеть и прятаться.
Правда, за Дружка дома потом поругают, что перемазалась по уши, настоящий поросенок. Но что тут сделаешь, если Дружок сам грязный как черт да еще и сильный – легко может Саньку повалить.
– Все из-за тебя, тунеядец чертов! – старательно выговаривала Санька Дружку. Дружок полз на брюхе, поскуливая, – прощения просил, и становилось видно, какой он старый: седая морда, на шее плешь от ошейника. Шерсть у Дружка на спине вылезла от неправильного питания, говорила Биологиня, Дружка надо лечить, на что дядька хмыкал: «А как же, доктора ему вызвать! Пенсию по инвалидности! Совсем пес никудышный стал…»
– Тоже мне охранничек – Рыжика проворонил! – ворчала тетка.
Оказалось, Рыжик не как все коты «убежал» – соседка Митрофановна рассказала, что его украли. Кот тихо и мирно сидел себе на заборе, щурясь на сентябрьское солнышко. Подошел мужчина в серой шапке, положил Рыжика в сумку и унес.
– Как это унес?! А Рыжик, что – он бы его расцарапал! – возмутилась Санька.
– Он даже тебя ни разу не расцарапал, такой ленивый был! – заметила тетка, а Митрофановна объяснила:
– Да прикормил он его. Не первый ведь раз. Придет и заведет шарманку: такой красавец кот, глаза необыкновенные, тетка, продай кота. А он и не мой вовсе.
– Что ж ты мне не сказала?! – напустилась тетка на соседку, и та засобиралась домой, затараторила.
– Тебе скажи – ты всегда на работе, никогда дома не бываешь. На пенсии бы сидела. Всех денег не заработаешь.
– Бездельничать не люблю! – отрезала тетка, но Митрофановна смолчала. Пришлось тетушке дальше разговаривать: – Ой, Рыжик, ведь, правда, какой был кот! Только мышей не ловил, лентяй был, потому и позволил себя забрать. Вот же люди какие бессовестные!
– Сошьют с твоего Рыжика шапку, тебе же и продадут, – фыркнул папка.
– Отцепись от меня! Вечно гадости говоришь!
– Может, он его и не на шапку, может, просто потому, что красивый, – Санька попробовала утешить тетку. – Может, он Рыжика хорошо кормить будет. Он же денег предлагал.
Но папка продолжал ехидничать:
– А Митрофановна распрекрасная небось и взяла. Продала твоего Рыжика, пока тебя дома не было!
– Пап, ну не может же быть, чтоб кота на шапку! Из котов-то шапки не делают!
– Да замолчишь ты или нет! – закричала тетка, блестя глазами. – Невоспитанная какая девчонка, вечно вмешивается во взрослые разговоры! Иди к матери!