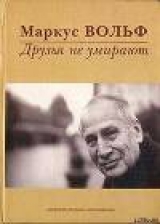
Текст книги "Друзья не умирают"
Автор книги: Маркус Вольф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Когда я впервые изложил тебе свои мысли, ты сказал, что это близко к тому, к чему вы стремитесь. Я готов как-нибудь до июня 1990 года приехать в Берлин и обсудить с тобой эти вопросы. Конечно, для этого есть другие, более знающие люди, и поэтому я хотел бы предложить собрать небольшой симпозиум с 2-3 людьми из разных ветвей власти от нашей стороны и заинтересованными в реформах – от вашей. Возможно, это иллюзия, из которой ничего не выйдет, ведь пропасть между диалектическим и историческим материализмом и учением Штай-нера о гуманизме очень глубока».
Предложение Мартина действительно было иллюзорным, но не из-за пропасти, названной им. Я тогда как раз общался с некоторыми, в первую очередь молодыми, учеными из университета имени Гумбольдта и мог бы пригласить их принять участие в такой беседе. Но события развивались такими темпами, что времени на теоретические диспуты просто не было.
Должно быть, Мартин это и сам почувствовал, так как в конце письма приписал: «Дорогой Маркус, ввиду настоящих событий я не сразу отправил это письмо. Теперь я его отсылаю и хотел бы узнать, не могли бы мы организовать такую встречу до Рождества, если она вообще возможна. Исторические события развиваются так стремительно, что захватывает дух. Я с большим интересом слежу, в какой связи в прессе опять появится твое имя. В эти решающие дни я хочу пожелать тебе сил, мужества и присутствия духа. Искренне твой, Мартин».
Мой друг и не догадывался, как те качества, которые он мне приписывал, востребуют всего меня. 4 ноября 1989 года я принял участие в демонстрации протеста и выступал на Александерплац в Берлине перед полумиллионной аудиторией решительно настроенных людей, приехавших со всех концов ГДР. Несмотря на то, что я имел уже опыт выступления перед сотнями слушателей, когда я увидел это необъятное море людей, мне стало не по себе. Тем более, что часть моего обращения, где я признался о принадлежности к министерству государственной безопасности, вызвала у некоторых неистовые крики протеста. Когда я после выступления спускался с импровизированной трибуны, от волнения у меня пересохло во рту. Тем не менее, я испытывал чувство выполненного долга.
Тогда у меня еще присутствовало чувство эйфории от «перестройки», провозглашенной Горбачевым, с которой я связывал надежды на демократическое обновление моей страны. Лишь оглядываясь в прошлое, когда заказные проклятия задающей тон прессы беспокоили меньше, чем мучительно сверлившие мозг вопросы о причинах нашего крушения и моей собственной ответственности за него, воспоминание об импровизированной трибуне-грузовике на Александерплац связывается с видением плахи, описанным в романе Чингиза Айтматова, -не как места казни, но как проверки собственной совести.
Конечно, Мартин старался следить за важнейшими событиями в Берлине: «Ты мужественно подвергаешь себя опасности, – написал он 7 ноября, – и, по моему убеждению, по собственной инициативе». Понятие «собственная инициатива» имело для Мартина огромное значение, и он неоднократно писал об этом. «Твоя свободная инициатива вместе с инициативами других людей закладывает фундамент для обновления. Именно инициатива, а не кем-то разработанные программы, которые все должны выполнять. Ты сейчас переживаешь стресс, тем не менее, мне бы очень хотелось побеседовать с тобой, и я готов ради этого приехать в Берлин. Желаю удачи в эти решающие дни. Я думаю каждый день о тебе и твоей ситуации!»
До беседы дело дошло только через год. И после падения границ в ноябре Мартин продолжал следить за происходящим у нас и все еще ждал и надеялся, что еще может удасться соединить социализм, именно гуманный социализм, со свободой. Как бы ни были различны наши позиции и наши оценки действительности, наши надежды были схожими.
20 ноября, когда кампания клеветы против меня в средствах массовой информации набирала обороты, он написал: «Твое интервью в «Шпигеле» – смелый поступок! Как и твоя речь на Александерплац! В твоем настоящем положении независимого писателя есть большие шансы развернуть собственную инициативу и, возможно, добиться большего, чем ты смог бы, занимая какой-либо пост».
Он связывал со мной надежды, как и многие граждане ГДР. Хотя он при этом и уповал на «свободную инициативу», многие сочувствующие нам связывали свои надежды с моим каким-нибудь высоким постом в государстве или партии. Правда, я уже окончательно распрощался с этой идеей и воспринимал свой уход со службы как внутреннее освобождение.
Я остался при этом мнении даже тогда, когда в начале декабря после отставки Центрального Комитета СЕПГ во главе с Эгоном Кренцем неожиданно оказался в президиуме Чрезвычайного съезда СЕПГ и когда меня хотели выбрать в Правление партии, преобразованной в ПДС. Я попросил об отводе меня из списка кандидатов для голосования.
Мартин написал мне незадолго до того, как я принял это решение:
«Вчера вечером я услышал по радио о волнующих событиях в ЦК и т.д. и что ты ведешь теперь активную подготовку съезда СЕПГ. Я все время ждал и теперь желаю, чтобы на этом съезде удалось закрепить курс на гуманный социализм».
В реальности же делегаты съезда находились в таком подавленном настроении, что в ходе круглосуточных заседаний речь шла лишь о выживании и сохранении возможности внутреннего возрождения. Сначала нам пришлось прежде всего принести извинения гражданам ГДР за несправедливости, причиненные партией за годы ее руководства государством.
В конце года наши взгляды на положение в стране оставались довольно отличными друг от друга. Единственную для себя возможность активной деятельности я видел в том, чтобы описать свой опыт и наблюдения, полученные в год «поворота» 1989 года, и начал надиктовывать на кассеты записи из дневника. Уже сделанные ранее записи мыслей о моем собственном «тернистом пути познания» должны были войти в давно задуманную книгу.
После штурма центрального здания министерства госбезопасности в январе 1990 года я на несколько месяцев уехал к сестре в Москву, чтобы уйти от возрастающей истерии и поработать над книгой. Мои знания о происходящем дома я черпал из телефонных разговоров с Андреа и поступавших с опозданием газет. Незадолго до мартовских выборов я встречался с правительственной делегацией, возглавляемой Хансом Модровым. Хотя мое возвращение в Берлин было уже делом решенным, встреча с этой разношерстной делегацией, состоявшей главным образом из защитников гражданских прав, стала для меня по существу прощанием с ГДР.
Мартин же, наоборот, с головой окунулся в бурную жизнь! Он с восторгом описывал, что теперь может выступать перед заинтересованными педагогами в ГДР об основных принципах педагогики Вальдорфа. 31 января он тщетно пытался найти меня в Берлине – я уже был в Москве. Он рассказал, что ненадолго приезжал в Лейпциг на выходные, где, как он написал мне в записке, в Университете имени Карла Маркса собрался «Форум за свободное воспитание», в котором приняли участие 1200 человек. В марте, когда он узнал о моем отъезде, он написал мне длинное письмо о виденном в Галле и Лейпциге на переполненных форумах и беседах в кулуарах заседаний.
Из этого письма я узнал много о его педагогических взглядах и склонностях. Для него очень важной была творческая работа с учениками: акварельный рисунок, графика форм, обучение речи, постановка голоса, ритмика. «Это особенно важно, – писал он, – ведь воспитание – это искусство, а не наука. Новые силы, новые идеи возникают не через получение информации, а через новый опыт, возникающий в результате участия человека в созидательном творчестве. Мы столкнулись с глубокой нехваткой истинной гуманности в воспитании, когда в центре должен стоять ребенок, его сущность, все его развитие, а не программа, предписанная сверху и осуществляемая внизу. Примечательно, что на берлинском Доме учителя сделана надпись: «Жизнь станет программой. Она будет господствовать в мире освобожденного человечества». Я, конечно, отношусь с глубоким уважением к человеческой самоотдаче и идеализму Карла Либкнехта в подходе к социализму, который сформулировал это положение незадолго до своей гибели. Но чем же тогда должно быть это послушное программам человечество? Учителю необходимы прежде всего любовь к ребенку, будущему человеку, не к программе. Дорогой Маркус, я пишу все это не для того, чтобы убедить тебя в достоинствах школы Валь-дорфа, а потому, что меня глубоко беспокоят судьбы тысяч людей, которые страдают из-за представлений об изголодавшемся духовно и умственно человеке, порожденных в девятнадцатом столетии тогдашними материалистическими взглядами. Об этом я писал тебе подробнее, и твой ответ меня очень порадовал».
Представления Мартина и его критика нашей системы коснулись меня и в моих поисках причин нашего крушения. От идеалистического понимания меня отделяло многое, с другой стороны, они дали мне много идей.
Мое пребывание в Москве, вероятно, побудило Мартина к этому, так как большая часть его следующего письма была посвящена Достоевскому, который, по его мнению, постиг «суть души русского народа». Мартин относил это, в частности, к персонажам его произведений, которые «сохранили детскую чистоту и веру в добро в других людях». Подробно цитировал он трогательные слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» о дите и русском человеке, которые побудили его написать мне: «И так, как мы в Центральной Европе должны приникнуть к плодотворным семенам, которые посеяли в нашей культуре Гёте, Шиллер, Новалис, Гердер, Жан Поль и которые мы недостаточно лелеяли (за исключением музыки – она осчастливливает и объединяет людей независимо от расы), так ведь и русский народ может обратиться к тем, кто постиг суть русской души».
Спокойствие и уединение на даче моей сестры в Подмосковье, которых у меня наверняка не было бы в Берлине, позволили мне перечитать главы, глубоко затронувшие Мартина. Должен признаться, что «Легенда о великом инквизиторе» произвела в этот раз большее впечатление, чем рассказы старого монаха. Конечно, они содержат чудесные слова о любви к животным и детям, многое, что отличает душу русского народа, если вообще существует «душа народа». Я все же считаю, как и прежде, что одни только обращения к добру так же мало могут изменить пороки общества, как и единоличное господство власти. Правда, как свидетель крушения перестройки я нашел у Достоевского некоторые объяснения причин притока людей в православную церковь, но не нашел ответа на волновавший меня и многих моих русских друзей вопрос. В отличие от меня Мартин все еще лелеял надежду на будущее ГДР. Он видел ее будущее в «воспитании человеком человека». Тем грустнее звучали последние строки его письма: «Время не терпит. Что касается ГДР, то, боюсь, она слепо на всех парусах плывет к западному материалистическому капитализму. К сожалению, следует сказать: никого нельзя винить в том, что они бежали на Запад. Хочется выть, глядя на безрадостные города с отравленным воздухом и бесчисленными развалившимися зданиями, где крыши провалены, стекла окон выбиты, мусор на улицах… Такого ужаса я никогда не мог себе представить, и все это во имя светлой идеи!» Эти слова глубоко ранили меня, подобно обвинениям за мою работу так называемым «шефом шпионажа». Они требовали от меня ответа на вопрос о собственной ответственности и собственной вине за столь жалкий конец исполненного надежд начинания и за то, что так долго ничего не делалось при столь явственно скверном состоянии дел в нашей стране. При возвращении в Берлин весной 1990 года я получил несколько коротких сообщений Мартина о его педагогической работе в Галле и Лейпциге. Он все еще был полон задора и беспокоился о моем будущем: «Будет ли отменен приказ Ребмана о твоем аресте или он будет распространен на ГДР? Какие формы примет охота на сотрудников Штази, от которой ты предостерегал на Александерплац? Лозунг «Нет социализму навсегда» разрушил надежды на гуманный социализм. Те, кто осенью вышел с ним на улицы, теперь почти совсем замолчали». С сарказмом он добавил: «Если это письмо зарегистрирует служба почтового контроля, начнутся спекуляции о тайном сговоре между коммунизмом и антропософией». В следующие месяцы, когда ГДР неслась к своему концу с ураганной скоростью, встретиться нам не удалось. Я был занят тем, что отбивался от бесчисленных публичных обвинений и клеветы, а также от многочисленных непристойных предложений поделиться своими знаниями секретов службы.
Мартин в июне полетел вместе с женой на педагогическую конференцию в Лиссабон и затем до конца года – в Бразилию. Там из далекого далека он проследил, что я 3 октября в «день немецкого единства» предпочел не участвовать в спектакле моего ареста в Берлине, ожидавшегося многочисленными жаждущими сенсаций репортерами и фотографами. В одном из крупных немецких журналов он прочитал интервью, «данное в гостиничной комнате без окон». До своего отъезда из Германии он оставил мне в длинном письме свои суждения о причинах нашего крушения. Он еще раз перечитал «Тройку» и ощутил серьезность изменения климата со времени выхода книги в 1989 году.
«Возможно, еще появится какой-нибудь режиссер, который снимет фильм, но со всей возможной в настоящее время открытостью показа характеров и их образа мысли, сути жизни этих трех ровесников. Ты, правда, упоминаешь сцены встреч и указываешь на разногласия, но тогда ты еще не мог проследить так глубоко и правдиво за тем, что развилось и образовалось в глубине души этих разделенных судьбой героев».
Мартин высказывает массу соображений, как с большей глубиной представить героев моей книги, и я со всем этим могу только согласиться. Его изображение атмосферы в ГДР завершается констатацией: «От духа октябрьских и ноябрьских дней 1989 года ничего не осталось. Я пытался при этом представить, что ты сам сейчас в эти месяцы чувствуешь, если твоя тяжелая работа вообще оставляет время для этого».
Далее Мартин начинает издалека, излагая свои мысли о приближающемся окончании столетия. Любой прогресс человечества требует появления ответственного человека, который свободен от связей с церковью, партиями и идеологиями. Представления девятнадцатого столетия о сути человека, которые сводили ее полностью только к влиянию окружающего мира и/или наследственных факторов, устарели. Представления о человеке, хорошем по своей природе, оказались иллюзией. «Никто не думал сто лет назад, что люди будут так мучить, пытать и убивать друг друга бомбами, в концлагерях, лагерях ГУЛАГа. Будущим учителям следует сказать: дети по природе отнюдь не дружелюбны, терпимы и полны сочувствия, а скорее жестоки; мораль не возникает заранее, ее нужно прививать воспитанием. «Добрый дикарь», придуманный Жан-Жаком Руссо, просто не существует. Поэтому воспитание (и самовоспитание) имеют огромное значение, однако должно быть "воспитание в условиях свободы, а не предписанное сверху"».
Хотя наши представления о понимании свободы не совпадали полностью, они довольно близки. Критика Мартина о недостатке свободы для каждого отдельного человека в нашей системе, которую мы, греша против истины, декларировали как «демократический социализм», его кредо о свободе индивидуума отвечали многим моим соображениям – тем, что я описал в книге, напрасно ожидавшей публикации со времени моего отъезда из Германии: издательству «Бертельсман» пришлось по указанию руководства концерна расторгнуть договор со мной.
Записи в дневнике о традиционной демонстрации памяти К. Либкнехта и Р. Люксембург 15 января 1989 года стали поводом для моего обращения к текстам работ Розы Люксембург, чтобы глубже понять суть ее высказываний, постоянно напоминавшихся и цитированных партией о свободе, которую она всегда понимала как свободу для инакомыслия. Меня поразила мудрость революционерки, с которой она через несколько недель после установления советской власти в России в споре с Троцким и Лениным указала на опасности, возникающие из-за того, «что несколько десятков партийных руководителей дирижируют и управляют с неиссякаемой энергией и безграничным идеализмом…, а время от времени собирается элита из рабочих на собрания, чтобы, выслушав речи вождей, поаплодировать им и принять единогласно предложенные резолюции, что по сути -хозяйничанье клики; диктатура, конечно, но чья – не диктатура пролетариата, а диктатура горстки политиков». Пророческими мне показались те слова, за которыми следует фраза о свободе для инакомыслящих. Я процитировал их в моей книге: «Не из-за фанатизма справедливости, а потому, что все оживляющее, излечивающее и очищающее политической свободы зависит от этого существа и его действие прекращается, как только свобода становится чьей-то привилегией».
Я рекомендовал Мартину почитать, например, то, что написал профессор литературы Ганс Майер, который, будучи марксистом (хотя он и покинул ГДР в шестидесятые годы), не согласился участвовать в поношении духовной жизни в нашей стране несмотря на свои принципиальные расхождения с ней. Когда Майер констатирует, что «реальный социализм» потерпит поражение прежде всего потому, что ставит интересы общества выше интересов отдельной личности, я не могу с ним не согласиться: гуманизм мыслим лишь тогда, когда он остается гуманизмом не только в масштабах всего человечества, но и «позволяет аутсайдеру жить, сохраняя свое аутсайдерство, и жить гуманистом». В отличие от некоторых великих философов-просветителей и, возможно, наставника антропософии для Мартина Ганс Майер вовсе не считал свою защиту отдельной личности неким признанием абсолютного духа. Иначе мы пришли бы к «мудрствованию по поводу какой-то потусторонности». Насколько сложно будет со «свободой, не предписанной сверху», в условиях другой системы – «свободного рыночного хозяйства», которая должна была надвинуться на Восток, Мартин высказался в письме, где сообщил мне о своем отъезде: «Не было ли это в интересах западного капитализма, чтобы «социалистический эксперимент на востоке Европы» (о котором говорили еще в конце девятнадцатого столетия!) потерпел крушение? И что же теперь из этого выйдет? Не направлены ли масс-медиа (кабельное телевидение, пресса, принудительное потребление) на то, чтобы сделать человека послушным? Лишить его путей к внутренней свободе, если не вообще закрыть их? Люди хотели сбросить мелочную опеку государства, – кто теперь будет их опекать? Я думаю, что основные проблемы будущих десятилетий будут состоять в том, чтобы уменьшить напряженность в «третьем мире».
Но и там неразрешимые проблемы только возрастут, если не будут учтены находящиеся гораздо глубже страсти людей. А они направлены на братство в экономической жизни, на равенство (демократию) в правовой жизни, на свободу в культурной, духовной, религиозной, художественной творческой областях – даже в районах нищеты в Сан-Пауло, где мы хотим сейчас приступить к созданию полноценной школы Вальдорфа. Я очень хотел бы получить весточку от тебя…»
Из-за того, что нас обоих не было в Германии, наступили длительные паузы между нашими встречами. В письме, пришедшем ко мне в Москву к новогоднему празднику 1990/1991 года, Мартин описал трудности, возникшие при осуществлении им своих педагогических представлений в Бразилии. Он с озабоченностью, как и прежде, говорил о будущем развитии Латинской Америки.
В этом письме он мимоходом упомянул о тромбозе на левой здоровой ноге, который он приобрел в Сан-Пауло. Более чем через двадцать лет, во время последней поездки в Бразилию, это заболевание стало роковым.
Письма Мартина после возвращения в Германию отражали его неустанно проводимую педагогическую работу и новые надежды, которые возникали у него в результате деятельности по школам Вальдорфа на востоке и западе. Там он был в своей стихии. С радостью он описал концерт в переполненном актовом зале Свободной школы Вальдорфа в Штутгарте, в которую ходили и его дети: более сотни его учеников исполнили там оркестрованную Равелем версию «Картинок с выставки» Мусоргского. Мартин писал, что чиновник городского управления Москвы, находившийся в числе гостей в зале, растрогался до слез. «Искусство – это не самоцель, а важное педагогическое средство, оно становится все более важным, чтобы усилить созидательность и солидарность (например, в театре, оркестре и хоре), прежде всего уверенность в себе и в идеалах. В частности, при лечении от наркотической зависимости без музыки ничего сделать невозможно».
Реальность же принесла мне при возвращении в Германию заключение в тюрьме в Карлсруэ. Генеральный прокурор ФРГ не оставил сомнения в том, что намерен теперь в объединенном государстве, в которое вошли новые земли страны, добиться моего осуждения по законам, сформулированным во время холодной войны в старой Федеративной республике за «измену стране», к долголетнему заключению.
Хотя я и привез в багаже из Москвы дискеты с выдержками из моих дневников и мыслями о важных моментах истории, для глубокого осмысливания и раздумий о свободе в области культуры в последующие недели и месяцы у меня из-за подготовки к процессу не было никакого настроения.
Уже на четвертый день заключения я получил письмо друга. Перед отлетом на педагогическую работу в Мадрид он спросил меня, может ли посетить меня после возвращения. Он приложил копию своего письма читателя в «Шпигель», в котором протестовал против статьи, появившейся в журнале в том месяце. В статье меня обвиняли в трусости и приписывали «приукрашивание фигуры отца как борца против всякой несправедливости».
Мартин написал в своем не опубликованном редакцией письме: «Я не коммунист, а христианин, но знаю семью Вольф с детства (Фридрих Вольф до 1933 года был нашим семейным врачом), и я знаю, с каким идеализмом эта семья, как и тысячи других правоверных коммунистов, боролась за социальные свободы. Было бы катастрофой, если вместе с крахом большевизма (который заслуженно терпит крах!) социальные вопросы окажутся в помойном ведре истории!» Не нужно убеждать, как высоко я оценил это письмо, видя в нем серьезное доказательство нашей необычно возобновленной дружбы.
По возвращении из Испании Мартин написал мне в Берлин, куда я выехал после выхода из тюрьмы – конечно, с большими ограничениями, которые позволили мне перемещаться только в непосредственном районе проживания: «Большое спасибо за твое письмо! В дороге я прочитал твою книгу, которая захватила меня еще больше, чем «Тройка», возможно потому, что ты более не осторожничаешь так со стилем. Я постоянно ощущаю этот вакуум в общении между людьми. И здесь, и там постоянно слышится озабоченность тем, что с криком «Социализм – никогда снова!» один из важнейших вопросов будущего более никто не задает… Теперь мы уже знаем по собственному опыту, что социализм без подлинной демократии и без гуманной свободы становится негуманным. На Западе и везде, где господствует эта другая система, мы видим, напротив, что демократия со свободой, но без братства также становится негуманной… Позднее нас спросят: вы что, этого не видели? Не знали? Зачем вы это сделали? По этому поводу мы уже обменивались мыслями, и для меня новая возможность поговорить была бы очень важна. Но я понимаю, теперь ты по уши занят процессом».
Наконец-то у Мартина появилась возможность подробно изложить свой философский взгляд на мир. Хотя он не входил непосредственно в Общество антропософов, однако работы Рудольфа Штайнера и его собственный опыт на основе его христианской веры, не искаженной официальной церковью, определяли в значительной мере его мышление. Мартин предполагал, что мой отец, хотя бы из-за своего гуманистического образования и своей первой жены, был близок к антропософии. И так действительно было. Мать моих сводных брата и сестры, до конца дней прожив эмигранткой в Великобритании, была убежденной сторонницей антропософии. Я показал Мартину копию плаката высшей народной школы в Ремшайде, относящегося к 1920 году, на котором объявлены совместные доклады моего отца и его тогдашней жены. Кстати, по воле случая на этом же плакате напечатано приглашение на доклады д-ра Рихарда Зорге – советского разведчика, казненного в Японии в 1944 году. С моей точки зрения, он является самым выдающимся разведчиком двадцатого столетия, и мы избрали его в моей службе в качестве примера для подражания. Моя тетка, Грета, сестра моей матери, показала мне как-то полученное ею письмо первой жены Рихарда Зорге, которая жила после войны в США. Кристиана Зорге писала: «Если бы Ика – так называли близкие Зорге в семейном кругу – остался антропософом, он избежал бы сложностей судьбы». Однако этим своеобразным переплетением линий судьбы исчерпывается отношение моей семьи к мировоззрению Мартина.
Мартин считал себя, впрочем, более антропософом-практиком, чем теоретиком. Несмотря на это склонность к философствованию была у него явно заметна. По ответам на мои вопросы о судьбе его братьев, погибших на войне, я понял, что молодые люди, хотя и очень различные по характеру, в его рассуждениях о ценностях жизни играли большую роль. Мартин рассказал мне о письмах с фронта своих братьев, в жизни которых музыка занимала не последнее место.
Когда война приближалась к Германии и бомбы разрушали города, отец Мартина купил новый клавесин, а сам Мартин начал сочинять музыку, уже находясь в госпитале.
Вероятно, возбужденный предстоящими рождественскими праздниками или моим атеистическим взглядом на мир, Мартин противопоставил проповедовавшееся Иисусом братство, некий вид «идеального коммунизма», в котором жили христианские общины первых столетий нашего летоисчисления, определенным враждебным этому духу силам, например католической церкви. Ибо ее стремлением является воспрепятствовать тому, чтобы была достигнута новая ступень братства. Более того, она упорно предпринимает усилия, чтобы и впредь держать людей в зависимости, глупости, страхе и вере в чудеса. С его точки зрения, эти враждебные силы вплоть до нынешнего времени всегда имели перевес. Настоящее христианское, эзотерическое придет только в будущем.
Социализм стремился к созданию рая на Земле, при этом, однако, насиловал самое человеческое в человеке, его свободу принятия решения. Если когда-нибудь миротворческие силы ООН достаточно окрепнут, чтобы обеспечивать внешний мир, это стало бы предпосылкой достижения предсказанного Библией «мира на Земле людей доброй воли». В каждом человеке на Земле должен стать живым внутренний мир. Мартин опять вернулся к музыке. Ему случалось видеть, что многие люди в произведениях великих мастеров, мессах, ораториях, симфониях, струнных квартетах находили источник надежды, независимо от расы, верования или нации. Поэтому музыка для него – самое важное в мире.
На мои сомнения, удастся ли обуздать «враждебные силы» без изменения реального соотношения сил в обществе, дала ответ Вторая мировая война, которую мы пережили в нашей юности. Можно было почувствовать сдержанность Мартина. После войны ему было трудно, и потребовалось длительное время, чтобы принять вину Германии и поверить в ужасы концлагерей, планомерное уничтожение евреев. Он задавал вопросы о Нюрнбергском процессе, на котором я присутствовал как репортер, и особенно его интересовало, как мой младший брат Конрад пережил, будучи в годы войны солдатом Красной Армии, долгий путь от Кавказа до Берлина.
Выяснилось, что один из братьев Мартина, Голь, воевал в кавказских горах на стороне немецкого вермахта. А другой брат, Дилл, молодым офицером вермахта служил на юге Украины именно в то время, когда мой отец летом 1943 года как уполномоченный Национального комитета «Свободная Германия» вместе со сбитым над Сталинградом правнуком канцлера Бисмарка, лейтенантом люфтваффе и кавалером рыцарского креста графом Генрихом фон Айнзиделем, призывал через громкоговорящие установки к окончанию бессмысленного сопротивления. Обоих потрясли картины оставленной при отступлении «выжженной земли»: расстрелянные из пулеметов стада скота, взорванные фабрики и шахты, масса убитых, по большей части мирных жителей.
В последние месяцы того года отступления оба брата Мартина погибли. Почти в то же время был ранен и сам Мартин, также на Восточном фронте.
Я понял, что своими вопросами затронул старые раны. Неожиданно Мартин заявил мне, что все четыре брата пошли служить на фронт: каждый считал своей обязанностью не уклоняться, сидя дома, а сделать все, что он может, на фронте. Мартин признался, что он, как младший, буквально страдал от того, что ему пришлось ожидать так долго отправки на фронт.
Конечно, я помнил о практике воспитания мужества и самопожертвования, применявшейся в «Н.Ю.1.11», но я знал также, что Мартин и его братья, как и большинство сторонников Туска, не принимали национал-социализма и поэтому сами оказались жертвой преследований гитлеровского государства. Я просто не мог связать этого вместе. Особенно я не мог понять добровольной жертвенной смерти его брата Акселя.
Хотя эта тема не испортила атмосферу нашего общения и мы разошлись с наилучшими пожеланиями друг другу веселого Рождества и здоровья в новом году, Мартин, должно быть, угадал мои мысли. В своем следующем письме он постарался описать своего брата Акселя как человека с особенно динамичным и принципиальным характером. Когда их отец добился после смерти двоих старших братьев, в соответствии с существовавшими тогда правилами, отстранения Акселя от боевых вылетов, тот пустил в дело все возможные средства, чтобы добиться разрешения на вылеты, связанные с опасностью для жизни.
Возможно, чтобы показать мне моральные основы, а также объяснить свое тогдашнее отношение, Мартин процитировал в пассаже, посвященном моему вопросу об Иисусе, в этом своем письме слова последнего: «Ни у кого нет большей любви, чем у тех, кто отдает свою жизнь за своих друзей».
1992 год прошел в коротких приветах и кратких сообщениях о внешнем ходе вещей. Мартин распространил свою просветительскую и педагогическую деятельность далее на восток, провел несколько недель в Чехии, следил за активизацией движения Вальдорфа в России и Грузии и опять уехал на несколько месяцев в Бразилию.
В то же время мне пришлось разбираться с объемистым обвинительным заключением матерых рыцарей холодной войны, которые никак не выпускали меня из своих объятий, хорошенько не потрепав. Влиятельные крупные средства информации сопровождали это предприятие настоящим потоком обвинений и оскорблений, а финансовые ограничения и блокирование пенсии угрожали лишением источников нашего существования.








