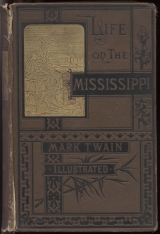
Текст книги "Жизнь на миссисипи"
Автор книги: Марк Твен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
Глава XXXII. КАК РАСПОРЯДИЛИСЬ КЛАДОМ
– Вот что сообщил мне Риттер, – сказал я моим двум товарищам.
Наступило глубокое, выразительное молчание, длившееся очень долго; за ним последовал залп взволнованных и удивленных восклицаний по поводу необыкновенных перипетий этой истории; и восклицания и перекрестный огонь вопросов продолжались до тех пор, пока моп друзья совсем не запыхались. Наконец они стали успокаиваться и отступать под прикрытием редких, случайных залпов в область молчании и глубочайшей задумчивости. Десять минут стояла тишина. Затем Роджерс сказал мечтательно:
– Десять тысяч долларов!
И после длинной паузы добавил:
– Десять тысяч! Это куча денег!
Поэт спросил вдруг:
– И вы так вот сразу отошлете ему все?
– Ну да, – ответил я. – Что за странный вопрос!
Ответа не последовало. Но спустя несколько минут Роджерс нерешительпо спросил:
– Все деньги? То есть… я хочу сказать…
– Конечно все.
Я хотел продолжать, но замолчал: меня остановил внезапный поток мыслей. Томпсон что-то говорил, а я думал о другом и не уловил его слов. Но я услышал ответ Роджерса:
– Да, и мне так кажется. Этого было бы вполне достаточно. Ведь он-то ровно ничего не сделал.
Затем поэт сказал:
– Собственно, если поразмыслить, этого более чем достаточно. Ведь только подумайте – пять тысяч долларов! Да он их и за всю жизнь не успеет истратить! И эти деньги будут ему во вред, может быть погубят его, – надо же и это принять во внимание. он быстро все спустит, закроет мастерскую, моя?ет быть начнет пьянствовать и обижать своих детей, растущих без матери, предастся другим дурным привычкам, будет опускаться все ниже и ниже…
– Верно, верно! – горячо подхватил Роджерс. – Я наблюдал такие вещи сто раз – нет, больше, чем сто. Если хотите погубить такого человека, дайте ему в руки деньги – вот и все; больше ничего не требуется – только дайте ему деньги; и если он не собьется с пути, не станет пропащпм человеком, не потеряет всякого чувства собственного достоинства и так далее значит, я не знаю человеческой натуры; правда ведь, Томпсон? Пусть даже мы дадим ему третью часть – будьте уверены, что не пройдет и шести месяцев, как он…
– Лучше скажите – шести недель! – вставил я, увлекаясь и вмешиваясь в разговор. – Если эти три тысячи долларов не поместить в надежные руки, чтобы он не мог забрать их, – он не продержится и шести недель…
– Конечно не продержится! – подтвердил Томпсон. – Я издавал книги подобного рода людей и знаю: как только к ним в руки попадет крупный гонорар – скажем, три тысячи или две…
– И на что этому сапожнику две тысячи долларов, хотел бы я знать! – озабоченно перебил его Роджерс,– Человек, может быть, вполне доволен своей судьбой, живет себе в Маннгейме, окруженный людьми своего круга, ест свой хлеб с тем аппетитом, который дается только прилежным трудом, блаженствует в своей смиренной доле, честен, правдив, чист душой и счастлив! Да, говорю вам, счастлив! Счастлив больше, чем множество людей, одетых в шелка, вращающихся в пустом, фальшивом кругу легкомысленного общества. И вдруг вы вводите его в такое искушение! Вдруг вы кладете перед таким человеком тысячу пятьсот долларов и говорите…
– Тысячу пятьсот чертей! – крикнул я. – Даже пятьсот долларов и то подорвут его принципы, парализуют трудолюбие, приведут его в кабак, оттуда – на мостовую, оттуда – в богадельню для нищих, оттуда…
– Зачем нам брать на себя такой грех, господа! – озабоченным и убеждающим тоном сказал поэт. – Он счастлив в той жизни, какую ведет, счастлив таким, каков он есть. Все чувство чести, все чувство милосердия, все чувство высокого и священного человеколюбия предостерегают нас, взывают к нам, приказывают нам не смущать этого человека. Это настоящая, это истинная дружба! Мы могли бы действовать по-другому, напоказ, но то, что мы решили, будет куда разумнее, куда полезнее, поверьте мне!
Из дальнейшего разговора выяснилось, что такое решение вопроса вызывает в глубине души у каждого из нас какие-то сомнения. Все мы ясно чувствовали, что бедному сапожнику следует послать хоть что-нибудь. После долгого и вдумчивого обсуждения мы наконец решили послать ему хромолитографию!
Но тут, когда, казалось, все было решено ко всеобщему удовлетворению, возникло новое затруднение: эти двое, оказывается, рассчитывали, что я деньги поделю с ними поровну. Я вовсе не собирался этого делать. Я заявил, что они могут считать себя счастливыми, если получат половину денег на двоих. Роджерс сказал:
– Если бы не я, никому ничего бы не досталось. Я первый подал мысль, – а то все было бы отослано сапожнику.
Томпсон заметил, что он думал об этом как раз в ту минуту, когда Роджерс заговорил.
Я возразил, что и сам очень скоро додумался бы до этого без чьей-либо помощи. Я, может быть, соображаю медленно, но зато верно.
Дело дошло до ссоры, потом до драки, и все здорово пострадали. Как только я привел себя в приличный вид, я поднялся на верхнюю палубу в довольно кислом настроении. Здесь я встретил капитана Мак-Корда и сказал ему со всей любезностью, на какую в таком состоянии был способен:
– Я пришел проститься, капитан. Я намерен высадиться в Наполеоне.
– Где?
– В Наполеоне.
Капитан рассмеялся, но, заметив, что я далеко не в шутливом настроении, перестал смеяться и сказал:
– Так вы это серьезно?
– Серьезно? Конечно.
Капитан посмотрел на лоцманскую рубку и сказал:
– Он хочет высадиться в Наполеоне.
– В Наполеоне?
– Да, так он говорит.
– О, тень великого Цезаря!
Подошел дядюшка Мэмфорд. Капитан сказал ему:
– Дядюшка, вот ваш приятель желает сойти в Наполеоне.
– Что? Клянусь…
Я сказал:
– Да в чем же тут дело наконец? Почему человек не может высадиться на берег в Наполеоне, если ему это нужно?
– Черт возьми, да неужели вы не знаете? Никакого Наполеона больше нет. Его уж бог знает сколько лет не существует. Река Арканзас хлынула на город, разнесла все вдребезги и унесла в Миссисипи.
– Унесла целый город? Банки, церкви, тюрьмы, редакции газет, театр, пожарное депо, здание суда, извозчичий двор – все?
– Все. За каких-нибудь четверть часа, не больше. Ни клочка, ни тряпки – ничего не осталось, кроме какой-то развалившейся лачуги да кирпичной трубы. Наш пароход проходит сейчас как раз по бывшему центру города; вон там кирпичная труба – это все, что осталось от Наполеона. Тот густой лес, справа, был когда-то за милю от города. Посмотрите-ка назад, вверх по реке, – ну что, теперь начинаете узнавать местность, а?
– Да, теперь узнаю. Первый раз слышу такую историю! В жизни не слыхал ничего более удивительного – и неожиданного!
Тем временем появились мистер Томпсон и мистер Роджерс со своими мешками и зонтиками и молча выслушали рассказ капитана. Томпсон сунул мне в руку полдоллара и шепнул:
– Моя доля на хромолитографию.
Роджерс сделал то же самое.
Да, было удивительно странно смотреть, как Миссисипи течет вдоль пустынных берегов в том самом месте, где я лет двадцать тому назад видел большой, красивый, горделивый город. Город, бывший центром обширного и значительного района; город с большим флотским госпиталем; город бесчисленных драк, – каждый день шло следствие; город, где я знавал когда– то прелестную девушку, самую идеальную девушку во всей долине Миссисипи; город, где четверть века назад мы прочли в газете первое известие о жуткой гибели «Пенсильвании», – этого города больше нет; он проглочен, исчез, пошел в пищу рыбам; ничего не остаюсь, кроме развалин лачуги и разрушающейся кирпичной трубы!
Глава XXXIII. ЗАКУСКИ И ЭТИКА
С островом 74, расположенным недалеко от бывшего города Наполеона, река сыграла шутку, превратившую человеческие законы в пустой звук. Когда официальным актом определялись границы штата Арканзас, они шли «до середины реки», – крайне неустойчивые границы. Штат Миссисипи претендовал на протяженность «до фарватера», – опять-таки неустойчивая и изменчивая граница. Остров 74 принадлежал Арканзасу. Мало-помалу новое русло отрезало этот крупный остров от Арканзаса, но все-таки он не попал на территорию Миссисипи. «Середина реки» очутилась по одну сторону его, а «фарватер» – по другую. Так я понимаю это дело. Верны ли сообщенные мне детали или нет, но незыблемым остается факт: в наличии имеется обширный и необычайно ценный остров площадью в четыре тысячи акров, оставленный на произвол судьбы и не принадлежащий ни тому, ни другому штату; население его не платит налогов ни одному из них и не числится ни за каким штатом. Островом владеет один человек, и его по праву можно назвать «человеком без отечества».
Остров 92 принадлежит штату Арканзас. Река передвинула его и тем самым приблизила к штату Миссисипи. Некий деляга устроил там кабак без разрешения властей Миссисипи и стал богатеть за счет клиентов из штата Миссисипи, под крылышком штата Арканзас (где в ту пору разрешений но требовалось).
Мы неуклонно скользили вниз по реке в привычном одиночестве – редко показывался пароход или иное плывущее суденышко. Панорама все та же: по обе стороны реки почти непрерывно тянется лес; уединение и тишь. Кое-где одна-другая хижина нарушает однообразие серого, не поросшего даже травой берега, – эти хижины раньше стояли на четверть мили или на полмили ближе, но, по мере того как берег обваливался, их постепенно переносили всё дальше вглубь. Так было, например, у мыса Пилчер, где за три месяца, как нам сказали, хижины, отступили на триста ярдов, но оползающий берег уже нагнал нх, и им снова приходится подаваться назад.
Город Наполеон когда-то пренебрежительно относился к Гринвиллу в штате Миссисипи… И что же? Наполеон стал добычей сомов, а Гринвилл полон жизни и деятельности и процветает: в нем, как говорят, три тысячи жителей, и его торговые обороты достигают двух миллионов пятисот тысяч долларов в год. Город растет.
На пароходе было много разговоров о Кэлгуновской земельной компании – предприятии, от которого ждут благих результатов. Полковник Кэлгун, внук известного государственного деятеля, съездил в Бостон и организовал синдикат, который приобрел большие участки земли (около десяти тысяч акров) у реки в области Чикот, штат Арканзас, для разведения хлопка. Правило синдиката – работать за наличные, покупать из первых рук и торговать только собственной продукцией; снабжать своих батраков-негров всем необходимым с ничтожной наценкой: восемь—десять процентов, строить им удобные помещения и т. д. и поощрять их к тому, чтобы они откладывали деньги и осели на месте. Если это обеспечит синдикату материальную выгоду, что представляется несомненным, то он намерен открыть банк в Гринвилле и давать ссуды на необременительных условиях, – как предполагается, из шести процентов.
До сих пор беда была в том (я привожу мнение плантаторов и пароходных служащих), что плантаторы, владея землей, не имеют наличных денег. Им приходится закладывать и землю и урожай, чтобы вести дело. Таким образом, посредник, снабжающий их деньгами, подвергается некоторому риску и требует поэтому большой процент – обычно процентов десять, – и еще два с половиной процента за посредничество при займе.
Плантатору приходится также покупать все припасы через того же носрединка и оплачивать и посредничество и прибыль продавца. Затом, при отправке хлопка посредник берет комиссионные и страховые и т. д. Так, в конечном счете он получает с каждого урожая около двадцати пяти процентов.
Нот как оценивает один плантатор средний доход от хлопка для своего района: один человек и мул могут обработать десять акров поля, что даст десять кип хлопка, расцениваемых, скажем, в пятьсот долларов; на это затрачивается примерно триста пятьдесят долларов, – значит, чистая прибыль сто пятьдесят долларов, или пятнадцать долларов с акра. Дают некоторый доход теперь и семена хлопчатника, которые раньше имели малую ценность, а там, где требовалась далекая перевозка, и совсем никакой. В тысяче шестистах фунтах сырца – четыреста фунтов волокна стоимостью, скажем, по десяти центов фунт, и тысяча двести фунтов семян стоимостью двенадцать – тринадцать долларов тонна. Возможно, что в будущем и стебли не будут выбрасываться и пойдут в дело. Мистер Эдвард Аткинсон говорит, что на каждую кипу хлопка приходится по тысяче пятьсот фунтов стеблей и что они очень богаты фосфорнокислой известью и поташом; что если их измолоть и смешать с силосной массой или мукой из семян хлопчатника (которая чересчур жирна, чтобы идти в корм в больших количествах), то зти стебли дают превосходный корм для скота, богатый всеми веществами, необходимыми для образования молока, мяса, костей. А прежде стебли считались обузой.
Жалуются, что плантаторы со времени войны все еще настроены против бывших невольников, не желают идти дальше холодных деловых отношений с неграми, не допуская никаких дружественных чувств; не хотят сами заводить «склад» и снабжать негpa всем необходимым, щадя таким образом его карман, давая ему и возможность и охоту оставаться на месте; нет, они эту привилегию уступают какому-нибудь расчетливому еврею, который уговаривает легкомысленных негров и их жен покупать всякие лишние вещи, – покупать в кредит по высоким ценам, из месяца в месяц. Кредит предоставляется негру под его долю в будущем урожае, а в конце сезона эта доля переходит в собственность торговца; негр оказывается кругом в долгу, падает духом, волнуется, беспокоится, – и страдают от этого и негр и плантатор, так как негр садится на пароход и переселяется в другое место, а плаптатору приходится брать на его место нового, который не знает хозяина, не прпвязаи к нему, весь сезон будет работать на торговца, а затем, как и его предшественник, уедет на пароходе.
Кэлгуновская компания, как надеются, гуманным и попечительным отношением к своим батракам докажет, что ее система наиболее выгодна и для плантатора и для негра; считают, что за этим последует повсеместное введение подобной системы.
Когда такое множество людей выражает свое мнение, почему не высказаться и пароходному буфетчику? Он вдумчив, наблюдателен, никогда не напивается, старается честно заработать и зарабатывал бы, если бы было достаточно клиентов. он говорит, что жители Миссисипи и Луизианы предпочитают посылать за овощами вверх по реке, вместо того чтобы самим их выращивать, и на всех пристанях приходят на пароход покупать фрукты у буфетчика. Говорит: они «только и знают один свой хлопок», – и считает, что никто из них, или по крайней мере большинство, не умеет выращивать овощи и фрукты. Говорит: негр за арбузом пойдет хоть в самый А. (В стенограмме так и записано: «А»; наверно, это значит в Арканзас, хотя, по-моему, туда ездить за арбузами далековато.) Буфетчик покупает арбузы в верховьях реки по пяти центов, везет пх вниз и продает по пятидесяти. Почему он приготовляет для негров, служащих на пароходе, такие замысловатые и красивые иа вид коктейли? Потому что других они пить ио желают. «Им подавай хорошую порцию, – а чего ты туда намешаешь, им все равно, лишь бы выпить за свои деньги побольше. Дайте негру за пять центов просто четверть пинты полудолларового коньяку – вы думаете, он до него дотронется? Нет, ему этого мало. Но если вы намешаете целую пинту всякой ничего не стоящей дряни, подольете чего-нибудь красного – им только подавай покраснее! – негр не оставит стакана, даже если eго позвать в цирк». Все буфеты пароходства Анкер-Лайн арендованы и находятся в руках одной фирмы. Она сама снабжает их напитками, и буфетчики у нее «на жалованье». Хорошие напитки? Да, на некоторых пароходах – где пассажиры требуют такие напитки и в состоянии заплатить за них. На остальных? Нет. Кому же пить их – палубным матросам и кочегарам? «Коньяк? Да, коньяку у меня большой запас. Но он годится разве тому, кто уже сделал завещание». Теперь не то, что в былые времена, – тогда все плавали на пароходах, все пили и все угощали друг друга. «Теперь большинство по железной дороге ездит, а остальные не пьют». В старипу буфетчик сам был хозяином буфета. «Шикарные были парни – весельчаки, говоруны, на нпх и кольца и всякие украшения, – словом, пароходная аристократия; и зарабатывали за один рейс по две тысячи долларов. Когда отец оставлял сыну в наследство пароходный буфет – это было целое состояние. Теперь сыну достаются в наследство только харчи да помещение, ну и стирка бесплатная если ему одной сорочки на рейс достаточно. Да, действительно времена переменились. Представьте себе, на главной пароходной линии Верхней Миссисипи нет ни одного буфета! Похоже на сказку, а это сущая правда!»
Глава XXXIV. ДОСУЖИЕ ВРАКИ
Стэк-Айленд. Я помнил Стэк-Айленд, помнил и Лэйк-Провиденс в Луизиане – первый по-настоящему южный город, который встречаешь, путешествуя вниз по реке; лежит он на низкой равнине, в тени деревьев, с которых свисают почтенные седые бороды испанского мха. «У этого городка такой мирный, задумчивый, воскресный вид», – говорит дядюшка Мэмфорд с чувством; и он прав,
Некто мистер X. сообщил нам кое-какие подробности относительно этой округи; я бы, пожалуй, усомнился в их достоверности, если бы не знал, что X. служит помощником на пароходе. На нашем пароходе он был пассажиром. Живет он в Арканзас-Сити и направлялся в Виксберг, на свой маленький пакетбот линии «Санфлауэр». Это был суровый мужчина, имевший репутацию настоящего аскета по сравнению с остальной речной братией. Между прочим, он утверждал, что Арканзас сильно пострадал и отстал в развитии из-за того, что из поколения в поколение передавались преувеличенные слухи о засилии в нем москитов. «Вы можете, конечно, улыбаться, – сказал он, – и считать, что это пустяки; но когда видишь, как это влияет, как уменьшается приток переселенцев и понижается ценность земель, то это выходит совсем не пустяк, тут уж не отмахнешься и не отшутишься. Об этих москитах всегда говорили, что они чудовищных размеров и бороться с ними невозможно; а на самом деле они слабые, маленькие создания, чувствительные и робкие до невозможности…» и так далее и так далее. Можно было подумать, что он говорил о своей семье! Но, снисходительный к арканзасским москитам, он достаточно суров был к москитам Лэйк-Провидеис, «этим лэйк-провиденсским колоссам», как он под конец назвал их. По его словам, они вдвоем могут обратить в бегство собаку, а вчетвером – свалить с ног человека и, если не подоспеет помощь, умертвить – «заколоть его», как он выразился. Как бы мимоходом – и вместе с тем многозначительно – он упомянул, что «в Лэйк-Провиденс неизвестно обыкновенное страхование жизни, там принято только страхование от москитов». Он сообщил много любопытного об этих свирепых насекомых. Сказал, например, что сам видел, как они пытаются голосовать. Заметив, что это сообщение нас порядком ошеломило, он несколько его изменил: возможно, мол, что он ошибся, но во всяком случае он видел, как они суетились вокруг избирательных урн.
Другой пассажир, приятель X., подтвердил его суровые показания против москитов и подробно описал нам кое-какие из своих интереснейших приключений с ними. Истории были довольно длинны, только довольно длинны. Но мистер X. беспрестанно перебивал его холодным тоном: «Погодите-ка, скиньте двадцать пять процентов с этого. Так, теперь продолжайте». Или: «Ну, это вы хватили! Легче, легче – вы чересчур уж асе разукрасили. Подавайте факты в трико, а не в размахаях…» Или: «Еще раз простите: если вы намерены еще что-нибудь прибавить, вам придется взять два-три катера и тащить все ваши россказни на буксире, потому что они у вас впитали всю воду из реки. Держитесь фактов, только голых фактов! Этим джентльменам нужна для книги лишь одна голая истина. Не правда ли, джентльмены?» Он конфиденциально объяснил нам, что за этим человеком приходится постоянно следить и удерживать его в границах. В том, что такая предосторожность необходима, он, мистер X., убедился на собственном горьком опыте. Он прибавил: «Не буду вас обманывать: однажды он рассказал мне такую чудовищную ложь, что у меня от нее вспухло левое ухо, – оно так разрослось, что я не мог ничего видеть из-за него, и оставалось в таком виде несколько месяцев, так что люди за много миль приезжали посмотреть, как я своим ухом обмахиваюсь».
Глава XXXV. ВИКСБЕРГ ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ
Плывя вниз по реке, мы проходили, бывало, мимо расположенного на высоком холме города Виксберга; теперь это невозможно: река изменила русло, и Виксберг оказался в стороне, как и Осиола, Сент-Женевьев и многие другие города. Теперь против Виксберга – старица со стоячей водой и большой остров. Вы проезжаете рекой по другую сторону острова, затем огибаете его и поднимаетесь к городу; но все это только при высоком уровне воды, – в мелководье подняться к городу невозможно и приходится высаживаться несколько ниже.
Сохранились еще рубцы и шрамы, напоминающие о пережитых городом ужасах войны: земляные насыпи, деревья, искалеченные пушечными ядрами, пещеры в глинистых оврагах, где укрывались горожане, и т. д. Пещеры эти сослужили хорошую службу во время шестинедельной бомбардировки города – с 18 мая по 4 июля 1863 года. Ими пользовались мирные жители, главным образом женщины и дети; они не переселились туда совсем, а только прятались там, когда им грозила опасность. То были просто подземные ходы, туннели, прорытые в отвесном глинистом склоне берега, которые, разветвляясь в виде цифры V, углублялись внутрь холма. Жизнь в Виксберге в течение этих шести недель была… но погодите: вот некоторые материалы, которые помогут воспроизвести ее.
Население – двадцать семь тысяч солдат и три тысячи обывателей; город совершенно отрезан от остального мира: с реки – канонерские лодки, с суши – войска и батареи; таким образом, невозможна никакая торговля с внешним миром, нельзя ни приехать, ни уехать; ни проводить уезжающего гостя, ни встретить прибывающего; ни читать больше за завтраком целых акров газетных сообщений о том, что делается на белом свете, – вместо того томительная скука без всяких новостей. Теперь не побежишь смотреть, как издали, сверху или снизу, приближается дымок парохода и подходит к городу, – пароходов нет, река пустынна, ничто не нарушает ее покоя; на железнодорожной станции ни шума, ни толчеи, не протискиваются сквозь толпу растерянных пассажиров шумливые носильщики – тишина; бочка муки – двести долларов, сахара – тридцать, бушель зерна – десять долларов, бекон – пять долларов фунт, ром – сто долларов галлон, и все остальное – соответственно; оттого по улицам и но мчатся с шумом и грохотом ломовые телеги и экипажи: им нечего делать среди этой горсточки разоренных жителей; в три часа утра тишина – такая мертвая тишина, что мерные шаги часового слышны на совершенно невероятном расстоянии; а там, где не слышен этот единственный шум, тишина, должно быть, абсолютная; и вдруг раздается сотрясающий землю грохот артиллерии, небо затягивается паутиной перекрещивающихся красных линий – след летящих снарядов, – и дождь стальных обломков сыплется на город, сыплется на безлюдные улицы; но через мгновенье улицы уже по безлюдны: по ним мечутся едва видные во мраке тони обезумевших женщин и детей: из дому, прямо с постели, они бегут в пещерные убежища, а суровые солдаты шутливо подгоняют их криком: «Крысы – в норы!» и смеются.
Пушечный гром неистовствует, снаряды визжат и разрываются в воздухе, стальной ливень льется час, два, три – бывает, что и шесть часов, – затем прекращается, наступает тишина, по улицы все еще пусты; тишина продолжается. Тогда тут и там из пещер начинают выглядывать головы – одна, другая, третья – и осторожно прислушиваются; тишина не нарушается, за головами следуют тела, и измученные, полузадохшиеся люди расправляют затекшие члены, пьют большими глотками благодатный свежий воздух, и перебрасываются словцом с обитателями соседней пещеры; еслп спокойствие наступает надолго, они иногда отправляются домой или прогуливаются по городу – и сейчас же бегут обратно в свои норы, как только военная буря разражается снова.
Таких пещерных жителей было всего три тысячи – то есть не больше, чем в какой-нибудь одной деревне, – мудрено ли, что через неделю-другую они всо перезнакомились и подружились между собой, особенно потому, что радостп и печали у них были общие.
Таковы материалы, предоставленные историей. По ним почти всякий может представить себе жизнь в Виксберге в то время. Но может ли человек, не переживший осады, рассказать о ней другому, также не испытавшему ее, лучше, чем какой-нибудь виксберясец, который действительно ее пережил? Это кажется невероятным, а между тем это в самом деле так. Человек, совершающий первое путешествие на корабле, получает столько поразительных впечатлений, лезущих из каждого угла, и эти впечатления настолько идут вразрез со всем когда-либо им испытанным, что они неизгладимо остаются в его воображении и памяти. Он может об этом рассказывать устно или на бумаге и заставить сухопутного жителя пережить вместе с ним это необыкновенное, волнующее путешествие, заставить его увидеть, почувствовать все. Но что, если рассказчик помедлит с рассказом? Если он совершит подряд десять плаваний – что тогда? Тогда все пережитое потускнеет, потеряет необычайность, неожиданность; оно станет заурядным. Ему нечего будет сказать такого, от чего сердце сухопутного жителя забилось бы быстрее.
Много лет тому назад я толковал с двумя обитателями Виксберга – мужем и женой. Я не мешал им рассказывать все по-своему, – и они рассказывали без всякого чувства, почти равнодушно.
Если бы то удивительное, что они пережили, продолжалось одну неделю, они, вероятно всегда описывали бы свои переживания взволнованно и красноречиво; но это длилось не одну, а шесть недель – и утратило всю новизну: они привыкли к бомбардировке, гнавшей их из дому под землю; все стало заурядным. А потому и воспоминания их уже не могли быть захватывающе интересными. Вот что мне рассказал муж:
«Все время было точно воскресенье. Семь воскресений в неделю – для нас по крайней мере. У нас не было никакого дела, и время тянулось невыносимо. Семь воскресений – и ни одно не проходило без того, чтобы ночью или днем несколько часов подряд не гремели ужасные пушечные залпы, стоял грохот, летели осколки. Вначале мы мчались в убежища гораздо быстрее, чем потом. В первый раз я забыл взять детей, и обоих захватила Мария. Добравшись благополучно до пещеры, она упала в обморок. Л две или три недели спустя она как-то утром бежала в пещеру под градом снарядов, и одна большая граната разорвалась подле нее и всю ее засыпало пылью, и осколком сорвало у нее с затылка накладку из фальшивых волос. Представьте себе, она остановилась, подняла накладку – и потом только побежала дальше! Стала привыкать, понимаете ли. Мы все уже хорошо разбирались в снарядах; и если их не слишком много сыпалось, мы не всегда и прятались. Мы, мужчины, стояли и разговаривали; кто-нибудь скажет :«Вот летит…» – и назовет снаряд, – мы по звуку их узнавали, и продолжает разговор, если опасности нет. Если граната разорвется где-то близко – мы замолчим и стоим как вкопанные; неприятно, конечно, – но двигаться опасно. А пролетит – и мы снова продолжаем разговор, если никто не пострадал; иной раз только скажем: «Здорово треснуло» – или что-нибудь в этом роде, – и ведем прежний разговор; а не то заметим, что снаряд летит над нами высоко в воздухе. Тут уже всякий крикнет: «До свиданья, джентльмены!» – и бежать! Сколько раз я видел, как дамы целыми компаниями прогуливались но улицам с самым веселым видом, краешком глаза следя за снарядами; и я замечал, что они останавливаются, когда не могут решить, что будет со снарядом, и ждут, пока это выяснится, а потом идут дальше или же бегут прятаться – смотря по тому, что выяснилось. В некоторых городах улицы засорены обрывками бумаги и всяким мусором. В нашем этого не было – мусор был железный. Случалось, кто-нибудь соберет вокруг своего дома все эти железные обломки и неразорвавшиеся бомбы и сложит из них у себя в палисаднике нечто вроде памятника; иногда набиралась целая тонна. Не осталось ни одного стекла; стекла не могли выдержать такой бомбардировки – все разлетались. Пустые окна в домах – вроде глазниц в черепе. Целые стекла в окнах были так же редки, как новости.
Но воскресеньям в церкви шла служба. Сначала туда ходило немного народу, но скоро порядком прибавилось. Я видел, как служба вдруг прекращалась на минуту и все замирали, – не слышно было человеческого голоса, словно на похоронах, да и то больше потому, что над головой стоял страшный гул и треск, – а потом, как только снова можно было услышать человеческий голос, служба продолжалась. То звуки органа, то звуки бомбардировки, – странное сочетание, особенно вначале. Как-то утром, когда мы выходили из церкви, произошел несчастный случай – единственный на моей памяти в воскресенье. Я крепко пожал руку приятелю, которого давно не встречал, и только что начал: «Загляни к нам в пещеру вечерком, после обстрела. Мы достали пинту превосходного ви…» «Виски», хотел я сказать, понимаете, но граната не дала мне докончить. Ее осколком оторвало руку моему приятелю, и эта рука осталась в моей руке, И знаете, одного, мне кажется, дольше всего не забыть, оно заслонит в моей памяти все остальное, и крупное и мелкое: не забуду, какая подлая мысль мелькнула у меня в голове. Я подумал: «Вот виски и уцелеет». А между тем, поверьте, это отчасти и простительно: виски тогда было такой же редкостью, как брильянты, и у нас была только эта малость, больше мы за все время осады не пробовали.
Пещеры бывали иногда битком набиты народом, в них было жарко и душно. Иногда в пещере собиралось человек двадцать – двадцать пять, нельзя было повернуться, и воздух бывал такой спертый, что свеча гасла. В одной из таких пещер как-то ночью родился ребенок. Вы только подумайте! Это все равно что родиться в сундуке.
У нас в пещере два раза скапливалось по шестнадцати человек, а много раз – но двенадцати. Было порядком душно. Восемь нас бывало там всегда: эти восемь человек были постоянными жителями пещеры. Голод, нужда, болезни, страх, горе и все что хотите так придавило их, что после осады никто из них уже не остался прежним. Все, кроме троих, умерли в течение двух-трех лет. Однажды ночью граната разорвалась перед пещерой, обвалила ее и засыпала. Ну и намучились мы, пока откопали выход. Некоторые чуть не задохлись. После этого мы сделали два выхода, – о чем следовало подумать раньше.
Мясо мулов? Нет, мы дошли до этого только в последние дни. Ну конечно оно было вкусно: все покажется вкусным, когда умираешь с голоду».







