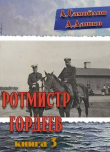Текст книги "Изгнание"
Автор книги: Марк Еленин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Есть так мно-ого жизней достойных.
Но одна-а лишь досто-ойна смерть.
Лишь под пулями в рвах споко-ойных
Ве-еришь в знамя господне, тве-ерд!..
Андрей сидел один за столиком. За мутным окном серело и дымилось позднее зимнее утро. А ведь когда он уходил с корабля, едва начинало темнеть. Что же произошло с ним вечером, ночью? Где он был, что делал?..
Андрей поднял голову, посмотрел вокруг тяжелым, помутневшим взглядом. В зале было довольно много военных, и это удивило его – ведь все они должны были быть на судах. Но в большинстве зал заполняла хорошо одетая публика – меховые манто, шляпы с перьями, бобровые воротники, палки с набалдашниками из слоновой кости, шелка, ослепительные декольте.
Андрей сидел почему-то один, хотя все места вокруг были заняты. «Наверное, буянил», – мелькнула мысль. «Вместо того, чтобы застрелиться». И в этот момент в дальнем углу зала, будто специально, раздался короткий хлопок выстрела. Дико завизжала женщина, вскочив на стул. Шарахнулись люди, опрокидывая стулья и столики. Андрей инстинктивно кинул руку на правое бедро, но револьвера в кобуре не было. Не было и портмоне с небольшой суммой денег. И перстня, подаренного дедом в день окончания училища. «Напился, подлец, до бесчувствия, ободрали, как липку». И сразу он вспомнил о чемодане, оставленном в гостинице. Гостиница находилась рядом – рукой подать! – но Андрей, терзаемый сомнениями, не сразу заставил себя встать и пойти туда: чемодан представлялся ему то совершенно ненужным, то весьма необходимым – если он все же решит не стреляться, а уехать, ибо там были самые нужные вещи и все то немногое, что напоминало ему о прежней жизни...
Свежий, прохладный воздух немного отрезвил его. Зябко поеживаясь и убыстряя шаги, Андрей без сожаления думал о том, что и шинель свою он оставил где-то. Хорошо, в номере у него запасная, почти новая. А если и ее украли? «Тогда стреляться. Ничего не остается, – подумал он. – Не уезжать же без шинели». На незастегнутом френче звенели кресты...
Маленькая третьеразрядная гостиница, где Андрей несколько дней назад остановился благодаря печальной славе имени генерала Слащева, недавно переполненная народом, гудевшая, как потревоженный улей, поразила его необычайной тишиной. На первом этаже, где размещались портье, чахленький ресторанчик и кофейня, царил разгром – точно внезапно ворвались сюда дикие звери, желающие переломать и переколотить наскоро все, что подвернется под руку. Несколько убитых, мужчин и женщин, было стащено к лестнице и наспех покрыто ковровой дорожкой. Метрдотель, с залитым кровью накрахмаленным пластроном, сидел в кресле, виновато-испуганная улыбка навеки закостенела на его восковом лице. Валялись распоротые кожаные чемоданы, белье, шубы, какие-то бумаги и тысячи никому не нужных врангелевок.
Андрей с благоприобретенной осторожностью солдата начал подниматься на второй этаж. На площадке лежала женщина. Ее юбки были задраны на голову, полные бедра нагло светились белым холодным свечением, а между коленями – штыком в пол – воткнута винтовка. Ясно, гостиница стала легкой добычей какой-то банды.
У Андрея похолодело сердце. Он заглянул в свой номер. Номер оказался, как он и предполагал, пустым. Через разбитое окно порывами задувал ветер, отбрасывал занавеску, гонял по полу сор. Андрей заглянул под кровать – там лежал прежде его чемодан и портплед, – но и их, конечно, не было, украли, сволочи. Он выпрямился и чуть не упал, поскользнувшись на зловонной куче, прикрытой разбросанными повсюду фотографиями его, князя Белопольского, семейства, что он все годы войны таскал за собой... Сжав зубы, Андрей вытер сапоги занавеской, плюнул от омерзения и вышел в коридор.
Вокруг царила настораживающая тишина. Он двинулся коридором, резко распахивая ногой двери в номера – одну за другой, не отдавая себе отчета в том, что делает, что еще хочет увидеть в гостинице. В последнем по этажу большом угловом номере он заметил женщину, сидящую вполоборота к окну и спокойно взирающую на море. Профиль женщины, породистый, аристократический, показался Андрею прекрасным, возраст – неопределенным, от тридцати до пятидесяти. И лишь приблизившись, Андрей понял, что перед ним старуха. Она медленно повернулась всем корпусом в его сторону, спросила равнодушно:
– Что вам, капитан? – Взгляд ее голубых, почти бесцветных глаз был печален и беззащитен. – Если пришли грабить, вы опоздали, compris?
– Нет, нет, ради бога, – воскликнул Андрей. – Успокойтесь, madame, пожалуйста, я умоляю вас! Но что здесь произошло?
– Все погибли.
– Кто?
– Казаки. Я хочу умереть! Убейте меня, капитан! Зачем жить мне, старухе? – Она беззвучно зарыдала.
Андрей стоял как потерянный, во власти внезапно охватившего его чувства жалости и восхищения старухой, сострадания к ее горю и ее желанию уйти из жизни.
– Разрешите представиться, madame? – спросил он, снимая фуражку и тщетно стараясь проглотить ком, застрявший в горле, – Белопольский, Андрей Николаевич.
– Кульчицкая, Мария Федоровна. Жена... Нет, вдова, – поправилась она. – Вдова генерал-лейтенанта Кульчицкого, мир его праху. А вы из петербургских Белопольских, капитан?
– Так точно, madame.
– Знавала я одного Белопольского – Вадима Николаевича. Достойный человек и генерал.
– Это дед мой, madame.
– Рада... Андрей Николаевич, – сказала старуха. – Вижу, кресты. Достойно воевал... Вот и познакомились, значит. Не приведи господь пожелать знакомство в такое время и врагам. А твои где все? Простите, обмолвилась.
– Пожалуйста, madame!.. Вы... похожи на мою бабушку. Простите.
– Все мы похожи друг на друга, старые офицерши. Все в казармах да в казармах – не во дворцах, не на паркетах... И вот финал. Мой-то Антон Петрович не на поле брани голову сложил – un salaud[14] в него пулей выстрелил.
– И я своих всех растерял. – Голос выдал его тоску и растерянность. – А у вас остался хоть кто-нибудь?
– Сама не знаю, дружок. Сын был – умер от тифа в Новороссийске. А семья его, жена да две девочки, уехала. Не то в Турцию, не то в Грецию. А ты, Андрей Николаевич? Уезжаешь?
– Не знаю. – Андрей точно очнулся: все, что происходило с ним здесь, было невыносимо ему, всегда далекому от человеческих проблем, радостей, горестей.
– То-то, не знаешь, – наставительно сказала старуха. – Думаешь, просто с родной землей расставаться?! Чужие страны, и ты повсюду чужой, на каждом шагу ощущать станешь. А сколько так? Всю жизнь! Моя-то свечка коптит и гаснет, твоей стоять.
Андрей понял, о какой «свечке» говорит старуха. Вся муть прошедших двух дней выплеснулась откуда-то, злость захватила его. Он усмехнулся:
– Что ж вы, madame, с большевичками рекомендуете побрататься? Для меня у них суд короток: пострелял я их достаточно.
– Как я могу тебе советовать, голубчик! Я и себе ничего присоветовать не могу. Сколько часов просидела тут... Был бы револьвер, легла бы рядом с мужем – и все сомнения.
– И я! – вырвалось у Андрея. – Не хочу ничего! Свои своих стреляют, друзья изменяют, начальники предают. Разве осталось в этом мире святое?
– Бог! – просто сказала генеральша Кульчицкая. – Бог всегда с нами. Он осуждает тех, кто помыслит руки на себя накладывать. Он видит! И получается, mon ange! – быть нам вместе. Может, поможем друг другу по пути– то на Голгофу. Вот. Что скажешь, Андрей Николаевич?
– C’esl trop lard, madame!..[15] Корабли погружены.
– А и не угадал! Есть у меня два пропуска, мой и мужнин, – всего и осталось от нажитого! – на корабль, что «Днепр» называется. Да ты сам себя определи. Захочешь старухе помочь – как недавно уговаривал! – сообща в путешествие направимся. А нет – и мне тут, видно, умирать. Одна не стронусь, не смогу. Да и не хочу, если правду сказать...
...Тяжко, с надрывом стучала корабельная машина. Большой транспорт «Надежда», который позднее других задержался на севастопольском рейде из-за неисправности машины, в одиночку пересекал Черное море. Транспорт был старый, расхлябанный, с черными, прокопченными трубами и облупившейся краской по бортам и надстройкам. Древний, перегруженный, покосившийся на правый борт, он казался инвалидом, у которого правая нога была короче левой.
Вонючий трюм, как огромный сарай, пол и стены которого были липкими от сулемы, был переполнен гражданскими и военными, ранеными и больными. Проходы между рядами минимальные – только ногу поставить. «Плавучая Россия», – образно сказал про это скопище людей кто-то. И, как всегда, как в любых условиях, эта «Россия» философствовала, дискутировала, утверждала и ниспровергала – несмотря на скученность, отсутствие продуктов, ограничение пресной воды, антисанитарию и морскую болезнь. Кружки спорящих то и дело возникали по всему трюму. Страсти кипели. Споры кончались скандалами, взаимными оскорблениями и потасовками, к которым все уже привыкли.
Кормовой трюм, поменьше, тоже был заполнен беженцами. Иногда оттуда приходили поискать знакомых, расспросить о родственниках, посоветоваться. Там «жили» еще тесней, имелись тифозные. На верхней палубе мерзли кадеты. На носу – казаки из неведомого конвоя. И только в немногочисленных каютах и пассажирском салоне не испытывало неудобств высшее начальство. Незыблемыми, точно царский трон, казались малиновые диваны, холодным хрустальным светом отливали туго крахмальные скатерти на столах. Расторопные вестовые споро приносили еду и вино, забирали грязную посуду. Вечером пожилые генералы и сенатор, похожий на мумифицированный труп, собирались здесь за преферансом, лениво шлепали картами, заказывая игру с явным занижением. Кто были эти люди, которые ехали в пристойных каютах и собирались в салоне, которые ели и пили, когда им захочется? Ведь внизу на повлажневших, худых соломенных матрацах, а то и на собственном пальто или шинели отправлялись в путешествие те, кто ни чинами, ни дворянским своим происхождением, ни богатством не отличались от тех счастливцев, что по воле судьбы или каких-то там неведомых сил оказались в полном смысле на верху жизненной лестницы. Тема эта была в трюмах предметом самых жестоких споров. Многие вчерашние властители жизни начинали ощущать уже свою неполноценность. На корабле, в море действовали ныне никому не ведомые законы. Они рождали всеобщую ярость. Она заглушала даже политические разговоры и мечты о будущем, гасила острую взаимную неприязнь...
– Пять лет войны и напряжения всех сил народа вызвали законную реакцию, – витийствовал рыжеватый господин с буйной растительностью – шевелюрой, усами и подусниками, бакенбардами, – в клетчатом пальто и закопченной рубашке с оторванным воротничком. – Люди хотели отдыхать: одеваться, есть, пить, блудить, забыв о всяких ограничениях. Это обещала им революция – пусть грядет революция! Русский охоч до новшеств, которые ему всегда привозят из-за границы!
– Позвольте, милостивый государь, – тут же вступил в разговор его оппонент, сухонький старичок с грозными глазами и большим мясистым носом в склеротических прожилках. – Наша революция-с – чисто русское изобретение: размах да кровища, огонь да топоры – разинщина, пугачевщина! В других странах и в миниатюре не повторяется то, что у нас.
– Но и союзнические правительства, представляющие правящие классы, чувствуют себя точно на вулкане... Благодаря этому и к большевикам они относятся с нескрываемой симпатией! – немедля откликнулся незаметный человек с серым, стертым, незапоминающимся лицом. – Не в такой атмосфере думать им о водворении порядка в России. Заставить их войска сражаться за нас выше сил любого правительства.
– Войска призваны выполнять приказы. И только! – твердо взял разговор на себя высокий седоватый блондин с военной выправкой, сопровождая свои слова энергичным, рубящим взмахом руки. – Это вы, господа стрюцкие, внесли в нашу армию дух советов и митингов.
– Позвольте... – начал серый человечек, но блондин строго остановил его, и тот замолчал.
– Вы, господа шпаки, штафирки, стрюцкие, развалили нашу армию. Я утверждаю! А несогласным могу доказать это при помощи оружия – любого, всегда, на любых условиях. Хоть сейчас.
– Вы, вероятно, из Петербурга? – спросил его лежавший рядом подполковник с перевязанной головой.
– Да. А в чем дело, собственно?
– В том, что в гибели русской армии столь же виноваты и «петербургские снетки»[16].
– Почему? Позвольте вас спросить.
– Плохо проявляли себя на фронте. Любили частенько подтягивать голенища в атаке – каждой пуле кланялись!
– Вы оскорбляете меня! И я требую!.. – наливался кровью блондин.
– Требуйте сатисфакции у господина Врангеля.
– Вы – трус!
– А-аа!.. Идите-ка вы к дьяволу, пидер. – Подполковник улегся на матрац, всем своим видом показывая, что разговор закончен.
– Хаспада, хаспада! – примирительно пророкотал старый генерал-майор – человек, полный оптимизма, выглядевший моложе своих лет, с крашеными тараканьими усами и вытаращенными, мутными от дурости и пьянства глазами. – Шпаги в ножны, хаспада! Нас губит философия, все мы заболтались. Надо проще жить, хаспада!
– Как же это, генерал? – с издевкой спросил рыжеватый. – Просим прояснить мысль.
– А что прояснять?! Я воюю за веру, царя и отечество. Так? Царя нет. Значит, за веру и отечество. Отечества нет? За веру. За веру пойду вперед хоть за анархизм, хоть за монархизм.
– Ну, объяснили! Как не стыдно! – раздались голоса. – Позор! Беспринципность! А еще михайловский академик, генштабист!
– Вы не поняли, хаспада! – повысил бас генерал. – Я в смысле, что против жидов готов бороться. Жидов бить надо: в них самая главная опасность России.
– «Тили-бом, тили-бом! Повстречался я с жидком!» Ну, наконец-то нашли тему.
Поодаль – иной разговор, иная тема. Бывший банковский деятель рассказывает с полной достоверностью о том, сколько и когда получали денег великие князья и сам государь. Завязывается спор о точности названных сумм. Спорят монархисты. Начинают, в сущности, с второстепенных вопросов, но тут же размежевываются и бьются зло. Припоминают друг другу каждый промах своих партий, начиная еще с тех февральских дней, с тех часов и минут, когда великий князь Кирилл Владимирович, построив вверенный ему гвардейский морской экипаж, приказал прицепить всем красные банты и повел морячков присягать Думе.
Андрей Белопольский не вступал в разговоры, не знал и словно не видел тех, кто находится рядом с ним. Сильный электрический фонарь в круглом зарешеченном колпаке нестерпимо ярко раскалился под потолком. Его непрерывное белое сияние резко освещало все уголки трюма, радужными кругами пробивало плотно сжатые веки. Часами лежал Андрей на спине, безучастный к окружающему. Голову не отпускало. Плафон светил нестерпимо и был как нескончаемая пытка...
Как странно получилось все в жизни Андрея. Растеряв родных, к которым он, кстати, никогда не испитывал нежных родственных чувств, Андрей ощутил подлинно сыновнее чувство к незнакомой женщине, у него появилось стремление оберегать ее, старую и беспомощную. В то же время – он хорошо понимал это – Мария Федоровна Кульчицкая, обладавшая громадным житейским опытом, не растерявшаяся перед грозными событиями, сохранившая силу духа, становилась для него необходимым наставником и поводырем, без которого в его положении и состоянии действительно оставалось лишь одно – стреляться. Андрею нравились их отношения, сложившиеся с момента встречи. За два последних дня и за несколько часов посадки он увидел столько человеческой подлости, низости и коварства, что их взаимная бескорыстная поддержка казалась ему чуть ли не чудом, посланным небом за то, что не испытал он ни в детстве, ни в юности сыновних чувств и не было у него матери.
...Пропуска на транспорт «Днепр» оказались лишними: погрузка была закончена, и корабль стоял на рейде, лениво попыхивая копотным дымком из обеих труб, словно в насмешку над тысячами оставленных, что по-прежнему теснились у причалов, толкались на набережной, брали штурмом катера и кидались в шлюпки, чтобы добраться до кораблей и умолить взять их на борт.
Белопольский кинулся в канцелярию Морского штаба. Белобрысый мичман с кокетливой золотой серьгой в ухе, стальными глазами и светлой бородкой поспешил отделаться от него, направив к адмиралу Ермакову на крейсер «Корнилов», ибо только адмирал мог выправить Андрею пропуска. Мичман советовал, ничем не рискуя. Он знал, что на «Корнилов» попасть невозможно – это во-первых; во-вторых, Ермаков все равно ничего не сделает: мест нет, с трудом посажено на суда восемьсот генералов (служащих и отставных), сенаторов бросают, а уж каким-то капитаном с вдовой вообще заниматься никто не станет.
А Андрей сделал, казалось, невозможное. Он занял место в катере, идущем к крейсеру, и, более того, сумел подняться на борт «Корнилова». Капитан Калентьев, с которым он начинал «ледяной поход» рядовым в Корниловском ударном полку, встретив его случайно на палубе возле трапа, посчитал долгом своим оказать протекцию однополчанину. Глеб Калентьев не изменился совершенно. Он оставался добрым малым, был, как всегда, красив, безукоризненно одет и отменно выбрит, от него невозможно пахло сладкими французскими духами. Удивительно, как он умел всегда, во всех, даже самых трудных, обстоятельствах оставаться истинным гвардейским офицером. Калентьев, прикомандированный к какому-то из высших чинов штаба (он принялся было рассказывать, к кому именно и каким образом, но Андрей прервал его, объяснив свое положение), помог Белопольскому пробиться к адмиралу Ермакову и отдал ему свой новенький бельгийский браунинг и шинель, успокоив Андрея тем, что через десять минут он без сомнения достанет себе другую.
Адмирал Ермаков – похоже, не совсем уже трезвый, – выслушав Андрея вполуха, согласился просьбу удовлетворить и начертал сие на пропуске: «Погрузить!»
Обнявшись напоследок с Калентьевым и идя к трапу, Андрей непроизвольно обернулся, почувствовав затылком чей-то тяжелый взгляд. С вышины капитанской рубки на него смотрел главнокомандующий. Врангель был суров и величествен, как в дни своих наиболее шумных побед. Голова со скошенным затылком горделиво задрана, шея вытянута и кажется невозможно длинной, волчьи глаза неподвижны, взгляд недоверчив. Когда так глядят, у человека появляется нестерпимое желание оправдываться. Врангель стоял в своей излюбленной позе памятника – вытянувшись и застыв. Одна рука на рукоятке кинжала, другая на боку. Он смотрел, казалось, на одного Белопольского. Андрей подавил привычное желание откозырять и направился к трапу. «Кто он мне теперь? – мелькнула мысль. – Командир? Командир несуществующей армии? «Пипер», гвардейский любимчик. Не столько генерал, сколько удачливый политик. Что ему Россия с ее судьбой? Не успеешь оглянуться – окажется в своей Германии – остзеец, каналья, довел армию до полного разгрома и стоит, будто ничего не случилось...»
Зазевавшись, Андрей едва не пропустил отходящий катер – пришлось прыгать. Он не устоял на ногах и повалился на какого-то поручика. Тот сделал было замечание, но Андрей так выругался, что тот поспешно перешел на корму. Андрей пришел в ярость...
Знакомый белобрысый мичман из Морского штаба, пряча стальные глаза, безразлично и не торопясь повертел пропуска в больших руках с плоскими обкусанными ногтями и заметил, что в настоящий момент и резолюции адмирала являются недействительными, и даже сам Врангель – захоти он! – ничем не смог бы помочь: эвакуация закончена, все транспорты переполнены. Проклиная себя, Андрей унизился до просьбы. Покраснев от отвращения, он забормотал какие-то жалкие слова. Мичман, наслаждаясь его унижением (Андрей ему сразу не понравился: из фронтовиков-головорезов, считающих, что им все позволено, – так определил мичман), твердил прежнее как-то не очень уверенно, как бы намекая на свою власть и иное решение вопроса.
– Я бы заплатил, кому следует, – сказал Андрей, теряя голос от бешенства. – Но у меня нет ничего.
– Это излишне, господин капитан, – наставительно произнес мичман. – Здесь не лавочка, а присутственное место. И я не позволю....
Чего он не хотел позволить, так и осталось невыясненным, ибо в этот момент в кабинете появился вестовой матрос, который, нисколько не озаботясь присутствием постороннего человека и не замечая знаков, доложил: погрузка заканчивается и имущество господина мичмана доставлено на «Надежду».
Андрей посмотрел на мичмана в упор, и тот понял, что они поменялись ролями. Ненависть душила Андрея, туманила разум. Такое случалось у него во время атак – ненависть требовала выхода. Он должен был начать стрелять, колоть штыком, душить, рвать зубами – должен был начать убивать. Лицо его почернело, рот затвердел. Глаза полезли из орбит. Андрей выхватил браунинг. И выстрелил. Пуля, пробив на мичмане фуражку, ударилась в стену и срикошетила. Мичман не успел даже испугаться. Вскочив из-за стола, он глядел беззащитно, понимая, что этот сумасшедший не даст ему ни вытащить оружие, ни позвать кого-либо на помощь. Однако второго выстрела не последовало.
– Ты что?.. Издеваться? – сказал Андрей. – Надо мной! Ты?.. Крыса морская! Рында! Молчать, сало! – Голос возвращался к нему вместе с трезвостью мыслей. – Я тебя, как вошь... твою мать, понял?
Мичман молчал. Видимо, оказался из робкого десятка: понимал, что его противник («Хотя, какой он противник? Свой, в нашей форме, белый офицер») не задумываясь выстрелит и во второй раз.
– Сесть! – приказал Андрей. – Руки на стол! Сейчас мы пойдем на «Надежду». И ты проведешь меня на борт. А если не захочешь или схитришь – вторая пуля твоя. Мне терять нечего. Ясно? Все ясно, надеюсь?
– Вполне, – усмехнулся мичман. – А вы согласны ехать на верхней палубе, господин капитан? Все каюты действительно заняты, и я думаю, вам не удастся на военном транспорте то, что удалось...
– Ладно! Хватит болтать, сволочь! Это не твоя забота. – Андрей успокоился. – Но помни, я предупредил.
Все это немного отдавало козьмакрючковщиной, и Белопольский, идущий об руку с мичманом в гостиницу, чтобы забрать Марию Федоровну, морщился от стыда и досады: считал недостойным прибегать к подобным приемам. Впрочем, и белобрысый мичман смирился, видно, со своей ролью и даже пытался подшучивать над собой и Белопольским, которого, по его словам, стал уважать за выстрел в кабинете.
Заставив мичмана нести два весьма вместительных чемодана Кульчицкой (труднее будет ему удрать скотине!), которая оказалась обладательницей имущества, непонятно как и уцелевшего во время погрома, Андрей шел чуть позади, поддерживая Марию Федоровну левой, еще стесненной в движениях после ранения рукой и сжимая в кармане браунинг правой. Так они добрались до порта, а затем, прокладывая путь в густой толпе, и до причала, где стоял под погрузкой транспорт «Надежда».
Начал накрапывать дождь. Уныло мокли отчаявшиеся люди, понуро и озлобленно – солдаты оцепления. Временами раздавались в толпе умоляющие голоса:
– Раненых, раненых-то хоть возьмите. Не одну кровь проливали? Здесь больные, дети! Возьмите, Христа ради!.. Пустите! Пусти, говорю! – возникал вдруг яростный водоворот где-то в глубине толпы, и точно волна катилась из края в край: – Меня сам Кутепов! Не пустишь? Меня, штабс-капитана, цукаешь?! Застре-лю! Боевого офицера, фронтовика?! Ты-ыы!.. Назад! В рыло ему! Сука! – Усиливались, дрожали возмущением голоса. – Что, лучше всех?! Осади!.. Ради бога, капитан! Тут дамы!.. Ах, сволочь какая!.. Пустите, пустите! Пустите меня!.. А! Куда? Стой!.. Да врежьте ему, наконец! Дайте я!.. Я тебя научу, ско-от!
И снова тихие, просительные голоса:
– ... Не толкайтесь, ради всего святого... Мама... Санитара!.. Сестра, сестрица! Мочи не-ту... Не мо-гу... Умираю. Не напирайте, Христос с вами! Тише, есть у вас жалость – человеку худо... Всем, мадам, не лучше... Терпите, бог велел. Не всем, видно, велел, нам только.
Отдельным небольшим островком в толпе – серые шинели:
– И энтот корапь юнкеря опять захватили. Мать их всех за ногу! Зачем от Расеи бегим? Зачем стараимся?.. Приказ был дан... Приказ? Мало их, приказов, тебе давали? Пускай добровольчики бегуть! Хуже, чем было, не будет... А чего красные, не люди? Разберутся, чай. Война-то, считай, кончилась...
Тонким ручейком текут последние счастливцы, карабкающиеся по шатким и хлипким мосткам. С другого берега на «Надежду» перегружали уголь (поэтому и задержались с отходом – портовые грузчики разбегались, пришлось мобилизовывать матросов и солдат). Уголь носили в больших корзинах, неумело и медленно. Уголь просыпался, жидкая черная грязь ползла по верхней палубе, стекала вниз по трапам и через шел и, проникала всюду. Откуда-то, видимо из пассажирского салона, доносилась граммофонная музыка и нестройные пьяные голоса. Андрей подумал о находящихся там со злостью: залезли, скоты, в тепло, на остальных им наплевать.
В момент, когда Белопольский, Мария Федоровна и мичман подходили к транспорту, через оцепление прорвалась большая группа казаков. Они были возбуждены, пьяны. Многие размахивали обнаженными шашками, орали: «Долой с парохода Ваньков! В нагайки их! Кидай за борт! В нагайки гнид!»
Оцепление смешалось. Фельдфебель с помощью унтер-офицера, развернув пулемет, упал было рядом, сцепив рукоятки, но его с хеканьсм рубанул по плечу чубатый казачок, и усатая голова покатилась, как кочан капусты, к воде. Казаки, подбадривая себя криком, пробивались к кораблю. Высокий прапорщик в короткой, выше колен, шинели, отступая к трапу, размахивал револьвером, кричал: «Стойте, братцы! Осади! Стойте, Христом-богом прошу! Стрелять буду!» Другой, маленький и толстый, в волочащейся по земле шинели (Андрей боковым зрением отметил это и даже не удивился себе: момент был просто критический, ибо за казаками, подпирая их, вплотную двигалась уже вся толпа), орал срывающимся голосом кому-то на борт: «Ваше благородие! Ваше!.. Прикажите роту! Роту, ваше благородие! В цепь!»
– Казаки... Звери, – прошептала Мария Федоровна, и Андрей почувствовал, как потяжелело ее дотоле невесомое тело. – Это они... они...
– Мама-аша! – рявкнул какой-то бородатый и рассмеялся, разверзя огромный, полный белых клыков рот. Андрей, не раздумывая, выстрелил. Он должен был убить сегодня кого-то. Казак осел и рухнул толпе под ноги. На миг воцарилась напряженная тишина, которая взорвалась диким ревом, руганью, свистом.
– Андрей! – вскрикнула Мария Федоровна.
Белопольский, чуть повернувшись и оскалившись, увидел занесенную шашку. Он отскочил и вновь выстрелил.
Казаки дрогнули. И толпа остановилась. А по трапам уже сбегали вооруженные солдаты. С борта, возвышающегося над пристанью, ударил поверх голов пулемет. «Ма-ать честная!» – крикнул кто-то, будто удивившись. Бравые казачки смешались, стали исчезать поодиночке... «Назад! Назад! Прикладами их!» – кричал высокий прапорщик в короткой шинели. Толпа отступила. Офицеры вновь принялись выстраивать оцепление.
– А вы молодец, капитан! – сказал уважительно мичман. – Хорошо поработали.
Мичман провел их на «Надежду». Пошел узнать о каюте или койке в каюте для генеральши и исчез. Спрятался, сбежал, как сквозь землю провалился. А может, и на другом транспорте решил эвакуироваться. Прождав мичмана с полчаса под дождем, боясь остаться без крыши над головой, потерять место и в трюме, Андрей повел Марию Федоровну вниз.
Для нее этот спуск поистине был страшнее всех кругов Дантова ада. Верхний трюм был забит. Им пришлось спускаться к днищу корабля по наклонным лестницам. Железные трапы с железными поручнями, перепачканные угольной жижей, казались генеральше непреодолимым препятствием. Впереди и сзади двигались в темноте люди. Андрей нес чемоданы, связав их ремнем и повесив через плечо. Все торопились, старались обогнать друг друга. Это создавало бесцельную толкотню. Было душно, жарко. Андрей обливался потом. Левую руку ломило. Правой рукой он поддерживал Марию Федоровну. Город внутри «Надежды» казался нескончаемым – улицы, переулки, тупички. И все вниз, вниз.
По последним, почти отвесным трапам Андрей переносил Марию Федоровну на руках: старуха совсем обессилела, ей отказывали ноги, кружилась голова. Андрей понимал – до конца путешествия они ни за что не поднимутся на палубу. По мере того как они спускались, становилось все темнее. В трюм слабый серый свет проникал лишь через люк, служивший входом, из которого вновь и вновь появлялись черные фигуры людей. Спустившись, они остановились, не зная, куда ступить, давая глазам освоиться с темнотой. Андрей замешкался: вокруг сидели и лежали люди, сверху спускались новые. Когда его глаза освоились, он заметил поодаль, у борта, несколько незанятых еще матрацев и направился туда.
– Едущий на смерть приветствует вас, – грубовато встретил его сосед справа. – Располагайтесь, как дома. Вы – на «Надежде», которая, как известно, юношей питает, отраду старцам подает.
Андрей не ответил. Надо было срочно устраивать Марию Федоровну: генеральша, чтобы не потереть сознание, поминутно вытаскивала какой-то пузырек и подносила его к носу. Матрацы оказались старыми, истонченными и влажными – то ли под дождь попали, то ли на дне трюма была вода. Андрей подстелил Марии Федоровне шинель, накрыл ее кое-чем из вещей, но старуха никак не могла согреться, ее знобило.
Трюм быстро заполнялся. Вернее – переполнялся. Матрацев не хватало, люди переругивались. Тут и там, в разных концах, загорались и мерцали слюдяно-желтые светлячки коптилок и самодельных, быстро оплывающих свечек. Неподалеку от Белопольского группа офицеров, севших за карты, зажгла керосиновый фонарь – он светил, как маяк. Кричал в забытьи тифозный. Андрей лег на матрац – лицо пылало от духоты, а бок холодила трюмная сырость – и, подумав о сложности своего положения и превратностях судьбы, задремал...
Когда он очнулся, «Надежда» была уже в море. Натужно работали машины, рядом, за переборками, глухо шлепала вода. В потолке, как глаз циклопа, ярко и холодно горел белый плафон. Количество людей в трюме поразило Белопольского – их было невообразимо много. Иные сидели, потому что не имели места вытянуть ноги; иные лежали на матрацах по двое, а то и по трое, некоторые сидели на вещах. И только узенькая тропка, свободная от беженцев, вела к наклонной металлической лестнице.
Марии Федоровне стало совсем плохо, лицо горело, на лбу выступила испарина. Андрей удивился ее стойкости и терпению: не разбудила, не позвала. И вдруг почувствовал прилив благодарности к ней. Что-то происходило с ним. Его по-настоящему тревожила судьба, жизнь и смерть незнакомого, в сущности, человека.
– Господа, – обратился он к окружающим. – Нет ли среди вас врача?
Подошел испуганный человек неопределенного возраста – типичный уездный врач. Присел на край матраца, взял запястье вялой руки Марии Федоровны.