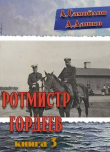Текст книги "Изгнание"
Автор книги: Марк Еленин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
– Брусилов, говорили, будто к большевикам подался? – перебивал, словно невзначай, с настороженным любопытством Ананий.
А Белопольский, застигнутый врасплох, действительно терялся, хмыкал, не находил быстрого ответа.
– Обстоятельств, приведших генерала Брусилова к большевикам, не знаю, – после паузы суетливо говорил он. – Не суди и не судим будешь. Однако всегда знал и почитал его как истинно русского человека и патриота.
– Таким и Врангель себя повсюду объявляет, – обстоятельно возражал Кузовлев. – Русский патриот... И тут патриоты, и там, видишь, патриоты. А так себя доказывают друг перед дружкой – патриоты! – моря русской крови льются.
– Программы у них не имелось.
– Программ – не знаю, а народу все одно они давали: «Боже, царя храни». Мужику – плети вместо земли, другим – кукиш вместо свободы.
– Но ведь «Боже, царя храни» Русь создало? И цари у нас разные бывали: Иван Грозный, Петр Великий, Николай Первый, Александр Первый, например.
– Не знаю я про царей, которые померли, – убежденно сказал Кузовлев. – Образования нет, не много меня и учили. Но слыхал на фронте от одного вольноопределяющегося – из студентов, знающий, – что цари наши русские вроде и вовсе не русские, а немцы. Тогда чего от них требовать? Нечего! Они интересы своей нации перво-наперво блюли.
Белопольский стал рассказывать про русских царей, про браки, заключаемые во имя большой политики между царственными домами Европы. Дошел и до Николая Второго.
– Про этого я знаю, – сказал Кузовлсв. – Немец, и жена немка.
– Ну, Кузовлев... Давай, брат, этого не касаться. Не немец он вовсе, хоть и русского в нем маловато, если быть справедливым. Политика и браки кровь всех европейских монархов так перемешали – не разберешь, кто есть кто. Да и зачем? Теперь и незачем. Ни нашего, ни германского царя нет. Судьба такая.
– Не скажите, что судьба, Вадим Николаевич. У всех людей – ну, у общества! – терпение вышло. Все крайности переполнены оказались.
Так они разговаривали, доверительно и неторопливо, с чувством уважения друг к другу, – генерал и солдат, – пока не вернулся Николай Вадимович. Он был возбужден, щеки его горели. Рукав бекеши порван.
– Можете меня поздравить! – заговорил он по-французски. – Я все же достал пропуск на крейсер «Вальдек-Руссо». Благодаря любезности французских властей, разумеется! Мы отправляемся! А все эти врангели, скалоны, кутеповы, как я и утверждал всегда, – дерьмо! Они прежде всего о себе и о награбленном позаботились. Отравляют целыми кораблями. Ужас, что творится в городе!
– Зачем ты так, в таком тоне? Фу, Николай!
– У меня нет времени подбирать выражения, отец. И если мы опоздаем, наши два места с удовольствием займут другие – желающих полно!
– Но почему два места? Нас же трое.
– Вы имеете в виду солдата? Я не брал на себя обязательств по его эвакуации, отец.
– Но он помог нам. Он – хороший человек.
– Да его и не пустят на французский крейсер, отец!
– Скажем, мой денщик.
– У нас два места. Два!
– Он спас меня, Николай!
– Что же, мне теперь о нем всю жизнь заботиться?
– Я понимаю, ты устал, раздражен. Будь справедлив и великодушен.
– Да, может, он и не хочет ехать? Спросите его!
– Я не могу блефовать, если у нас пропуск на двоих.
– Поймите, я уже отблагодарил его: он поднес груз и получил за это достаточную плату.
– И этот груз – я? Понимаю. И знаешь, не хочу быть и для тебя грузом. Не был и не буду.
– Не придирайтесь к словам, отец. Вы знаете...
– Я кончаю на этом разговор. Решено. Я не поеду. – Старик перешел на русский. Последнюю фразу он произнес очень спокойно и твердо.
Кузовлев, который не понимал ни слова, с удивлением встрепенулся и закрутил головой: он и не представлял, что отец с сыном обсуждают такое, здесь, при нем и при всех. Старик, видать, был упрямый и своенравный, привык приказывать, и его «заносило». Сын выглядел смешно. Лицо его пошло красными, багровыми пятнами.
– Вы представляете? Вы представляете, что это значит?! Старший Белопольский – князь и генерал! – остается у большевиков? Тем самым вы признаете их! Объявляете на весь мир: с ними возможно сотрудничать! Вы готовы?.. Вы подписываете себе смертный приговор! Все честные люди отвернутся от вас, не станут подавать руки. Опомнитесь! Подумайте о своей семье! У вас внуки – белые офицеры, сын, занимающий определенное положение. Вы и нам закрываете пути в общество!
– О! Ты о себе боишься в первую голову! Попросту боишься и прикрываешь свою трусость красивыми словами. Ваши красивые слова, господа керенские, страну погубили. Проболтали, говоруны, балалайки!
– Вы не смеете так!
– Смею! Я принял решение.
Николай Вадимович решил переменить тактику. Приняв учтиво-беспристрастное выражение, он обратился к солдату:
– А скажи, любезный... Правду... Разве ты собирался уезжать из России? У тебя что, родственники в Париже или свое дело в Константинополе?
– Изволите шутить, барин?
– Мне не до шуток, поверь. Времени нет.
– Тогда я скажу, барин. Не знал, богом клянусь, до сей минуты не решил еще – ехать аль оставаться. Да и сказать, столько лет за меня решали, и куда идти, и в кого стрелять, что я сам по себе это делать разучился... Подумал было ехать за компанию, потому как дома меня никто, видать, не ждет, и папаша ваш понравился: душевный человек, хоть и генерал. Но раз он остаться решил, и я, значит, никуда не двинусь. Возле него останусь – вот и весь мой ответ.
– Ага! Вот видишь! – торжествуя, произнес князь.
– О-оо! – Николай Вадимович схватился за голову.
– Оставь театр, Николай. Тебе же легче будет. Там, – он показал в окно. – А у меня и дело есть. Я уверен, что найду Ксению, мальчиков. Не здесь, так в Петербурге. Кто-нибудь из них домой вернется, увидишь.
– Когда? Куда? – раскачиваясь с носка на пятки, выкрикивал Николай Вадимович. – Куда домой?! К кому домой?! Маньяк! Маньяк, упрямец! Большевики вас завтра к стенке поставят.
– Всех и они к стенке не поставят, – старый князь багровел. – Пойми же, я русский, русский! – выкрикивал он. – Я турок воевал, а ты меня к ним в услужение привезти хочешь?
– Почему в услужение? Почему турок? – растерялся Николай Вадимович. – Мы едем в Европу, в цивилизованное общество.
– Ах, в Европу?! В цивилизованную Европу, которая всегда относилась к нам как к дикарям, как, прости, к навозу и пушечному мясу. Спасибо! Нет! Не желаю! Сколько мне остается жить, я проживу в России, и меня похоронят на родной земле.
– О мой боже! – истерически всплеснул руками Николай Вадимович. – Кто вас спасет, кто похоронит на родине, старый... – и он осекся.
– Идиот, хотел сказать? Договаривай!
– Упрямец. Я хотел сказать, упрямец.
– Да, да, да! Я понял.
– Вы поедете? В последний раз спрашиваю!
– Не трудись. Я же сказал. – Старик заметил, что десятки людей слушают их разговор, и рассердился: – Да, я упрямец. Но ты, ты хуже!
Николай Вадимович инстинктивно оглянулся, нервически топнул ногой и, прокричав что-то нечленораздельное, выбежал из залы.
«Марш вперед, Россия ждет, белые гусары! Марш вперед, бой зовет, наливайте чары!» – запел вдруг кто-то дребезжащим голосом. Голос был насмешливым, издевательским. А потом послышался истерический смех.
– Не обращайте внимания, Вадим Николаевич. И не расстраивайтесь. Больной человек, свихнулся, видать, малость, – сказал Кузовлев равнодушно, и непонятно было, кого он имел в виду – сына старого князя или безголосого певца, так некстати вспомнившего «Марш белых гусар». – Нам это без внимания.
– А я и не расстраиваюсь, Ананий Иванович. Мы с сыном давно уже совершенно чужие люди.
– Хочу вам к случаю слова товарища моего, из вольноопределяющих, – сказывал уже вам о нем, – припомнить. Часто он их повторял, умнейший был человек. «Война, – говорил бывало, – ненормальна. Нормально, когда люди любят друг дружку, ходят в гости, учатся, детей ростят». Может, и не так я выразил что, но еще от себя добавлю: все возвращается на круги свои. И мы с вами, даст бог, к себе, в Петроград, вернемся. Устроится все, уж поверьте.
– Я о другом думаю, – сказал, понурившись, старый князь. – Зачем нам тут, среди этих безродных пассажиров, оставаться?
– Хорошо, что так думаете. Незачем, это факт! – Солдат улыбнулся по-доброму. – Это точно. Я чуток позднее, когда темнеть начнет, на разведку отправлюсь. Посмотрим, что к чему, не беспокойтесь.
– Что это вы: «Не беспокойтесь, не волнуйтесь, не обращайте внимания...» А я ведь еще генерал, Ананий Иванович. Мне и командовать – до прихода большевиков по крайней мере.
– А я разве возражаю? Командуйте!..
Так князь Белопольский остался в России.
4
...На берегах Босфора уже жило довольно много русских – детей предшествовавших эвакуаций, бежавших от большевиков и из Одессы, и из Новороссийска, и из Крыма. Все они чувствовали себя транзитными пассажирами, ожидающими поездов, эвакуацию воспринимали как явление временное, уверены были в скором возвращении домой. Последней надеждой их оставался Врангель. От его успехов или неуспехов зависело будущее. И еще от чуда. Психология беженца, потерявшего все, и есть постоянное ожидание чуда, разговоры о нем, подготовка себя к восприятию чуда, которое должно произойти...
Еще в середине октября по русскому Константинополю прокатилась первая волна слухов: в Крыму неспокойно. Потом – неблагополучно. Потом – весьма тревожно.
Во дворе русского посольства толпились люди, ловили последние слухи, шли к витрине крымского «Бюро русской печати», где вывешивали последние информационные сводки о боевых действиях. Сводки были оптимистичны и не давали повода для малейшей тревоги. Это и настораживало беженцев. Возникал обязательный обмен мнениями, кончающийся ссорами, обидами, оскорблениями, порой и безобразными драками.
Внезапно последовал экстренный вызов в Крым всех судов. «Бюро русской печати» заявило, что эта мера необходима «на предмет разгрузки Крыма». Естественно, это никого не удовлетворило и не успокоило.
Первым официальным русским беженцем «новой волны» стал Александр Васильевич Кривошеин. Он прибыл в Константинополь вместе со своим сыном-офицером, и это вызвало взрыв возмущения всей русской колонии. Кривошеин, ясный и методический ум, понимавший лучше всех ситуацию, сразу же развил бурную деятельность: проводил по нескольку совещаний в день, консультировался с кем-то, посещал послов и руководителей военных миссий, вырабатывал декларации, интриговал, торговался. Казалось, сразу в нескольких местах города появлялся этот старичок-часовщик, мелькала его короткая бородка, вспыхивали угодливо и зловеще его маленькие и хитрые, полуприкрытые веками глаза, прожигающие собеседника насквозь.
В интервью, данном «Бюро русской печати», он впервые «откровенно» рассказал о жестоких атаках большевиков, многократно превосходящих белые войска в численности и боевом обеспечении; о том, что «долго выдерживать такую борьбу никому непосильно», а посему и было принято решение об эвакуации раненых воинов, их жен и детей. Кривошеин не исключал возможности и полной эвакуации Крыма. Беседа заканчивалась обращением Александра Васильевича к прессе: «Я прошу печать бросить всему культурному миру горячий призыв к чувству гуманизма, к человеческой совести каждого, просить немедленной помощи погибающим людям, раненым, женщинам, детям».
Толпа, собравшаяся у витрины «Бюро русской печати», поняла: Врангель и его подданные не знали, куда бежать. Толпа бурлила, раздавались гневные выкрики:
– Господи, какой кошмар!
– Говорят, Слащев вместо Врангеля.
– Ерунда! Врангель назначил Слащева преемником.
– Назначил?! Переворот был в Севастополе!
– Что вы панику разводите?
– Тут, батенька, похуже Новороссийска будет. Со всех крымских портов побегут, вода закипит.
– А вы не каркайте!
– Сами не каркайте!
– Большевистский агент!
– Я тебе покажу, шпак несчастный!
– Господа, господа! В такой час... Оставьте! Оставьте, ротмистр... Константинов – вице-адмирал, уважаемый офицер. Что вы, право!
– Адмиралы на кораблях! Он меня оскорбил, я требую извинений.
– Ааа! Не пошли бы вы!.. Нервный какой!
Раздается выстрел в воздух. Толпа шарахается, расступается. Несколько человек виснут на руках высокого худощавого ротмистра с изможденным лицом и уволакивают его. Толпа смыкается. И вновь начинается громкий обмен мнениями, крики, спор. Крым волнует всех: там семьи, братья, сыновья, отцы...
На сутки остановились в Константинополе отец и сын Шабеко. Остановились не по своему желанию, а лишь потому, что пришвартовались здесь по какой-то неизвестной им причине английские миноносцы, везущие в Котор русские сокровища, собранные Петроградской ссудной казной. Был ли на это секретный приказ английского адмирала, или просто машина одного из эсминцев нуждалась в срочном ремонте, – он все время отставал, трубы его выбрасывали в небо густой, черный, казавшийся смолистым дым, словно прося коллегу не торопиться и снизить ход, – как бы то ни было, оба эсминца встали на внешнем рейде, вдалеке от союзнических кораблей, а командир соединения, ввиду чрезвычайности обстоятельств («Каких обстоятельств? Когда возникших?»), строго-настрого распорядился на берег никого не пускать.
Виталий Николаевич Шабеко, всю дорогу до Константинополя чувствовавший себя на положении чуть ли не высокопоставленного арестанта, которому внешне угождают, но всячески показывают, что он уже никто, человек второго сорта («Бритты умеют, ох умеют это делать!»), судьба его определена и решена ими, – просто взбесился, узнав от сына об этом распоряжении. Старый и похудевший «Пиквик» устроил форменную обструкцию сыну, заявив, что, ежели он не получит сию минуту средств добраться до берега, посетить русское посольство и узнать подлинное положение дел в Крыму, он тотчас бросится в воду, готов хоть ко дну пойти, но далее не поедет даже в том случае, если друг его сына, сам барон Врангель, пришлет ему депешу.
Леонид хорошо знал упрямство отца. Сын без спора подчинился отцовскому желанию и отправился к старшему английскому морскому начальнику. Какими доводами, чем оперировал Леонид Витальевич Шабеко перед грозными очами неказистого, сухощавого английского офицерика, державшегося с холодным адмиральским презрением, так и осталось неизвестным. Шабеко младший предпочел не распространяться о беседе с этим «почти Нельсоном», как он выразился, и о том, чего это ему стоило, но через полчаса катерок, вызванный по радио, уже вез их к Константинополю.
Извозчик мигом доставил их к посольству. Отец и сын договорились встретиться через час. Леонид приказал вести себя на базар – хотел узнать о ценах и местной торговой конъюнктуре. Виталий Николаевич сошел и вмиг растворился в толпе, плотно заполнявшей двор.
Увиденное совершенно потрясло и подавило старика. Он как бы увидел свое будущее и будущее всех тех русских людей, которые, уже покинув или готовясь покинуть родную землю, превратятся столь быстро в толпу, в стадо, в ораву безжалостных, тупых, остро ненавидящих друг друга вчерашних людей, окончательно утративших контроль над собой, над мыслями своими и эмоциями.
Выбравшись из посольского двора, он ждал сына на улице – сначала на скамеечке чистильщика сапог неподалеку, а потом, отдохнув, пока черномазый паренек наводил глянец на его давно не чищенные штиблеты, он перебрался под раскидистый платан на другую, теневую сторону улицы, держа под взглядом ворота посольства и наблюдая за проезжающими извозчиками и моторами.
И конечно, пропустил Леонида, вернувшегося на шикарном автомобиле и сразу кинувшегося искать отца. Они разошлись. Сын, проталкиваясь сквозь плотно сбитую массу орущих и жестикулирующих людей, с трудом сдерживал недовольство и собой и отцом. Зачем оставил его одного? Ищи его теперь! А если это была лишь уловка, пользуясь которой старый упрямец сбежал, скрылся, исчез? Что могло прийти ему в голову? Где его искать? Не решился же он вернуться в Россию? А почему, собственно, и нет? От него сейчас можно ждать всего!. Боже, какой я глупец, какой недальновидный человек!... «Ты допускаешь ошибку за ошибкой, дорогой мой, – думал он, продолжая искать отца в толпе, не находя его и чувствуя растущую ярость. – Не кричать же здесь, не взывать к нему, как в лесу. Неудобно, неэтично. Смешно!..»
В этот момент бросился к Леониду Витальевичу потертый, неопрятный пожилой господин с некогда сановным лицом, заросшим теперь рыже-седой, растущей кустами бородой. Борода сразу вызвала раздражение. Она стала ненавистной Леониду: он почуял что-то недоброе.
Сверхподобострастное выражение и жалкая беззубая улыбка делали лицо господина похожим на древнегреческую маску комедии. Отжав острым плечом двух человек, он схватил Леонида Витальевича за руку услужливо, но достаточно твердо, и сказал просительно:
– Не узнаете меня, господин Шабеко?
– Не имею чести, – поспешно сказал Леонид, делая попытку освободиться и продолжая искать глазами отца.
– Я адвокат Жилтухин. Через «жи». Николай Афанасьевич. Простите, ради бога...
– Не припоминаю вас, – сухо сказал Леонид. – И действительно, очень тороплюсь. Дела!
– Мы с вами... не раз... сидели в одних процессах. В те времена... – еще поспешнее и просительнее заговорил Жилтухин, почему-то быстро отряхивая от обильной перхоти плечи и черный бархатный ворот порванного пальто. – В банке... В клубе... И потом... Земгор, война... Неужели не припоминаете?
– Что-то припоминаю. Но что вам угодно, Николай Афанасьевич? – Шабеко тщетно старался унять беспорядочно движущиеся руки, и это бесило его. – Что вы хотите? Здесь, от меня? Я тороплюсь, я ищу отца!
– Судя-с по всему... Ваше положение, дела, устройство... – глотая слова, прямо-таки с пулеметной скоростью выпаливал адвокат. – Я слышал, вы в Париже... И в Крыму... Особа при... при... Вы, вероятно, все можете... Все!
– Но в чем дело, наконец?! – Шабеко уже не сдерживался, глаза горели ненавистью и явной угрозой. – Объяснитесь, сударь!
– Помнится, и вы как-то ко мне обращались за содействием... Но простите!.. Больная матушка, жена, четверо детей. Со времен новороссийской катастрофы... Того ужаса! – Жилтухина несло не туда, но он не мог остановиться, не выговорившись. – Я совсем без средств, без копейки! Мы бедствуем! Голодаем!.. На благотворительные подачки! Исключительно! Помощи ждать неоткуда... Отчаялись, пали духом! Помогите. Христа ради прошу! Во имя наших дней прежних, нашего знакомства! Помогите! Не дайте умереть! Пропасть!.. Я вижу: вы можете, вы все можете!
– Что? Что я могу?! – сорвался Шабеко. – Что вы пристали, сударь?!
– Возьмите нас отсюда, заберите, Христа ради! Мы молиться на вас будем... Вовек не забудем! Я отслужу, я отслужу! Отмолю!
– Да куда я возьму вас, послушайте, милейший?! Что у меня, корабль свой? Что вы кричите тут, людей собираете? Опозорить хотите? Не задерживайте меня! Я спешу, говорю вам! Вот... Вот, возьмите! – И дрожащими руками он достал бумажник, не глядя вынул какую-то ассигнацию. – И мои ресурсы весьма... не безграничны. Больше не могу, к сожалению, – и он протянул деньги Жилтухину. – Позднее... Сделаю что-то...
И вдруг стало тихо. Точно Леонид оглох или все звуки исчезли. Может, все это на миг лишь показалось Леониду, потому что в следующий миг вновь раздался душераздирающий крик бывшего адвоката:
– Это мне?! Вы?!. Мне?! Дворянину, коллежскому советнику? По старому знакомству?! Будь ты проклят! Будь проклят, сволочь! Шейлок! Жидовская морда! – Он вырвал из руки Леонида ассигнацию и, плюнув на нес, скомкав, швырнул ему в лицо.
Леонид поспешно ретировался. Глаза его косили от гнева более обычного, мокрые губы дергались. Он выбрался из смеющейся толпы на улицу и сразу же, на другой ее стороне, увидел отца, прислонившегося к стволу дерева.
– Что с тобой, Леонид? – спросил Шабеко-старший. – На тебе лица нет. Случилось что?
– Ничего не случилось.
– Но то, что происходит там, во дворе, ужасно! Эти люди...
– Это уже не люди, отец. Вы еще не раз будете благодарить меня за то, что я не дал вам разделить их судьбу.
Какие-то беженцы, высыпав из посольского двора шумной группой, показывали на них. Леонид, предчувствуя возможность новых нежелательных эксцессов, заторопился.
Теперь не время для теоретических дискуссий, отец, – сказал он убежденно. – Надо возвращаться, пока эти великие британцы не удрали без нас... Эй, извозчик! – подняв руку, крикнул он обрадованно. – Кэбмен! Халло! Хал-ло-оо! В порт, быстро! – скомандовал он по-немецки и потом, для убедительности, по-французски: русский язык становился уже непопулярным в Константинополе.
(обратно)
5
Желтый утренний туман стоял над Севастополем. Заканчивалась погрузка. Сумрачная толпа по-прежнему заполняла берег. На северных и восточных окраинах слышалась перестрелка. Пушки Кутепова, установленные на Мекензиевых высотах, молчали. Вероятно, были уже захвачены большевиками, вышедшими из подполья.
Утром в гостиницу Киста прибыли десять офицеров – представители Корниловского, Марковского и Дроздовского полков. Почему-то стараясь не шуметь, прошли к номеру главнокомандующего. Им должны были передать знамена, которые не удалось вручить полкам при последней поездке Врангеля на фронт: тревожность обстановки сорвала торжественную процедуру.
Но и сейчас обстановка была неподходящая. Еще более неподходящая. Поэтому и церемония упрощена донельзя. Офицеры скромно останавливаются в коридоре. На лицах такое выражение, будто ждут выноса покойника. Конвойные казаки, дружно топая, приносят полковые знамена. Врангель, бледный, в черной черкеске, торопливо передает знамена из рук в руки, точно штуки мануфактуры. Обескураженные офицеры молчат. Голос Врангеля выдаст его некоторую растерянность:
– Я убедился, господа, что Европа и Америка нас предали. Результаты налицо. В моем распоряжении кораблей настолько мало, что я не могу посадить на них даже остатки славной армии, которая, истекая кровью, подошла к Севастополю. («Получается, жалуюсь. Кому?.. Оправдываюсь. Зачем?..») Куда мы едем, я точно не знаю. У нас есть уголь. И мы уходим в море. Я продолжаю вести переговоры и думаю, они увенчаются успехом. Надейтесь и вы, господа. Мы не складываем оружия. Мы намерены бороться. Мы должны сохранить армию. Потомки оценят наши дела и подвиги. Вы свободны, господа. – И Врангель скрывается в номере.
Протопав, уходит конвой.
– Смешно! – говорит один офицер другому. – Это как плевок. Три года сражались, а свои знамена полки получили в день когда приказано прекратить борьбу и оставить Русь.
– Оставь, Издетский. Негоже нам теперь знаменами размахивать. О себе надо подумать, ротмистр!
– Дерьмо! Все дерьмо! Порядочные люди... э... в такие моменты стреляются.
– Покажи пример.
– Я, надеюсь, еще пригожусь. Идем.
– Так каждый рассуждает. Война, дорогой мой, всех чему-то научила!..
...Вещи Врангеля переносят на Графскую пристань для отправки на крейсер «Генерал Корнилов», который пойдет под флагом главнокомандующего. Главнокомандующего ли? Чем он теперь командует?.. Медленно и величественно спускается Врангель по ступеням пристани в сопровождении командующего флотом. («Каким? Кому принадлежащим?») Они направляются к катеру, чтобы объехать грузящиеся суда. Неожиданно на пути возникает странный пожилой человек в сожженной на полах шинели. Врангель инстинктивно останавливается, озирается на конвой. Человек представляется: командир Смоленского полка полковник Новиков, отошедший с остатками своей части с фронта. В чем дело, полковник? – Врангель напружинивается, берет себя в руки. Волчьи глаза смотрят люто. Он ждет просьб, бредовых советов, предложений, выстрела – чего угодно.
Новиков объясняет: он и вверенные ему офицеры и солдаты, оставшиеся верными идеям борьбы с большевиками, решили уйти в горы, чтобы вести партизанскую борьбу. Врангель расцветает – вот пример, достойный подражания! Он обнимает, троекратно целует полковника в небритые щеки, пахнущие почему-то борщом, благодарит за службу и, приосанясь, объявляет, что полковник Новиков производится в генералы. Несколько человек из свиты тоскливо кричат «ура». Новиков, не стесняясь, вытирает рукой слезы. «Жаль, нет ни одного представителя прессы, разбежались, как крысы с тонущего корабля», – думает Врангель, подзывая адъютанта.
– Озаботьтесь, генерал, чтоб история командира героического Смоленского полка немедля попала в газеты («Какие? Где? Кого сейчас интересует история белого движения? Разве что «Times»?), – говорит он громко и торжественно.
Происшедшее только что тут, на глазах многих людей, радует и бодрит Врангеля. Он весь во власти щекочущих его самолюбие ощущений. И поэтому не сразу замечает обратившегося к нему человека, вышедшего из-за спины новоиспеченного генерала.
Человек сравнительно молод, ему нет и тридцати. Он чем-то напоминает Врангелю... его самого счастливых времен студенчества в Горном институте: высокий, с длинным, аристократическим, смуглым лицом и светлыми, веселыми и бесстрашными глазами. Врангелю импонирует, что даже в партикулярном молодой человек держится необычайно прямо, как отменный боевой офицер. Одного только не может понять Врангель: почему этот приятный молодой человек здесь и чего он хочет? Хотя фамилия Венделовский, которую тот называет, кажется главнокомандующему очень знакомой. Врангель заставляет себя сосредоточиться и прислушивается.
– Княгиня Куракина Татьяна Георгиевна, урожденная баронесса Врангель... – говорит молодой человек. – Письмо... Меня две недели не допускали к вам, ваше высокопревосходительство.
Врангель вспоминает все: товарищ сына Татьяны… Климович... Фон Перлоф... Неподходящее время для проверки...
– И что же вы хотите, господин Венделовский? – спрашивает он будто мимоходом.
– Продолжать борьбу, ваше высокопревосходительство! Я поклялся!
– Прекрасно! – ободряюще улыбается Врангель. – Вы хотите остаться со Смоленским полком? – Это была ловушка, одна из тех, которые обожал командующий.
– Готов, если вы приказываете и благословляете меня! – ответил Венделовский не задумываясь.
– Вашу руку! – В глазах Врангеля мелькает сомнение. Чувствуется, он колеблется, прежде чем принять какое-то решение, – это совершенно несвойственно ему, да еще и на людях особенно. Выпустив руку Венделовского, Врангель говорит подчеркнуто громко, чтобы все слышали: – Благодарю вас за патриотизм! Будем бороться вместе, господин Венделовский! – И, обернувшись к адъютанту, отдает распоряжение: – Прикажите, генерал, погрузить господина Венделовского на «Корнилов».
По шатким мосткам Врангель переходит на катер. Катер тут же отходит и направляется в Килен-бухту...
Через полтора часа он возвращается. Тепло. А на солнце даже жарко. Море как зеркало. Над головой голубое небо. С площади удалены все лишние. Врангелю докладывают: войска погружены. Сейчас начнут грузиться заставы. Последняя связь с фронтом прервана. Служащие городского телеграфного узла заявили, что занимают нейтральную позицию, обслуживать воюющие стороны отказываются («И не накажешь мерзавцев!»).
Врангель медленно шествует вдоль строя юнкеров, вглядываясь в лица, как бы вспоминая что-то о каждом. Остановившись в центре каре, он благодарит юнкеров за службу. Голос звучит сильно и уверенно:
– Мы идем на чужбину, но идем не как нищие с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, с сознанием выполненного до конца долга. Мы вправе требовать помощи от тех, за общее дело которых мы принесли столько жертв... («Не то говорю и не теми словами, – думает он. – При чем тут союзники? О нас надо было бы».)
Недовольный своей речью, Врангель отдает приказ грузиться и юнкерам.
Из гостиницы выпархинает дама в меховом манто, накинутом на декольтированное вечернее платье. Бежит к пристани по ступенькам, едва не падая. Опускается на колени у ног Врангеля. Он силится поднять ее («Черт возьми эту юродивую!»), но дамочка не дается, она будто приросла к каменным плитам.
– Благословляю вас! Благословляю, вождь! – выкрикивает она. – Не выпускайте из рук меча! Господь вас храни!
– Встаньте! Поднимитесь, прошу вас. – Врангель искоса поглядывает, какое впечатление производит эта сцена на окружающих. («Прощание народа с вождем, – думает он. – Полковник Новиков и эта... Что ж! Выглядит весьма эффектно. И никакой паники. Суровая деловитость и порядок. Это вам не Новороссийск, господа Слащевы и Кутеповы! Вот оно, достойное отступление. По-врангелевски!») – А почему вы, мадам, не уезжаете? Извольте, я распоряжусь.
– Ох, господин генерал, господин генерал! Я схожу с ума! – Дама поднимается и валится розовой грудью на руки Врангеля, дыша часто и прерывисто явным запахом хорошего коньяка. – У меня ма-ма, мамочка! Старая! Не могу же я бросить ее? Как быть? Я совершенно одна. Посоветуйте, бога ради, Яков Александрович.
Захлестнутый потоком слов, Врангель не сразу понимает, что его приняли за другого. И за кого – за Слащева, черт возьми! Красотка пьяна. Да она просто пьяна! Он холодно отстраняется и быстро идет навстречу главе американской миссии адмиралу – Мак Келли, которого принесла неведомая сила в самый неподходящий момент.
– Я всегда был горячим поклонником вашего дела, – произносит американец, с трудом выговаривая слова. – И более, чем когда-либо, являюсь им сегодня.
Они долго жмут друг другу руки и рассеянно улыбаются. Врангель в серой офицерской шинели и фуражке Корниловского полка (одетый попроще, чтобы не выделяться) смотрит поверх головы Мак Келли на группу телеграфистов и дежурных офицеров, которые, суетясь и толкаясь, лезут по трапу небольшого пароходика «Херсонес», дымящего черными смолистыми клубами, точно его топят резиной. Идут строем на погрузку ординарцы, предводительствуемые незнакомым ротмистром.
Врангель поворачивается к стоящим почтительно позади Шатилову, Коновалову и Скалону, желая узнать, почему нет любимого им ротмистра Валентинова, но Шатилов, предвосхищая вопрос, говорит, что Валентинов, посланный вечером к Кутепову, не вернулся: погиб, видимо, – думая про себя, что Валентинов вполне мог и не погибнуть, а, нарушив приказ, отправился в Ялту, где у него бедствует семья.
На белых ступенях Графской пристани высокая фигура Врангеля выглядит весьма внушительно. Главнокомандующий осматривает спокойный морской горизонт. Там, за ровной полоской, Константинополь. Не так и давно, кажется, он приехал оттуда...
Был светлый день, Врангель поднимался по белым ступеням Графской пристани, где ждал его хорошо отрепетированный спектакль. Играла музыка. Парадным строем проходили войска, сверкали на солнце золотые ризы, поднимался к небу сладкий дымок кадильниц. Приветственно рукоплескала новому вождю празднично одетая толпа. Летели к его ногам цветы. Он знал, что так не будет вечно, и все же надеялся, был уверен в себе, верил, что сможет совершить то, что не удалось ни Колчаку, ни Деникину. Полгода оказалось достаточно, чтобы убедиться в провале. Но его ли это провал? Где, в чем ошибка? Был ли он недостаточно жесток или недостаточно либерален? Как бы поступил на его месте другой избранник, тот же Кутепов, тот же Слащев?.. Солдафон или сумасшедший – кто нужен был кусочку России, который остался на Юге от недавно громадной и могущественной империи?.. Но на кого опереться? Кто поможет?.. Как там сложится, за морем? Загадывать трудно... Сейчас важно одно: он должен вести себя как главнокомандующий, как вождь, который отступает на время, под влиянием обстоятельств, который продолжит борьбу за победу белого дела, за торжество идеи.