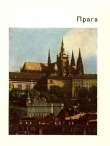Текст книги "По золотой тропе - Чехословацкие впечатления"
Автор книги: Марк Слоним
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
В одной высокой пещере с большим озером сталактиты спускаются ровным рядом толстых трубок. Они, как орган. И пилястрами храма восходят сталагмиты. Здесь – древность. В пятнадцать лет на один миллиметр увеличивается сталактит. Пятьдесят тысяч лет тому назад начала капать вода, каменея известковым пальцем. И через семь тысяч лет этот смешной сталагмитовый росток, показавшийся из земли, дойдет до вышины не моего колена.
И опять ладья плывет неслышно в темном ходе туннеля. Двойным сводом тяготеют каменный потолок и эта страшная подземная тишина. От холода и сырости коченеет тело; вода мертва, черна бездонно: семнадцать метров глубина Пинквы. Равномерно, безустанно где то впереди падают капли.
Таким, должно быть, представляли себе "посмертное блуждание души" те, кто верили в нижнее царство Аида.
Точно Стикс, течет подземная река под пещерами Мацохи, – и вот сейчас черные ее воды превратятся в течение Ахерона, грозный перевозчик встанет на ладье, – и к берегу, откуда нет возврата, разгневанным веслом будет гнать упирающиеся тени.
Наш Харон медленно гребет лопаточкой. Весь мир перестал существовать: только есть эта душная узость, эта сдавленность огромных скал, темная сырость смерти – без конца мы будем плыть по реке времен, по Дантовскому triste ruscel, горестному потоку. {107} И снова – раздвигаются скалы, в великолепную пещеру вплывает лодка, и мы выходим из нее, чтобы обойти нагромождения сталагмитов и обломков.
Бледно светят электрические лампочки. В углах, в гротах засады теней. Когда лампочки гаснут, одна за другой, тени разом вырываются, наводняют победными легионами тьмы.
Впереди – как занавес, в морщинах и складках, желтовато-белая стена сталактита: а под ней, вместо рампы, поле, блестящее круглыми головками. Возле – в линию – прямые сталагмиты, сверкающие, точно мрамор памятников на кладбище. И у зловещего прохода реки известковый меч угрожает обращенным к низу острием. Повсюду – странные фигуры, сказочные очертания; когда потухают все лампочки, кроме одной, оставленной за целой семьей сталактитов; – в полутьме прозрачные багровеют мечи, руки и колонны – кровавый отсвет падает на змеиную падь реки – и она уже не Стикс, а Флегетон, вытекающий из адова леса самоубийц, из озера кипящей крови, о которой варятся те, кто сам в жизни пролил кровь ближнего.
Еще один поворот под утесом – последнее плавание. Издали желтеет зрачок лампы. Круг света шире, скалы виднее и злее, лодка скользит беззвучно, быстро – безгласно мчимся мы до горьким водам Леты, земные тревоги растворились в пещерной влаге. О чем вспоминать людям во мраке этих стен, прорытых маленькой рекой еще до рождения человечества?
Час длится вечно. Мы ныряем в самый узкий и темный туннель, и почему то кажется, что за ним, что за этой выросшей вдруг скалой – последний срыв – и стремглав обрушится лодка в бездонную черную глубь. И в самом деле: лодка вздрагивает, летит – и ударяется о {108} доски... Через железный турникет входа виден ослепительный праздник дня, необычайное великолепие красок. И не веришь раскатам грома: неужели такой свет возможен под облаками, в бурю.
Но спешит проводник: держась за скользкие перила, идем опять внутрь горы, в знаменитые пещеры Мацохи. В них нет реки, но постоянно сочатся и пробиваются ручьи. Вода выела камень, пробила ходы, обточила эти глыбы земли, обрушила эти скалы, придала дикую мрачность этим сплетениям сталактитов, соединила их галереями и арками, изгибающимися, точно венецианское Риальто. То и дело расширяется узкий туннель, по которому с опаской, гуськом идут люди, и гигантские пещеры раскрываются в сталактическом матовом блеске. От исполинских кенгуру – динозавров, от хвостатых ихтиозавров спасались здесь мохнатые люди в шкурах. Под этими вечно сырыми сводами испуганно внимали они зыку мастодонта и змеиному свисту птицы-ящера. Из хвороста и сучьев разводили они огонь, и тени безобразный танец плясали на стенах, из которых вытягивались сталактитовые персты и фигуры. Из пугающей темноты пещеры старики плыли в ледяной мрак нижнего царства, – и кости тех, кто умер в каменный век, были найдены в этой влажной земле.
Выход из Мащохи – в скале. Под ней пропасть, стесненная с боков отвесными громадами в полтораста метров вышины. Это дно Мацохи: и здесь была некогда пещера, но с незапамятных времен провалился ее свод. Внизу, в узкой воронке хаос камней, обломков, известковых скал: циклопы дрались здесь необъятными палицами.
Скудный мох ползет по стенам срыва, под скалой – озеро необыкновенного цвета: в синь превращается отраженная зелень скал. Из озера – выбегает река, водоворотом скрываясь в туннеле под землей. {109} Над сближенными вершинами с зазубренным лесом, узкая щель неба, – и в серо-темном – разрывы молний. Сейчас под облаками появится тень птеродактиля, ищущего убежища на дне пропасти.
Назад – тот же путь. Скользящие ходы, уступающая ноге земля, пугающая фантастика сталактитовых сокровищ, невероятные пещеры, в которых неловко, неуютно сознавать себя человеком: каждая скала молчит с тысячелетним презрением, в споре воды и голосов побеждают невозмутимые, миллионные капли, – ни о каких Наполеонах или революциях знать не желают маленькие сталагмиты: у них размеренная поступь, торопиться некуда, один шаг в сто столетий.
И опять все то, чего бежит взор, чего боимся: тьма, равнодушный лет времени, и сумасшедшее безгласие могилы, и раскрытая, душная пасть земли.
Потом автомобиль, горы расступаются, рассекаются нехотя: нельзя живым выпустить того, кто плавал по водам Стикса.
Кручи, обрывы – точно в Вагнеровских трагедиях. Тщетно ждешь полета валькирий над драконьим лесом. И повороты, подъемы, рябь спуска – шоссе, первое мелькание домов: уже протяжными голосами паровозов стонет станция.
Румяные девочки с косичками, и гимназисты, старающиеся быть вежливыми и говорить басом, пьют лимонад после утомительной экскурсии. Пыхтящие автобусы привезли их с Мацохи. У одного мальчика -граммофон в кожаной коробке. Мы слушаем танцы и романсы в дымной зале ресторана. За окнами шумит настоящая река.. Уже вечер – пыльные люстры мигают тусклыми лампочками. Мы ждем поезда – под хрип граммофонной музыки. {110}
КАЗЕМАТЫ ШПИЛЬБЕРГА
В ночь на 30 августа 1746 г. в ворота крепости Шпильберга у Брна въехала венская карета, окруженная многочисленными всадниками. В первом дворе ее встретили комендант и его подчиненные. При свете факелов с любопытством и опаской смотрели они на человека гигантского роста, выходившего, сгибаясь, из кареты. У него было надменное лицо, опаленное пороховым взрывом, и повелительные жесты. Не отвечая на приветствия, он огляделся, словно ожидая воинских почестей. Стража окружила его. Барона Франца фон Тренка, вождя пандуров и любимца Марии Терезии, ждал каземат и пожизненное заключение.
Отец Франца Тренка был прусский дворянин, перешедший на службу к Австрии и принявший католицизм. Сыну он оставил крупное состояние, неукротимый нрав и поместья в Славонии.
Недаром Франц родился в Калабрии: в нем текла буйная кровь итальянского кондотьера, разгоряченная германским упорством. В семнадцать лет он был сложившимся человеком: диким в страстях, хитрым и неотступным в осуществлении своих прихотей. Надменный и необузданный, он не знал преград своим желаниям. А желаний была целая буря: славы и приключений, богатства, {111} власти, женщин – всего в мире жаждал молодой барон Тренк. Блестящий ум, недурное образование, знание языков соединялись у него со звериной жестокостью, мстительностью и припадками кровожадной ярости. Он презирал чужие жизни, но, не задумываясь, рисковал собственной.
Непомерности страстей соответствовала и чудовищная физическая сила: в битвах этот гигант одним ударом меча рубил вражьи головы, и его племянник описывает, как Тренк усмирил возмутившийся полк своих пандуров, изрубив в несколько минут десятки солдат.
Из австрийской армии, в которой он не мог удержаться из-за своего характера, Тренк перешел на службу в Россию. Он принял участие в турецкой кампании, где выказал себя беспощадным воякой. Но он никак не мог примириться с дисциплиной и чинопочитанием. За избиение своего генерала и другие "возмутительные деяния", он был дважды приговорен к смерти. Тренка постоянно спасал его друг и покровитель, Миних. Но в Киеве австрийского барона бросили в темницу, а затем приказали покинуть Россию.
Ему было двадцать шесть лет, когда он вернулся в свои владения. Охоты, расправы с крепостными и редкие поединки скоро ему надоели. Жена умерла из-за его же неосторожности, – обзаводиться семьей он не желал. От скуки он начал борьбу с бандитами, опустошавшими край, и вскоре увидал, что это нелегкая задача. Тогда он организовал отряд пандуров, набрав в него людей, которые пришлись ему по сердцу. Почти два года с беспримерной жестокостью воевал он с разбойниками – и очистил от них всю Кроацию: половину вырезал, а остальных принял к себе на службу.
Когда в 1742 г. началась война за австрийское наследие, Тренк принял в ней живейшее участи. Его {112} дикий полк причинял неприятелю не меньше забот, чем вся австрийская армия.
И для Тренка и для его людей война была удобным случаем для грабежа и убийства – и они предпочитали не брать пленных, не щадили женщин в разоренных деревнях и систематически нападали на немецкие обозы. После каждой битвы Тренк посылал захваченное в свои кроатские замки.
В 1745 году, во время наступления Фридриха Великого, Тренк нападает на лагерь пруссаков во время битвы и захватывает огромную добычу, в том числе и серебро короля. Но сражение проиграно австрийцами, и в Вене говорят, что это вина Тренка: он грабил в по время, когда надо было драться. Распространяются даже слухи, будто он захватил в плен самого Фридриха Водимого, но отпустил его за огромный выкуп.
До тех пор Тренк был одним из любимцев Марии Терезии (народная молва ошибочно говорила даже о любви к нему императрицы), вся Вена знала легендарного героя, он играл видную роль при дворе и в обществе. Но после битвы при Сорау все меняется. Враги пользуются всеми слухами, чтобы погубить ненавистного Тренка. Его непомерное богатство вызывает зависть, а его грубость и надменность создают десятки оскорбленных, мечтающих о мести. Самые нелепые обвинения возводятся на Тренка. Против него возбуждено дисциплинарное дело: он не признает никаких судов. Императрица подписывает приказ об его аресте: в тот же вечер он с блеском появляется в театре и садится против той ложи, где находится Мария-Терезия. Тогда его арестовывают, предают военному суду, накладывают секвестр на его состояние. Газетные объявления приглашают всех, желающих подать жалобу на Тренка, явиться в суд: каждому истцу обещан дукат в день на все время процесса. Конечно, {113} являются толпы жалобщиков, и дукаты текут в их карманы из состояния Тренка.
В 1746 году в Австрию приезжает его племянник, барон Фридрих Тренк, представитель прусской ветви рода, красавец и авантюрист, известный своей связью с сестрой прусского короля, принцессой Амелией. Эта любовь навлекла на него гнев Фридриха Великого, заточение и преследования. После бегства из крепости Глац и невероятных приключений, Фридрих явился в Вену и живо заинтересовался делом дяди. В своих воспоминаниях Фридрих Тренк утверждает, будто он подкупил судей и передал им тридцать тысяч флоринов, полученных им для этой цели от барона Франца. Но очевидно эти денежные отношения были не так просты: племянник, как и дядя, отличался неразборчивостью в средствах и презрением к общепринятой морали. Во всяком случае они поссорились, Фридрих Тренк уехал в Голландию: ему предстояла фантастическая карьера в России, бурная жизнь, десятилетнее заключение в крепости и смерть на гильотине, в Париже.
После отъезда племянника, дело Франца Тренка было окончательно проиграно. Его обвиняли в сожжении городов, в святотатстве (он грабил церкви и лил золото и серебро из священной утвари), в убийствах и измене. Мария-Терезия заявила, что он заслуживает смерти, но заменила ее пожизненным заключением в Шпильберге.
Как раз в это время старая крепость у Брна, видевшая в своих стенах королей и императоров, выдержавшая военные бури средневековья и осаду шведов в эпоху тридцатилетней война, была превращена в огромное узилище. Еще и раньше она служила местом заключения, а к 1742 г. ее подвалы и каменные мешки были окончательно оборудованы для приема уголовных и политических {114} преступников. В те дни, когда барон Тренк был привезен в Шпильберг, в казематах уже томилось множество несчастных.
Тренку в виде исключения была отведена камера, у потолка которой, в тесном своде, было окошечко, выходившее в первый двор. Здесь была также и печь. Арестованному разрешалась прогулка раз в год. Каждое воскресенье его водили на мессу в белую, холодную часовню. Тогда он должен был проходить коридором, в котором слышны были стоны заключенных.
Нижние казематы были под землей. В них никогда не доходил свет. Двери в камеры были так низки, что входить в них можно было, сгибаясь в три погибели. Преступников приковывали к стене за руку, ногу и шею или пояс. Мыши и мокрицы бегали по этим живым трупам. Невыносимый смрад от человеческих испражнений и разлагающегося тела отравлял сырой воздух. Обыкновенно после шести недель пребывания в нижних казематах даже самые крепкие люди слепли и глохли, а на третий месяц умирали.
В одной большой камере все заключенные были прикованы к длинной цепи, конец которой через отверстие в стене проходил в соседнюю кордегардию: через каждые четверть часа особо назначенные для этого тюремщики дергали цепь, чтобы помешать заснуть прикованным. Это была пытка бессонницей.
Недалеко от этой камеры и поднесь еще сохранилась. небольшая темная келья с пятью нишами в стенах: сюда за шею и талию приковывали, вернее замуровывали неверных жен – и здесь они погибали от голода.
В застенке – колеса и блоки, дыбы, лестница, на которой растягивали пытаемых. Тем, кто висел на дыбе, {115} привешивали к ногам гири – в 25 и 36 фунтов. Упорствующим надевали на голову раскаленный обруч, кричавшим чересчур громко в рот вставляли испанский кляп с перцем. За печью, в которой раскаливали щипцы – дверь – за ней яма, куда сбрасывали трупы.
Барона Тренка провели, вероятно, и мимо маленьких клетушек в нижнем подвале, в потолке которых было особое отверстие: через него на голову скованного арестанта медленно лили ледяную воду – до сумасшествия.
Шпильберг сломил Франца фон Тренка. Ему было лишь З8 лет, когда в 1749 г. он заболел и почувствовал приближение смерти. Императрица велела смягчить суровый режим арестанта. Одетый в монашескую рясу, с тонзурой на голове, Тренк исповедался в своих грехах в присутствии офицеров гарнизона и предсказал, что умрет 4-го октября.
В этот день, по рассказу племянника, он все утро молился, стоя на коленях. В полдень он посмотрел на часы и произнес: "Слава Богу, последний час приближается". Присутствующие недоверчиво улыбались. Его лицо побледнело. Он сел за стол, опустил голову на руки и зашептал молитву. Не двигаясь, с открытыми глазами, он просидел так до полудня. Раздались двенадцать ударов. Он не шевелился. С ним заговорили: он был мертв.
Его воля была выполнена: его положили в гроб вместе с цепями и похоронили в Брне в часовне Капуцинского храма, которому он оставил большие деньги для того, чтобы каждую пятницу о нем служили заупокойную обедню. Ее и по сей день служат благочестивые монахи, а в часовне при Шпильберге висит портрет Тренка, сделанный в прошлом столетии. Он изображен там гигантом с белокурыми усами и упорным ртом. На нем шаровары, за {116} поясом турецкая сабля, кинжал и пистолеты. Тяжело и холодно смотрят ого светлые глаза, надменен поворот головы, и нежная белая рука едва касается широкого пояса.
(дополнение; ldn-knigi)
[Image005]
Franz Freiherr von der Trenck.
K. K. Obrist
–
После беседы с лордом Говартом, заявившим, что он предпочитает быть повешенным в Англии, чем быть заключенным в тюрьму в Австрии, Иосиф II посетил, Шпильберг и велел на час запереть себя в одном из казематов, где заживо погребали преступников. Этого часа было достаточно для австрийского императора, чтобы немедленно издать приказ о закрытии нижних казематов и переводе заключенных в верхние – расположенные в ряд с камерой Тренка.
Как раз накануне французской революции (в 1788 г.) произошло это смягчение режима в австрийской Бастилии. Шпильберг все еще оставался крепостью. Но в 1809 г. Наполеон взорвал крепостные сооружения – и с тех пор Шпильберг стал исключительно тюрьмой. Его окружили глубокие рвы и стены, вокруг холма, на котором он возвышался, была расположена стража. Со всех концов империи в Шпильберг свозили преступников – и прежде всего тех, кто в годы владычества Священного Союза, поддерживавшего штыками троны и алтари, осмеливался мечтать о свободе человека и независимости народов.
Когда в Италии началось движение карбонаров, из Неаполя и Венеции, из Милана и Модены стали прибывать в Шпильберг схваченные Австрией заговорщики. Неаполитанская красавица графиня Аделаида Филанджиери первая вступила под своды Шпильберга в 1816 г. Ей позволили иметь служанку в соседней камере и даже разрешили спать на подушке. Подобных милостей уже не оказывали тем, кто вскоре за ней последовал.
{117} В 1820 и 1821 г. после революции в Неаполитанском королевстве и либерального движения в Пьемонте, по всей северной Италии начались аресты молодых карбонаров. Они подготовляли восстание против Австрии во имя независимости Италии. Порабощенную родину на своем языке заговорщиков называли они лесом, наполненном волками, и хотели разжечь уголь (carbone), чтобы огнем и дымом отогнать диких зверей. Для этого и собирались "добрые братья" в своих кружках, носивших имя хижин или "лавок для продажи угля".
Большинство арестованных было приговорено к смертной казни, замененной потом заключением в Шпильберге или в Люблянах.
В Милане приговор читали у виселицы, и палач прибил его к перекладине. Три дня стояла виселица, и народ повторял имена осужденных, шепотом передавая о том, как бежал граф Луиджи Порро и как не захотел спасаться бегством граф Гонфалоньери: ему и Адриани читали приговор на площади перед дворцом правосудия. Жена, которую страстно любил Гонфалоньери, из толпы смотрела на мужа, цепями прикованного к стене дворца.
А в Венеции приговор читали на Пьяцетта, возле площади св. Марка. С непокрытой головой слушал его поэт Сильвио Пеллико, страстный деятель революции Пьетро Марончелли и его друзья. Одного не хватало – учителя Ресси: он умер за два дня до приговора, но император приказал, чтобы его имя было включено в судебную бумагу.
В марте 1822 года в двух возках, окруженных конной стражей, Пеллико и его товарищи отправились в путь. У венецианской границы, на заре, они увидали карету, следовавшую на некотором расстоянии за их возками: из окошечка ее развевался белый платок. Так {118} простилась с Пеллико его невеста, артистка Тереза Маркиони, которой никогда он больше не видел.
В каземат, в котором поместили Пеллико, свет едва проникал из маленького, забранного решеткой окошечка, пробитого в толстой стене у самого потолка: он выходил на двор в уровень с землей. От сырости, от огромной цепи, к которой он был прикован за ногу, от спанья на доске, положенной на деревянные козла, от ужасной пищи Пеллико вскоре заболел. В промежутках между тремя обысками, которым ежедневно подвергался и каземат и арестант, он в лихорадке бредил, сочинял стихи и вспоминал свою тюрьму под свинцовой крышей палаццо Дожей. Там из окна он видел каналы и людей, туда приходили на свидание друзья. Здесь не было никого, кроме старого тюремщика, которого по насмешке судьбы звали как и творца "Дон Карлоса" и "Разбойников" – Шиллером.
Когда Пеллико оказался при смерти, его перевели из подвала в первый этаж. И здесь было мало света: но вскарабкавшись по стене и схватившись руками за решетку, узник видел долину, крыши Брно и кладбище Шпильберга. Ему удалось даже разговаривать с заключенным в соседней камере графом Антонио Оробони, в уме которого карбонаризм и христианство сливались в единую религию. Вскоре Оробони упокоился на том самом кладбище, которое он прежде видел из своего оконца.
Родные и друзья неустанно хлопотали за Пеллико, и ему были разрешены маленькие льготы: с 1825 года по вечерам, в коридоре, за "глазком" двери прикрепляли маслянную плошку, и се неверное пламя хоть чуточку рассеивало кромешный мрак камеры.
На пятый год заключения Пеллико дали подушку, – вместе с кувшином, столом и досками для спанья составляла она имущество узника. {119} На прогулках или от тюремщиков, с которыми он сдружился, Пеллико узнавал, вероятно, о новоприбывших и умерших: о приезде Тривульцио или Гонфалоньери, о смерти Вилла, погибшего, несмотря на атлетическое сложение.
Все узники были так больны, что начальство решило поместить их по двое в каждой камере: таким образом они могли помогать друг другу. Особенно мучился заключенный вместе с Пеллико Марончелли: ему отрезали ногу, все тело его было покрыто ранами. Через несколько лет после освобождения он сошел с ума, и умер в Нью Йорке слепым и безумцем.
Пеллико освободили в тот самый 1830 год, когда от горя умерла жена Гонфалоньери, Тереза Казати.
Он вышел из тюрьмы сломленным и разбитым, вспоминая с умилением доброго Шиллера и чехов Краля и аббата Врбу, с которыми он сдружился. Он думал теперь уже не о борьбе, а о Боге, о смирении и проповедывал, законы прощения и милосердия.
Опять полицейская карета везла итальянцев по дорогам Моравии – к Вене, а потом дальше – через горы – к венецианской равнине – но за десять лет тюрьмы все так изменилось, что они не узнавали ни людей, ни городов, и отчужденность жизни была для них страшнее гробового однообразия шпильберговских казематов.
А вместо освобожденных уже везли к брненскому холму новых заговорщиков – членов "Молодой Италии". И из той самой камеры, где был Пеллико, новые узники видели, как на тюремном кладбище роют могилы для Моретти и Альбертини. А в 1845 г., когда население Шпильберга увеличилось 150 польскими революционерами, был похоронен еще один итальянец – Винценти.
Через десять лет закончилась история Шпильберга {120} – тюрьмы. Шпильберг был превращен в казарму. Только во время войны 1914-1918 г. г. в нем содержались чехи, арестованные за борьбу в пользу независимости. Но их камеры были в здании казармы.
В огромном парке, разросшемся сейчас на склонах Шпильберга, на памятнике с римской волчицей начертаны имена итальянских мучеников. А на крепостной стене высечены слова о том, что из этих темниц, освященное мученичеством, пришло итальянское освобождение. И памятник, и мраморные доски, и комната где хранятся портреты, документы, кувшин Пеллико и доски его ложа – все это было создано теперь, когда пришло и чешское возрождение и когда твердыня австрийского владычества превратилась в исторический музей.
По расчищенным аллеям парка ездят детские колясочки. Школьники играют вокруг клумб с пестрыми астрами и пионами. Над крышами Брна возвышается колокольня Капуцинского храма, в котором погребен Тренк.
Через крепостные ворота – по узкой лестнице – к казематам, в первый двор. Сторож со связкой огромных ключей ждет, как тюремщик. Кривое дерево, мучительно изогнувшись, умирает перед узкими отверстиями тюремных окон.
Скрипит дверь, по выщербленным ступеням спускаемся вниз, проводник зажигает фонарь, затхлой тьмой охватывают нас шпильберговские казематы. {121}
ПОЛЕ СЛАВЫ
Le cavalier promene un sabre qui flamboie
Sur ies foules sans nom que sa monture broie
Et parcourt, соmmе un prince, inspectant sa
maison
Le cimetiere immense et froid sans
horizon..
Baudelaire.
Закат был облачный, темно кровавый. От Понетовиц, по обе стороны дороги, холмы выгибали свои широкие полосатые спины. Я шел мимо распаханных полей. Между редких деревьев все выше и все ближе становилась колокольня на Працене. Босая девочка гнала хворостиной стадо глупых белых гусей. Мальчишки бегали друг за другом у самой церковной ограды. Мимо стены сельского кладбища, заросшей тропинкой подымался я в гору – и после часового пути, над дорогой встал огромный памятник "Могилы мира".
На самом верху Працена стоит часовня. От широкого ее основания, сужаясь к вершине, бегут стены – и вверху – на черной маковке – крест старинного образца. Лампады чуть тлеют за решеткой часовни. Застыли статуи на вытянутых ее краях. И надписи на разных языках говорят о тысячах французов, русских и австрийцев, похороненных и на этой высоте, и там, в долине, {122} куда с соседних холмов шли наполеоновские полки. Вон горка, где утром стоял Наполеон, пытаясь разглядеть – что там, внизу, в тумане. Отсюда, из-за этого холма на котором крест венчает сейчас поминальную часовню – ослепительное и прекрасное взошло солнце Аустерлица – и первые его лучи засверкали на штыках дивизий Удино и Сент-Илера.
Пушка, из которой был дан сигнал к наступлению русским колоннам Дохтурова и Ланжерона, стояла возле Праценской церкви – и по той же дороге, по которой я пришел сюда, в тумане долины, невидимые друг другу, двигались союзные и французские войска.
Нa этих холмах, на этих полях двести тысяч человек дрались с раннего утра до полудня. Здесь решалась судьба Наполеона – императора, как на полях Маренго – Наполеона-Консула.
Когда все было кончено, когда двенадцать тысяч трупов лежало на праценских склонах, в долине Уезда, между озерами Блажовиц и Иржиковиц, Наполеон в сером плаще проехал к городу Славкову, который немцы называли Аустерлицом. За ним везли его железную походную кровать. В корчме Гандиц, у Лишны, ночевал он на ней в ночь перед сражением. А в ночь после победы, в замке графа Кауница, в Славкове на пышном ложе спал он в комнате с расписными потолками и высокими окнами.
На одной школьной выставке, – в Брне, я видел сочинение двенадцатилетней чешской девочки о битве при Аустерлице. "2-го декабря 1805 г., написала она, было большое сражение у Славкова. В нем участвовало три императора: русский, французский и австрийский. После битвы они сошлись и заключили мир. Убитых и раненых было очень много. Больше ничего".
Я вспомнил это сочинение, стоя на Праценской {123} вершине через 120 лет после битвы у Славкова. На стенах часовни были надписи о вечной памяти и мире. В Кауницевских хоромах, при свечах, писал Наполеон свой приказ: "солдаты – достаточно будет сказать вам "я был у Аустерлица", чтобы услышать: "вот герой". А скоро и имя Аустерлица будет известно только историкам, и вот уже в том самом Брно, где жил два месяца Наполеон, вчера не знали, что Славков – это Аустерлиц.
Память – эта часовня с золотыми буквами на мраморных досках. О душах погибших молятся слова надписей: "упокоиться дай им, Господи, да светит им вечный свет, и в мире да спят они".
А мир – кругом.
Тишина такая, точно века уж здесь исполинская могила. Над темно-рыжими и бурыми полями встает предвечерний туман. Чернеют перелески – туда, к дороге – по которой тогда возили в Брно раненых.
Направо, у карликовых домиков Працена крестьянин в шляпе пашет землю на откормленных конях И кроме него – ни души – и тополя при дороге вздрагивают от вечернего ветра.
В комнате у сторожки, где ребенок в красной кофточке играет с черным котом – музей. Здесь пули и гранаты, пушечные ядра – и пуговицы, и зубы, и черепа. Черепов немного. Несколько костей, десяток подков – все, что осталось от 22 братских могил, куда сложили тела друзей и врагов после битвы при Славкове. И русские нательные кресты остались, бедные и богатые, и несколько образков, почерневших от земли и тления. И на кусочке кожи клочок – единственный – каштановых волос. "Больше ничего", как написала маленькая девочка.
А на досках часовни, тем, от кого не осталось и горсти праха – обещают восстание в день гнева, в день {124} суда, когда труба взыграет над кладбищем миллионов. Средневековая латынь просит Бога о прощении, о покое, о сне вечном.
Крестьянин с лошадьми едет домой. По жнивью темнеют комья навоза. Сумерки. Едва слышен легкий шелест мелкого дождя. Туман, как тогда, ползет долиной. Ни огня, ни тени над полосами хлеба, над спящими и темными рощами. Уже не видны придорожные тополя. От дальних холмов движется ночь.
Это и есть поле Аустерлица, поле славы.