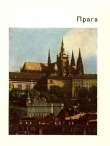Текст книги "По золотой тропе - Чехословацкие впечатления"
Автор книги: Марк Слоним
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
И тут же рыцарь.
У одной из каменных свай Карлова моста стоит на узком цоколе статуя рыцаря с подъятым мечом. Узкое, женственное лицо полно строгой силы; из под шлема выбиваются ореолом тонкие кудри. Сжат печальный, маленький рот. Как копье, вздет меч, как копье – юношески тонкое, стройное тело. Весной и меч и шлем скрыты в {26} листьях деревьев; осененный зеленью, мягче глядит рыцарь, птицы вьют гнезда в сгибе его локтя, не боясь острого меча.
Кто он, этот Хранитель вод? Роланд или легендарный Брунцвик, меч которого сек головы всем врагам? Или же только Сторожевой– и он оберегает реку и берега, глухую заводь каналов, и эти бедные домики с мадонной и лампадкой и красным, трепещущим в ночи огоньком.
В сумерки молодые девушки подолгу глядят на статую – и своего возлюбленного видит каждая в тонком и изменчивом лике Пражского Рыцаря.
–
От Чертовки, мимо садов и стен, можно переулками пройти к Велкопшеровской площади с ее величавыми дворцами XVIII века. А за углом владения мальтийских рыцарей.
Орденская церковь подчеркивает правильностью линий точные пропорции площади. Над дверью двухэтажного дома, где когда то собирались розенкрейцеры и масоны, – белый крест с раструбами, в темном камне над крестом – корона, а над ней бокал с цветами.
Площадь тиха. Не показываются на ней кавалеры со шпагами, у ворот не стучат молотком люди с бледными лицами, полными решимости и вдохновения, а вечерами не громыхают кареты, привозившие аббатов на тайные собрания братства. А по ночам уже не скачет сюда из Лилиовой улицы безглазый всадник на белом коне, в белом плаще – рыцарь храмовник, преданный за богохульство казни и проклятию.
Немного ниже мальтийского храма, площадь с низкими, точно в подвал спускающимися сводами длинной галереи. Выветрился желтый камень аркад; под {27} сводами – зеленые двери и выцветшие ставни у подслеповатых окошечек. На грязных подоконниках хилые цветы. По утрам, вместо цветов – подушки и пудовые перины. У каждого поворота галереи старухи продают сморщенные яблоки, пыльные леденцы и пряничные сердца с голубой глазурью.
Через две улочки – Малостранская площадь.
Над широким храмом св. Николая – зеленая крыша, зеленый купол и барочная башня. С одной стороны примкнули к нему старинные здания с треугольными фронтонами и дворец с зеркальными окнами. А с другой раскрылась площадь.
Все в ней неправильно: она идет в гору, неровно; дома и дворцы окружают ее прерывистой линией; аркады и проходы образуют вокруг нее сплошную галерею. От нее во все стороны вверх, по холму, тянутся узкие улички с домами, на которых красуются каменные знаки: тройка червей, скрипка, три колокольчика. В этом доме и были три колокольчика: в один звонили к трапезе, в другой к молитве; третий возвещал о смерти.
На Малой Стране жили графы и чародеи, честные ремесленники и грешные красавицы. На ее улицах сохранились дворы XVI и XVII столетий, с внутренними галереями, лестницами и лоджиями. О некоторых из них ходят страшные рассказы. Вон тут по ночам блуждает дух монахини: за нарушение обета целомудрия ее живой замуровали в келье монастыря, который выходил на Малостранскую площадь, и до сих пор тоскует грешная душа, не примиренная с Богом. Вон там неверная жена вбила гвоздь в голову мужа: по ночам он стонет в заброшенном доме. За углом, в кабачке, во время мора и голода, поразившего Прагу, скучающий старый могильщик играл в карты с мертвецами, пока не пал бездыханный. Сюда {28} на своем плаще самолете прилетал доктор Китл, продавший душу дьяволу и умевший исцелять все недуги, а злых духов обращать в ворон.
А на самой Малостранской площади стоит дом князей Лихтенштейнских: проломав крышу, вытащил из него Сатана красавицу княжну, отдавшуюся дьяволу, чтобы навеки сохранить свою красоту.
На Малой Стране пребывала знать. Сохранился еще дом "У Монтагю", в котором в XVII столетии собирались чешские дворяне заговорщики. После Белой Горы Прагу заполнили графы и князья австрийской короны, немецкой или венгерской крови. По всей Малой Стране разбросаны их дворцы XVII и XVIII века с кариатидами под великолепными порталами, с усеченными арками, над высокими окнами, со сложными рядами коринфских капителиев над пилястрами и толстыми колоннами. Гигантские орлы с хищными клювами стерегут дворец графа Туна, выстроенный итальянцами. Рядом с крыльями, распростертыми у входа, на овальных лукарнах сверкают крестом паутинные рамы.
В торжественный вход дворца Лобковица виден сад, фонтаны, лестницы, ведущие к парадным покоям.
В этих дворцах умирал итальянский Ренессанс. Еще до Белой Горы, Рудольф II, король меценат и безумец, влюбленный во флорентинку Катарину Страда, призвал в Прагу тосканцев, принесших с собой соединение грации и силы, стройные пропорции арок и умение возводить дворцы из грубых глыб необтесанного камня. За ними последовали генуэзцы, славившиеся искусством построения лестниц и лепкой карнизов.
Именно в Праге высокий Ренессанс медленно переходил в великолепный барокко. Нигде в Европе нет таких замечательных памятников барочной архитектуры, как на {29} этих холмах Малой Страны, где полководцы тридцатилетней войны, князья империи и австрийские придворные строили свои жилища или же прибивали свои гербы к переделанным старым дворцам. Чтобы возвести свой дворец, Валленштейн приказал снести 23 дома. Шесть лет строили итальянцы это огромное здание, отведенное теперь, как и большинство дворцов Малой Страны, под правительственные учреждения.
В двусветных залах этого дворца некогда устраивались балы и празднества. В жаркие июльские ночи в парк спускались гости. Впереди шел сам Валленштейн, с грозным лицом вояки и невыносимым взглядом черных глаз. Перед ним склоняли свои головы с шляпами в перьях старые рубаки и собутыльники Тилле и Пиколюмини, Гаррах и Галлас. Тяжкой поступью шагал военачальник; не знало улыбки его каменное лицо, – и смолкали речи при его приближении. Но когда вглубь аллеи удалялась тень гиганта с безмолвной женой, щеголи в сапогах раструбами, в полосатых бархатных одеяниях, нашептывали дамам остроты и любезности, сжимая грубою рукой в кружевной манжете рукоять меча, почерневшего от тридцатилетней крови. Под звуки виолы, скрипки и клавесина, звеневшие из раскрытых окон, при свете маслянных плошек и венецианских фонарей, мерные плясали танцы на траве лужаек, и вспыхивающие огни фейерверка на миг серебрили струи фонтана. Исполинские вензеля победно заполняли звездное небо. Из беседки на острове смотрел Валленштейн, как в водах искусственного озера гасло золото его имени.
... А сейчас тишина и пустота в парке Валленштейна. В огромной лоджии горячатся кони на фресках, изображающих битвы и победы, и по углам суровые воители, сподвижники полководца, хранят угрюмое молчание. На {30} потолке ярятся морские чудовища и улыбаются богини, но краски поблекли и нежива розовая нагота Венеры. Стены осыпаются, на бронзе статуй паутина, пыль небрежения лежит на огромных вазах. Иссякла вода бассейна, дырявые доски закрыли фонтан, с шумом вылетают птицы из опустевших гротов. Тишиной и запустением дышит сад Валленштейна, того, кто владел Германией и Богемией, швырял золотом и армиями, опустошал земли и воздвигал царства – и пал под ударами алебарды, от руки былых соратников в опочивальне Эгерского замка.
–
Широкими, отлогими ступенями идет улица – лестницей к Граду. Весной со стен садов и дворов свешиваются глицинии, а осенью красные листья винограда. По ночам, когда вдали тлеющими кружками и фонарными змеями светит Прага, здесь мелькают тени, тесно прижавшись друг к другу.
Со Старой Замковой Лестницы в ясные дни открывается панорама, напоминающая флорентийскую. В светло голубое, почти пепельное небо подъяты бесчисленные острия церковных колоколен, башенные копья, темные иглы высоких домов. Над скученным собранием островерхих крыш, над треугольниками кровель и украшений, возносится купол Музея, а над разлинованными кварталами скучно-буржуазных Виноград – готические взлеты собора св. Людмилы. По мостам, переброшенным через светло зеленую Влтаву ползут муравьями прохожие и заводными игрушками трамваи. И еще: темные купы островов, белая пена у плотины, маленькие лодки с полуголыми гребцами – и во весь охват взора – эта населенная, взволнованная пражская долина, которую обрамляют темно-синие, невысокие холмы Чехии.
{31} Такой предстает Прага, если смотреть на нее из амбразуры старого бастиона, у ворот в Град, где заржавевшие пушки уставили свои жерла на город. Такой видна она и из знаменитой "Златой Студнички", – с террасы, куда ход вьется по внутренним лестницам старых домов, мимо кухонь и спален с открытыми дверьми, по коридорам – чуть-чуть не по чужим квартирам. Дома тут идут уступами, один над другим, и лестница все ползет вверх и вверх. Под самым Градом – терраса "Студнички": она прислонилась к крепостной стене, а впереди – деревья, сады, бегущие вниз. Половые с цветными салфетками под мышкой едва успевают менять кружки пива, делая карандашные отметки на картонной подставке. Сколько черточек – столько и кружек выпил добрый пражский патриот, или очарованный столицей приезжий. Те, у кого число черточек перевалило за полдюжины, на "Златой Студничке" и заканчивают свой осмотр Градчан. Другие, обладающие ясной головой и крепкими ногами, идут дальше, вверх.
На Градчанской площади, той самой, где собирались советы вассалов и князей, где чинили суд короли богемские, почти безраздельно царит Италия. "Тосканский палац" с его правильным чередованием архитектурных рядов и полукруглой аркой входов и окон, построен, на подобие флорентийских дворцов Строцци и Медичи, из массивных глыб необтесанного камня ("pietra rustiсa"), несколько уменьшающихся в объеме с каждым этажом.
Налево от Тосканского дворца – дворец Шварценберга, выдержанный в духе Ренессанса, с теми серо-черными или желтоватыми узорами на стенах, которые в Италии получили название "sgrafitto".
В воскресное утро из окон светло-желтого архиепископского дома XVIII века с его легкими колонками под {32} балконом кованного железа, – по всей площади разносятся тягучие звуки органа, и в садике собираются кучки слушателей.
Но прошли времена, когда Рим диктовал свою волю чешскому Кремлю. Нет австрийских орлов над железной решеткой Града. На тонких мачтах первого двора взлетают бело-красные флаги Республики. Часовые застыли в проезде, у парадных белых дверей президентского дома.
Сводчатые проходы – точно в крепости – ведут во внутренние дворы. Град несколько напоминает Ватикан в миниатюре: тяжелые стены, сотни окон, величие огромности и силы, великолепные залы с фресками и лепными потолками, где на президентских раутах свободно движется тысяча человек, парадные покои со старинной мебелью, ходы, переходы, десятки зданий и пристроек, соединенных в одно целое. Крепость и дворец, Град всегда был особым городком, вознесенным над Прагой. Кто бы ни был его хозяином – чешские короли или австрийские наместники – Град всегда был символом власти и местом, где жили правители. И сейчас в Граде – президент и различные министерства.
Традиция чешской короны возродилась в древнем пражском Кремле. Внутри Града, в сотнях его комнат, есть множество произведений искусства, великолепных гобеленов и картин, ваз и скульптурных украшений. Раскопки у его стен приносят любопытные археологические неожиданности. Но интереснее всего Град, как некое архитектурное целое, действующее своими размерами и единством, своей державностью – настоящей, идущей из века в век, и как бы запечатленной этими поколениями князей, императоров и правителей, обитавших в его стенах.
Во втором дворе, перед одним из самых замечательных готических соборов Европы – храмом св. Вита, – {33} Георгий Победоносец на вздыбленном коне бронзовым копьем поражает неистового дракона. От зубчатых, невыносимо прямых и высоких башен и шпилей собора – тень. Здесь не бывает солнца: сыро, полутемно, как в ущельи.
Внутри собора, под стрельчатыми сводами – тусклое тление лампад, старинное золото распятий, обесцвеченные лучи дня, пропущенные сквозь разноцветные витражи узких, длинных окон. Гробницы и алтари покрыты фигурами, украшеньями и венками. За искусной железной решеткоймногостатуйный мавзолей Рудольфа II и королевы Анны и скульптурные медальоны чешских королей. Перед темными ликами Мадонн и святых в приделах, не мигая, стынет огонь восковых свечей. В благолепной тишине раздается только легкий стук шагов по деревянной настилке, берегущей мозаику пола. Церковный сторож ведет иностранцев в капеллу св. Вацлава, чтобы показать бронзовое кольцо и драгоценности чешской короны.
Тесная уличка обегает собор св. Вита. Он сжат в ограде угрюмых домов.
В одном из них, – старая харчевня. На деревянных лавках ее закопченных зал сиживали чешские поэты и писатели прошлого столетия. Здесь Неруда, живший неподалеку, в улице, носящей теперь его имя, обдумывал свои рассказы о мещанских идиллиях и горестях Малой Страны. Здесь юноши эпохи бури и, натиска, под благосклонным взором тучного трактирщика, клялись в дружбе друг другу и в верности родной земле. Потрескавшееся полотно картин и охотничьи трофеи на стенах внимали речам патриотов в сиреневых фраках и желтых панталонах. Ночью, разгоряченные пивом, дымом трубок и молодостью, они бродили вокруг Града, к неудовольствию австрийских часовых. Сыростью дышал ров, окружающий Градчаны. В {34} XVI веке в яме его были львы – по преданию, сюда была брошена перчатка, воспетая Шиллером.
Осенью, когда ветер свистел в сучьях градчанского парка, они вспоминали сказание о Драгомире, матери св. Вацлава: по ночам, в адском экипаже, запряженном дикими конями, ездит языческая княгиня вокруг Града и кричит страшным голосом: "быть беде".
Недалеко от собора, узкая щель между стен и домов ведет в уличку, такую узкую, что четверым не разойтись. Игрушечные домики, построенные для кукол или карликов, с оконцами в человеческую голову, прислонились к крепостной стене. Предание говорит, будто эти фантастические жилища были выстроены в эпоху Рудольфа II для алхимиков и магов, которых так жаловал коронованный друг Тихо де Браге. И называется уличка "Золотой" потому что в ней жили чародеи, знавшие секрет искусственного золота.
Предание это неверно. Но легко вообразить тайные лаборатории в этих клетушках, где седобородые звездочеты искали философский камень и жизненный эликсир и корпели над склянками и плавильнями. Они прозревали истину в синем пламени химических соединений и читали судьбы людей в сумасбродстве кометы.
И сейчас, в одном из домиков, верная традициям улицы, проживает женщина, именующая себя "madame de Thebe". В крохотной комнатке, где едва помещается грузное тело гадалки, изгибает спину черный кот. У оконца, заставленного горшками с гвоздикой, на шесте кричит облезлый попугай. На стол, покрытый выцветшим бархатом, бросает гадалка замусоленные карты и равнодушным голосом возвещает письма, дальнюю дорогу и бубновую любовь.
У самого выхода из Града над Оленьим рвом – {35} круглая башня. В ней при Владиславе Яггеллоне был якобы заключен рыцарь Далигбор, известный своими насилиями и разбоем. В каменном мешке научился он так чудесно играть на скрипке, что, слушая его, народ толпился у башни, а дочь тюремщика влюбилась в преступника. Его казнили на бастионе, над Старой Замковой Лестницей, и с тех пор зовут башню Далиборкой, я по ночам до прохожих вместе с ветром доносятся глухие стоны скрипки...
...Сумерки спускаются, опутывают Далиборку, Злату уличку, старую Прагу. Надо возвращаться домой, в город. Еще несколько шагов по другой лестнице, потом по Итальянской улице – и нет больше легенд и духов.
Трамвай звенит, дребезжит. Пивные, рестораны, кинематографы. Стены фабрик, каменные однообразье многосемейных домов, запах варева и пота, унылая ограда электрической станции – Смихов. Туда, за вокзалом – пустыри и свалки, немощеные улицы, оголенность рабочей окраины.
За мостом, соединяющим Смихов со старым городом – Карлова площадь, клиники и больницы, студенческие кофейни, где раздаются песни словаков и мораван.
Там крепнет молодое поколение. Оно знает о трагедиях и унижениях из книг и учебников. Оно уверено в себе и своей силе. Ему дела нет до закоулков Малой Страны и ветхих письмен истории. Придет день, и оно разрушит старые дворцы и стрельчатые башни ради американских универсальных магазинов и банков c несгораемыми ящиками.
И в час, когда безлюдеют древние площади и молчат дворцы и аркады, все ярче разгораются огни у Пороховой Башни. Все новые и новые толпы притекают к Вацлавскому намести, – и снова начинается та, другая, пражская прогулка по торжествующим улицам столицы. {36}
ВЕСЕЛАЯ БРАТИСЛАВА
Во всяком порядочном путеводителе написано о том, что в Братиславе жили короли и папы, что здесь был Наполеон и что мир, заключенный после Аустерлица, носит немецкое имя Братиславы – пресбургского. Все это совершенно неважно. Конечно, любитель старины или ученый найдут для себя немало поживы на древних улицах города и в его архивах. Но сколько бы ни стояло памятников прошлого на братиславских площадях, – она город нисколько не исторический. В ней всегда история побеждена современностью. А башни эпохи возрождения, епископские дворцы и старинные здания только говорят прохожему: "короны и тиары вас уже не забавляют, а доброе вино веселит вас так же, как и наших современников. И самое главное – радость земли и жизни, которая пьянила и во времена Авиньонского пленения, и в дни Наполеона, и в ваши буйные годы суеты и свободы".
В кольце золотых садов, окруженная цветущими холмами, на берегу Дуная лежит Братислава, и сотни лет ведет она бойкую торговлю с Востоком и Западом. Оттого ли, что жила она всегда в достатке, от смешения ли венгров, словаков, немцев, евреев и цыган, но под этим щедрым солнцем получилась какая то особая, легкая и горячая кровь. В других городах – дух трагедий и {37} борьбы, суровое величие прошлого: а в Братиславе не видать старых ран, забыты всякие тревоги – цветной каруселью вертится жизнь – и от пестрого мелькания спиц не замечаешь ни труда, ни горя, ни усилий мысли. В ее университетах учатся студенты, великолепные дома воздвигают на ее набережных, где то читают лекции и серьезно увлекаются политикой и наукой но это все в глубине дома, а гость увидит только нарядный фасад, прелесть изящных украшений – вновь со звоном вертится веселое колесо.
Всякий раз, приезжая в Братиславу, думаешь, что, попал в праздник.
Через узкие проходы Михальской башни, по наивному мостику над садом безостановочно льется толпа в кривые улички старого города. Извозчикам и автомобилям запрещено проезжать здесь в полдень и перед сумерками, когда и по тротуарам и по мостовой движутся тысячи людей. Нельзя и назвать даже улицами этот асфальтовый двор с закоулками, этот сплошной пассаж, ведущий к берегу Дуная. Это место для гулянья, встреч и разговоров. Здесь ходят, не спеша, перекликаясь со знакомыми. По обеим сторонам этого бального зала соблазнительные витрины: дамские чулки, мужские галстуки, ананасы и печенья, ожерелья и браслеты. Все блестит и сверкает, магазины великолепны, яркие фонари светят по столичному, не скажешь, что в Братиславе всего сто тысяч жителей.
Воздух обильно напоен запахами духов и плодов, которые продают тут же: в подъездах на длинных лавках груды винограда, груш, слив, шоколад, конфекты. На каждом шагу кондитерские, кофейни, магазины съестных припасов. Выставлено все для наслаждения чрева, для обольщения вещами, плодами земли, ухищреньями рук. {38} Даже душно становится от этого земного обилия, от этой плотской тяжести.
Смуглые мадьярки, покачивая бедрами, проходят с кошачьей ленью и беспечностью. Хорошенькие подростки в коротких юбках, бросая шельмовские взгляды и выпячивая грудь, бегут в поперечные улички. За их бойкими каблучками устремляются молодые военные в фуражках с огромными козырьками и атлетические студенты без шляп в широченных брюках. Медленно проходят изящные дамы в мехах: за ними на почтительном отдалении следуют господа с тросточками.
Из окна дома, положив подушки на подоконники, чтоб можно было опереть руки или навалиться грудью, старики с явным удовольствием взирают на этот ежедневный театр, в котором тысячи статистов разыгрывают пантомиму преследования, вожделения, беззаботности и легкомыслия.
А у Дуная – новое гулянье: по бульвару, как на параде, одна за другой прохаживаются нарядные пары. Здесь одиночество возможно лишь временное: до или после встречи. За невысокой балюстрадой – мутные волны широкой реки. Белые пароходики беспрестанно перевозят народ на другой берег, где в парках и садах зажигаются гостеприимные огни кофеен и ресторанов.
Парные экипажи, автомобили, до остервенения трубящие беспечным прохожим, едут вниз по набережной, к узкой дамбе, по которой гуляют солдаты с пышногрудыми девицами.
На холме – заброшенная крепость с впадинами пустых окон и разрушенными башнями. Под крепостной стеной – маленькие домики. Здесь мужчинам проходить опасно. У каждой подворотни женщины устрашающего вида и размеров зазывают встречных, обещая им {39} недолгие, но крепкие объятья. Некоторые, для удобства, выносят перед домом стул и читают газету или штопают чулки, отрываясь от работы лишь тогда, когда в начале улички покажется солдат или безусый парень. Лица их не знают ни румян, ни пудры: откровенно и естественно темнеют на них синяки и следы болезней.
Отсюда вниз, к центру, через еврейский квартал, пахнущий кожей, луком и рыбой, ведут такие горбатые улички, с такими зияющими проходами, темными дворами и подозрительными кофейнями, что на первый взгляд каждый дом кажется вертепом или разбойничьим притоном. Но на самом деле все здесь очень мирно и семейно, и о разбойниках и в помине нет. На одной из самых страшных дверей на клочке бумаги объявляется, что "приличному еврейскому мужчине в отличной семье сдается в наем кровать" – о размерах семьи ничего не сообщается. На другой обещают обучать танцам и пенью лиц обоего пола, при условии, что они будут соблюдать приличия в танцклассе. А над третьей красуется даже вывеска частного бюро для розысков и борьбы с преступниками. Огромная синагога освящает многочисленное потомство этого квартала, с увлечением играющее в свайки и городки под ногами прохожих. А рядом с нею кресты и купола католического храма. И хоть много здесь церквей, монастырей и процессий с хоругвями, за которыми идут толпы старых женщин, – мирно уживаются в Братиславе католики и протестанты, евреи и православные. Боги здесь снисходительны и милостивы, они не требуют борьбы и жертв.
В кофейнях старого города к пяти часам нельзя достать места. В мадьярских "cavehaz"'ax в это время дым коромыслом. Здесь совершаются сделки, назначаются свидания, ведутся политические споры. Венгерский {40} торговец с тупым носом, с черными, сросшимися бровями и блестящими глазами на землистом лице, ни на миг не останавливаясь, сыпет горохом, доказывая, что-то толстому, гладко выбритому немцу. Длиннобородые евреи из Карпатской Руси, насадив на головы широкополые круглые шляпы, отбрасывая полы длинных лапсердаков или пальто, на них похожих, убеждают друг друга – громкой речью, глазами, руками, – в выгоде предполагаемой сделки. Бело-розовые упитанные чехи, попивая кофе со взбитыми сливками, добросовестно перечитывают все газеты. Черноволосые словаки с ленцой в умном взоре спорят по пустякам, постепенно разгораясь. Цыгане, похожие на мулатов, с неверной и льстивой улыбкой на толстых губах, играя перстнями, пронзая сокрушительным запахом духов, раздевающим взором оглядывают женщин, привычным жестом заправляя в рукава модного костюма грязные манжеты смятого белья.
Галицийские спекулянты лопочут быстро, невнятно, разгоряченно. И хлопает дверь, пропуская новых и новых женщин. Блистая зубами и глазами, вздрагивая задом, проходят венгерки, показывая маленькую ножку. Большеглазые еврейки поводят обнаженными плечами. Все они садятся за отдельный столик, быстро изучают поле действия, и после двух-трех улыбок, переброшенных с соседями, пересаживаются к ним, а через полчаса -выходят уже в чьем-нибудь сопровождении.
А по вечерам из кофеен в центре доносится веселый гул голосов и музыка. В самом большом братиславском кафе "Редуте" такое оживление, что с порога кажется, будто это бальный зал. Рядом с "Редутой" – через каждые два шага винный погреб, ресторан, взрывы хохота, кучки шатунов, переходящих из одного заведения в другое.
В заманчивой полутьме боковых уличек какие то {41} неожиданно яркие огни, чьи то шаги, звонкий перебор струн: все чудится, что под стеной францисканского монастыря. у этих домиков, где все появляются и исчезают шепчущиеся тени, ждет забавное и чуть дурманящее приключение.
Чем дальше от центра, тем беднее и темнее улицы. Но и на них движение и говор. Пройдешь десятка два домов, спящих за толстыми ставнями – вдруг свет, за окнами крик и скрипка. Над воротами – длинный шест, на шесте венок, "вехет". Все владельцы виноградников две недели в год имеют право у себя на дому продавать свое вино. Об этом и возвещает бахусов знак – венок на шесте, воспоминание о римских празднествах "vinalia", при сборе винограда. И как в древнюю старину веселятся жители Братиславы, попивая молодое вино под "вехетом".
В подъезде, в кухне, в жилых комнатах расставляют хозяева "вехета" некрашенные столы и скамьи. Все домашние вещи сносятся в одну комнату, остальные отведены под кратковременный кабак. Иной раз и в них приходится оставлять шкафы и зеркала, стенные часы и наспех прикрытую постель А выцветшие портреты предков или лубочное изображение какой то необыкновенной битвы всегда висят во внутренних покоях "вехета".
К десяти часам вечера "вехеты" полны. Дочери, сыновья, племянники, чады и домочадцы в фартуках торопливо цедят вино. В узкие высокие стаканы или пузатые графины льют из бутылей и бочеяков мутное молодое вино, невинное на вкус, но предательски сковывающее ноги тех, кто выказал ему излишнее доверие. Богатые посетители пьют процеженное, чуть горьковатое токайское или терпкое красное. А знатоки прихлебывают {42} густую, как ликер, двадцатилетнюю "асу" или сладкий мускат.
От винного духа, от жары у продающих красные щеки и пьяные глаза. Они отвечают на шутки гостей, ударяют по нескромным пальцам, хохочут без причины.
За столами сидят, как попало. Посыльный "красная шапка", смакует, щелкая языком, третий стакан токайского: к его отзыву о вине внимательно прислушивается сосед – почтенный старичок – член высшего суда. Рядом двое железнодорожников разложили на засаленной бумажке тонкие ломтики венгерской колбасы. Молодая девушка запивает мускатом орехи. Усатый мадьяр кричит во всю глотку – "хара децим": еще три десятых литра принесет ему крепко сбитая словачка – все у ней ходит и переливается под тонким платьем, все новоприбывшие смотрят на нее внезапно вспыхнувшим взором: вино скоро затушит его блеск.
Мальчишки разносят печенье из кокосовых орехов. Благообразный старичок в картузе, в сереньком пиджачке с тщательно заштопанными локтями, продает шоколад и анчоусы в раскрытой коробке: в каждый анчоус воткнута зубочистка вместо вилки.
Человек, до такой степени лысый, что шевелюра на голове тех, с кем он заговаривает, моментально делается неестественной, предлагают желающим измерить силу на электрическом приборе. Доверчивые люди хватают какие то пластинки и рукоятку, отдергивают руки и, на миг перешибив хмель электричеством, вновь переходят к пробе вина.
В одном углу играют в карты, хлопая ими так, что они от стола отскакивают. В другом политический спор со звоном разбитых стаканов. И тут же целуются над {43} опрокинутым графином, из которого каплет на пол красное вино.
Но внезапно в нестройный шум вехета врываются пронзительные звуки гармошки. Сам маэстро Бурьян, в бархатной куртке, с красными глазами белой мыши на одутловатом лице, своими трясущимися руками алкоголика играет романсы и арии из оперетки. Толстый венгр вторит ему на двойной гитаре, и цыган с узкими и темным лицом, раскачиваясь всем телом, томительно подыгрывает на скрипке. Кое кто подпевает. А когда раздается печально комическая песня о "Братиславе единой, месте услады, которой никак не забыть, в которой все пропил я вплоть до штанов" – весь вехет гремит диким и рьяным хором.
Собрав на тарелку редкие кроны и многочисленные "шестаки" (двадцать геллеров), музыканты отправляются в другой вехет: десятки их открыты каждый вечер. За ними уходит и часть посетителей. Теперь они будут странствовать из вехета в вехет, оценивая и разбирая качества разных вин, покамест останется у них способность сравнивать.
В вехете на Высокой улице преобладают студенты. Засев в маленькой комнатке, в которую никому нет входа, они на манер мессы распевают латинские стихи. Их dulcia carmina немало говорит о pulchris puellis. А если в вехете покажется профессор, ему устроят кошачий концерт, а потом поднесут кубок большого орла со смесью, приводящей к молниеносным результатам.
В другом вехете замысловатые пируэты выделывает почтенный толстый старик с красной шеей. Он так старательно возит ногами по полу, что все смотрят на него с одобрительным вниманием, молча и сосредоточенно. Потрепанный человек с воротничком, съехавшим на сторону, {44} сидит посередине лавки и рассказывает вслух воображаемому собеседнику, что каждый вечер он посещает все вехеты своей улицы, но несмотря на всю трудность этого занятия, не гнушается и соседними. Из дальнего угла кто-то отвечает ему: но мученик долга уже не слышит его: уронив голову, он мирно похрапывает.
На самой окраине города вехеты беднее. Порою хозяева удивительно похожи на того, как дьявол черного содержателя таверны в Триане, которого звали Лиллас Пастья. И посетители ему под стать: в оборванной одежде, но с решительными жестами. Подозрительные щеголи в ярко начищенных ботинках и ослепительных галстуках над грязной рубашкой спаивают словацких румяных парней в кожухах, расшитых цветами. Накрашенные толстые женщины подсаживаются к осоловевшим старикам, пудовыми руками обнимая апоплексические шеи.
В ночных кофейнях, куда после вехетных возлияний отправляются гуляки, всегда играет какой-нибудь знаменитый примаш. Точно с надрывом, умоляя и возмущаясь, ведет он оркестр смуглолицых некрасивых людей с горящими глазами – "la tribu prophetique aux prunelles ardentes", сказал о них Бодлер. Томительные и страстные звуки извлекают они из своих кимвалов, скрипок и цитр. Они играют простые и дикие песни с неожиданной, прерывистой и скачущей быстротой и таким же неожиданным, сладострастным замедлением, точно музыка, как страсть, – должна измучить, расти до невозможного напряжения и оборваться разом, в судороге и изнеможении, Она всегда на краю, у срыва, эта музыка, от которой горячеет кровь и сухими делаются губы.