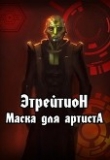Текст книги "Изобретение театра"
Автор книги: Марк Розовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Наверное, я кондовый человек. Мне хочется в каждом театральном поступке увидеть, что он есть: стремление к истине или же грех. Если это грех, то для меня сам акт творчества является очистительным, потому что мои личные житейские грехи должен смыть. Но я не священник – я именно режиссер.
– Театр МГУ «Наш дом» прочно привязал ваше имя к так называемым шестидесятникам. Что, по-вашему, отличало «шестидесятников» от их современников?
– «Шестидесятники» объединились между собой во времени и пространстве, потому что история поставила наше поколение перед определенным выбором. Жизнь страны стала иной, надо было почувствовать себя свободным. Сразу возник конфликт в обществе, потому что одни продолжали культивировать свою несвободу, оставаясь в рабстве, другие – «шестидесятники» – хотели построить мост в будущее, мост свободы, мост внутреннего раскрепощения. Вот что происходило в шестидесятые годы. Поэтому возник взрыв поэзии, сатиры, огромный интерес к театру. Поэтому уже тогда слово «самодеятельность» перестало быть для меня ругательным, потому что самостоятельная деятельность личности вела к саморазвитию общества. Но этот процесс давался «шестидесятникам» крайне тяжело.
– А что такое для вас, «шестидесятника», восьмидесятые годы?
– Шестидесятые и восьмидесятые – это годы возврата к вечным ценностям, что восьмидесятые годы с большей яростью утверждают, – вот и все отличие. Тупиковость, в которой человек сегодня находится и в нравственном и в социальном отношении, должна быть преодолена. Поэтому нынче эти проблемы перед человеком стоят еще более остро. Отсюда тяга в ценностям, которые не подвержены мимолетности. Тяга к бездогматическому академизму в искусстве, становящемуся в наши дни самым настоящим новаторством.
– Значит, принципиального различия между «шестидесятниками» и «восьмидесятниками» вы не видите?
– Мы в плену условных терминов. Эту терминологию можно употреблять только для удобства. Конечно, есть какие-то исторические привязки у каждого поколения, безусловно, есть какие-то свои черточки, оттенки и признаки, по которым можно отличить время и одежду. Но кто такой Гёте, кто такой Пушкин… Давайте Пушкина назовем «двадцатником», Лермонтова – «тридцатником». А кто будет Достоевский?.. Понятие «человек» шире. И искусство измеряется не десятилетиями. Искусство создается на века. Сущностные проблемы, стоящие перед человеком в самые разные времена, – одинаковы. Проблема внутренней свободы, проблема рабства, проблема культуры… Самое главное во все времена – это избежать насилия. Эта задача стояла и в шестидесятые годы, стоит и сейчас. Разгон демонстрации в Новочеркасске (в шестидесятые) с применением оружия очень мало, мне кажется, отличается от того, что произошло ныне весной в Грузии. Этот позор невыносим. До такой степени чудовищно, до такой степени стыдно, что непонятно, как мы можем сейчас продолжать смотреть в глаза друг другу. Это происходит рядом, а ты не можешь помочь, не в силах противостоять мракобесию. Нужно, чтобы были названы имена убийц. «Шестидесятникам» подобное не удалось. Теперь мы – «восьмидесятники» и, честное слово, обязаны сделать то, что не удалось «шестидесятникам». Надежды наши колеблемы сейчас трагедиями, типа тех, произошедших в Тбилиси…
– Страна, в которой вы и я росли и взрослели, прошла через множество кругов ада. Через наши лагеря, через фашистские лагеря, через войну, через смрад застоя… В кого нас превратили эти испытания? Кто те, для кого вы ставите спектакли, то есть зрители? Кто те, которые их играют? Кто вы?
– Ответить на эти вопросы – значит распознать себя в истории своей страны, возыметь корни в этой истории, в этой культуре. Возыметь ту базу, без которой человек не может считать себя живущим…
Та система, в которой человек жил, доказала свою бесчеловечность. В своем реально-историческом выражении она привела к низведению человека до самого низкого рабского уровня. Она сделала нас ничтожествами. Все, что нужно было, по части разрушения во всех областях, она произвела. Другое дело, что человек выжил, и он обязан был выжить. Человеческое – неубиваемо.
Искристая наигранность радостных шествий, всеобщая авиа-конно-физкультурная парадность – как далеко это бесовское верноподданничество от настоящего гражданства пушкинско-чаадаевского толка. Да увидь этот «энтузиазм» любой из декабристов, не говорю уж о Герцене или, скажем, о Достоевском или Чехове – что бы они подумали и сказали об этой ярости восторга и упоения собственным ничтожеством. Окститесь, разве о такой свободе мечтал Радищев?!. Обесценивание человеческой личности перед себестоимостью Идеи – вот откуда стартует сегодняшний бюрократизм, неотделимый от хамства, как формы обязательного изъявления «народной» воли. Тиранству необходимы темные массы, а темнота вычерпывается из чернот души. Лица наших пенсионеров – это не лица свободных людей – изможденные, перекошенные, усталые. Куда делась их энтузиастическая зубоскальность?.. Где та обещанная в тридцатые годы физкультурная выправка? Без боли нельзя смотреть на это поколение, побывавшее на параде минутку, а на лесоповале – всю жизнь. Тот, кто в согнутом состоянии находится длительное время, неминуемо теряет походку, делается горбуном поневоле. Так и мы, то есть те, кто сумел-таки выжить во время сталинщины, постепенно, медленно, но верно превращались в фантомов тоталитарной системы, и уже сталинщина начинала править бал и в быту, и в самой интимной сфере человеческого изъявления – любовь превращалась в ненависть, дружба во вражду, доброта уступала место жадности.
Если человек десятки лет продирался через огонь, воду и медные трубы, как можно от него требовать, чтобы он в один миг вырвался оттуда веселым, живым, свободным, умным, тонким?!. Его можно только жалеть. А мы продолжаем требовать от него, чтобы он обладал высшей культурой… Да в нем изначально культивировали хамство, его превращали в орудие бесчеловечного образа жизни. Он становится бедствующим рабом, воинствующим хамом.
Поэтому, когда он выходил из трубы, полной миазмов, его видели до идиотизма ободренным и гордящимся этим.
– Сейчас, кажется, мы пытаемся рассматривать механизм тиранства с разных сторон, но этого мало. Нужно учиться по-другому жить.
– Порядку, установленному тиранством, диктатурой, предстоит, на мой взгляд, пройти стадию путаницы – неразберихи, которая вырулит, рано или поздно, на просторы свободы. Боже, как сейчас много разговоров о воинах-интернационалистах. Это же беда, это горе наше. Вдумаемся. Мы говорим об интернационализме и рядом с этим святым словом ставим жуткое слово «воин». Или интернационализм – или война. Эти понятия соединять нельзя. Пора прекратить употреблять это словосочетание, которое продолжает коверкать наши души и унижает нашу нравственную позицию. Но кем-то и рассчитано было на то, чтобы нас спутать. Истинный интернационалист никогда с оружием в руках не будет навязывать свой «интернационализм». Мне кажется также, этически непотребно и пущенное в оборот слово «афганец», употребляемое не в своем основном значении, – ведь почему-то мы не называли в 1945 году красноармейцев «немцами»!.. Все это не просто лексическая неряшливость, а следствие нашей поверхностной морали, насаждаемой антинародной пропагандой. Сначала мы не задумываемся о содержании дел и формах слов, а потом удивляемся, почему в нашем обществе, с детства хором поющем «Интернационал», вместо ожидаемой «дружбы народов» махровым цветом распускается обыкновенный шовинизм и национализм.
Или еще один неуклюжий термин – «культ личности». У личности обязан быть культ. Это же прекрасно. А то, что мы называем культом личности, было культом посредственности – все одинаково серо, все подгоняемо под сапог. Был культ безличности.
– «Мост внутреннего раскрепощения», который предстоит нам построить, должен помочь человеку при помощи правового государства освободиться не только внешне, но и внутренне – выдавить-таки из себя раба. Что может здесь сделать театр?
– Делая новый спектакль, ты создаешь некий новый мир. Сказано: «Ты царь, живи один», но в театре не получается в одиночку. В театре ты постоянно наталкиваешься на чисто человеческие изъявления других людей – твоих коллег. В этих столкновениях проверяется твое собственное понимание жизни. Потому что мы все по-разному воспитываем чувство собственной свободы, которое начинается, на мой взгляд, с чувства самоуважения и вместе с тем уважения друг к другу. С умения не быть глухим, с умения самоизмениться, что-то увидев или услышав. Это и есть признак свободного духа. Первый признак интеллигентного человека. Свободный дух невозможно унизить. Он кажется податливым, мягким, уступчивым, терпимым и не чувствует при этом своей ущербности. Истинно свободный человек – добрый человек. Обретение доброты и есть обретение свободы. Когда ты истинно свободен, ты оказываешь влияние на людей отнюдь не приказами, хотя и этим приходится заниматься. Мы сейчас очень много говорим о правах и считаем, что права есть признак свободы. Если говорить о социуме, это так. Но когда мы говорим о человеке – о фигуре, состоящей из рук, ног, сердца, головы, – в этом смысле ему права вообще не нужны. Он свободен изначально без всяких прав. Права – это та условность, то средство, которое обеспечивает ему гарантию внешней свободы, неприкосновенности его официоза. Но внутренне свободным можно быть без всяких прав. Можно сидеть в страшной тюрьме и быть абсолютно свободным, что нам продемонстрировали подлинно духовные люди, подлинные Человеки с большой буквы. Страдания только возвысили их. Палачи заблуждались, считая, что пытками можно чего-то добиться. Пытками можно было только убить. Творя искусство, человек рассвобождается. Это и есть процесс постижения своей собственной свободы, своей собственной доброты, своих собственных представлений о жизни, смерти.
Упорная защита человеческого в жизни постепенно приобретает формы бессмертного творчества.
– Значит, вы не преследуете цель изменить своим искусством мир?
– Эта задача непосильна для искусства. Можно только самоусовершенствоваться. Если все люди сумеют усовершенствоваться – об этом писал Толстой, – вот это-то и изменит мир.
Попытка насилием изменить мир – попытка бесовская, попытка Раскольникова. Построить некое счастливое будущее, а пока убить старуху заради того будущего, заради того идеала пролить кровь. Вот эта позиция как раз и привела к тому, что мы имеем сегодня.
Надо забыть о том, чтобы любой ценой изменить мир. Надо не мир изменять, а себя. И тогда весь мир естественным образом изменится. Конечно, это тоже утопия. Но этот путь единственный. И это – путь к Богу. Как сказал Толстой, «царство Божие внутри вас». Царство Божие внутри вас, вы только к нему не идете. Мы же не идем к самоусовершенствованию. Мы все время стремимся переделать все, что вокруг нас. Но это профессия политиков, но не художников.
Я занимаюсь театром и в творчестве пытаюсь в меру сил распознать самое себя, сделать себя другим, может быть, лучше. Распознать человеческое в себе и в других людях… Потом, когда спектакль будет создан, он начнет влиять на людей – на зрителей, которые с помощью моего спектакля будут самоусовершенствоваться… Это не моя, это – толстовская теория. Я потому «Холстомера» и начал делать в период застоя, будучи безработным, без всякого договора с каким бы то ни было театром. Мне было трудно жить в тот момент. Я готов был от собственного бессилия взять в руки топор и пойти кого-то рубить, кому-то что-то доказывать. Глупость! Вдруг стало ясно как божий день – ничего мне не надо никому доказывать… Мне надо срочно засесть за «Холстомера», что я и сделал. Когда я это понял, мне стало легко, я сразу стал спокойным…
– Может быть, это и обеспечило такой успех инсценировки и постановки «Историилошади»?
– Мировой успех, заметьте! Почему? Потому что во всем мире, не только в нашем обществе, возникла потребность в Толстом, в толстовстве. И в Америке, и в Скандинавии, и в латиноамериканских странах, и в Англии. Где только «Холстомер» ни шел, он этим брал. Обращением к душе, к душевности, отрицанием насилия в любых формах как средства изменения мира.
– Через самоусовершенствование – к изменению мира. Самоусовершенствование же – значит прежде всего прийти к внутренней свободе…
– Рабство – препятствие на этом пути. Это невозможность сделать жизнь, которой ты живешь, такой, как тебе хотелось бы. Рабство – это подчиненность злой воле, когда ты считаешь, что эта воля выше тебя. Рабство ничего общего не имеет с терпимостью. Терпимость и кротость принадлежат одухотворенным личностям… Очень часто нетерпимые люди оказываются рабами – своей идеи, своего ячества, своих притязаний, амбиций. Тогда они становятся сверхчеловеками. Им кажется, что они приходят к свободе. Им кажется, что они выходят из рамок обычного человеческого существования и поднимаются над мгновением. На самом деле это рабство навыворот. Они подчиняют себя некоей ложной идее и, исходя из этой ложной идеи, действуют. Это приводит их обычно к краху, потому что на пути осуществления этих идей они бесовствуют, теряют свое собственное «я», приходят к душевному разорению, а затем – к вседозволенности. Они не самоусовершенствуются, они самоутверждаются. «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя»… В трактате Толстого «Царство Божие внутри вас» показана вся взаимосвязанность рабов снизу доверху, о которой чуть ранее говорил Чернышевский. К сожалению, наш социум сегодняшний очень недалеко ушел от того, против чего с такой болью, с такой яростью и горечью протестовал разгневанный Лев Толстой, сторонник тотального ненасилия.
– Наверное, граница между самоусовершенствованием и самоутверждением трудно уловима. Только сам человек, если он умеет быть с собой откровенным, может проанализировать, какое из его движений остается справа от этой линии, а какое – слева…
– Действительно, трудно определить, где грань. Видимо, она где-то в сфере чувств. Просчитать эту гармонию алгеброй я не берусь. Один гений – это гений, а другой – шарлатан.
Свою собственную дурноту и черноту души я вычищаю с помощью творчества, с помощью искусства. И так, мне кажется, должен делать каждый лицедей. А если он просто лицедействует, только потому, что он играет, – он кривляется. Есть разница между подлинной игрой и кривлянием. Что называю кривлянием? Кривляние – это показ, демонстрация. Участие в том, что одни слои пустоты перемещаются на место других слоев. Это видимость процесса, который ни к чему не ведет.
Когда разрушительные явления в морали стали преобладать, возникло созидаемое этой тенденцией анти-искусство – то, что называется сознательным бесконтрольным творчеством. Когда все спускается с тормозов и одичание выдается за некое сверхощущение мира, за поиск запредельного. Но ведь это не что иное, как участие в дьяволиаде.
Мы живем в жутковатое время. Ведь где-то рядом с нами и сейчас продолжает жить выпускник Сорбонны – некто Пол Пот – убийца трех миллионов человек. Недавно все мы не без интереса прочитали про африканца, который, не снимая императорской короны, занимался людоедством, держа в холодильнике куски мяса своих подданных. Стали возможны длительные дискуссии по поводу того, можно или же нельзя бить женщину по голове саперной лопаткой. Вот тут-то и возникает вопрос: для чего оно нужно, это самое искусство, если к концу XX века такое происходит сплошь и рядом. Что мы можем и зачем мы вообще?..
– Кажется, мы поменялись ролями, и я отвечу на вопрос, зачем нужно искусство вообще, словами персонажа одного из последних ваших спектаклей «Летняя ночь. Швеция», поставленному по пьесе шведского драматурга Эрланда Юсефсона: «Искусство и художник нужны для того, чтобы, когда вдруг наша планета остановится, опять заставить ее вертеться». Это спектакль, на мой взгляд, принципиально важен для вашего театра. Психологическая драма впервые поставлена в театре-студии «У Никитских ворот». На пути к этому спектаклю были и «Доктор Чехов» – ваш первый, еще самодеятельный спектакль, и «Два существа в беспредельности» по Ф. Достоевскому, в которых значительное место отводилось психологическому театру. И давняя, ставшая театральной легендой «История лошади» – драма, сыгранная средствами мюзикла. «Летняя ночь. Швеция» – пьеса, посвященная автором Андрею Тарковскому, ошарашила, ведь многие считали ваш театр полуэстрадным…
– Действительно, спектакль посвящен памяти Андрея Тарковского. Но мне не хотелось делать спектакль только о нем – ни в коем случае. Здесь его миры опрокинуты на сознание чужих ему людей – людей умных, добрых, чувствительных. Когда миры его искусства, его духовности, опрокидываются на миры западного миросознания, тогда и возникает конфликт, показанный в спектакле, драма, которая не может иметь конца, – проблема взаимоотношений Востока и Запада, очень волновавшая Андрея. Восточное миросознание и западная культура отделены друг от друга прежде всего отношением к человеку, к человеческой личности, к человеческой индивидуальности. Взаимопритяжение и взаимоотталкивание Востока и Запада – вот что интересовало нас, когда мы делали спектакль.
– Что вы думаете о театре, как зритель?
– Может быть, театр – единственное место, оставшееся в мире, в котором законным образом человеку предоставляется право на другую жизнь, вне его фигуративности – вне его рук, ног. Но голова и сердце театром забираемы.
В залоге повторяемости сценического действия содержится всевечность этого искусства. В этой мимолетности спрессована вечность. Ни одно искусство не может воочию и как бы вживую представить время, в которое, скажем, жил Шекспир. Стоит поверить автору, и я буду сочувствовать его персонажам. Это же – потрясающе. Это и есть чары театра.
В театре мы заражаемся не только от того, что видим. Я заражаюсь потому, что сидящие рядом со мною заражены тем же самым, и мы вместе начинаем жить единым дыханием в определенные моменты. А иногда я – отдельно, ты – отдельно. И это тоже мне доставляет дополнительное удовольствие. Вдруг мы опять соединяемся. Зритель, сидящий рядом, вовсе не обязательно смотрит на ту точку, на которую смотрю я. Я смотрю на артистку Чурикову в «Мудреце», в эту же долю секунды мой сосед может смотреть на артиста Броневого, находящегося на другой стороне сцены. А иногда я вижу их обоих… Когда мы вместе с соседом-зрителем хохочем, значит, эта общность находится в определенных отношениях с тем, с чем мы в контакте. Потом мы все рассыпаемся. Но во времени и пространстве мы всегда ограничены. Все происходит «здесь и сейчас», как это называл Станиславский…
Это факирство, это одурманивание входит в мою профессию. Я должен организовать этот «дурман» и наполнить его смыслом. Чехов это делал гениально, поэтому он жив до сих пор. Там стреляют, а я в образе Чебутыкина здесь сижу и говорю: «Та-ра-рабумбия, сижу на тумбе я». Вот что заставляет меня ахнуть. Этот коллаж и есть образ. Искусство гармонии, искусство структуры. Это эйзенштейновский монтаж несоединимого и вместе с тем психологизм русской литературы, русской культуры в традиционном изъявлении.
Сегодня, как и всегда, самое новое искусство – это древнее, старое, классическое искусство, выраженное вне догм, свободно и весело. Так поют птицы, так работал непредсказуемый Моцарт. В соединении несоединимостей – все самое живое, самое современное, самое драгоценное… То, что заставит восторгаться всех. Сколько будет еще поколений жить после нас с тобой, и все они будут ловить некий момент взлета Театра и благоговейно шептать: «Вот здесь… здесь – потрясающе!»
1987 г.
Избранные спектакли
Комментарии, установочные беседы с актерами, фрагменты из пресс-релизов и т. д
Владимир Высоцкий. Роман о девочках
Постановка Марка Розовского
Премьера – июнь 1989 г.
Новый Высоцкий
Установочная беседа перед началом репетиций.
Смерть поэта делает его новым. Владимир Высоцкий посмертно «открылся» нам, по крайней мере, тремя сенсациями. Выяснилось: что он был наполовину евреем, что он был наркоманом, что он писал прозу.
Нельзя сказать, что «новости» порадовали. По поводу первого пункта многие как-то даже расстроились. Уж очень хотелось, чтобы Высоцкий был чисто русский. Ведь он такой весь из себя «наш», что с евреями его делить никак не хотелось. Вечно они нам все портят. Ну, давайте теперь в Есенине что-нибудь подобное обнаружим. Это ж будет такое несчастье. Можно сказать, национальное горе. «Молодая гвардия» не вытерпела и начала Высоцкого сразу клевать. Это можно понять: «народный поэт» не получился, стало можно его принижать, оклеветывать, «вторую смерть» ему организовывать. «Память», та, может, единственная, кто глазками засверкала – ужо мы его теперь батогами сничтожим, жидовская его морда!..
Пункт второй, признаться, и меня поверг в печаль. Высоцкий всем своим духом и творчеством вылепил сам себя в образе сильного. А тут такая слабость. Просто по-человечески жаль его. И мое сострадание его предсмертным мукам укрупнилось вдвойне, потому что стало понятно, отчего и почему он физически сгорел. Горько об этом знать.
Ну а третий пункт насторожил. С песнями все ясно – гений. Но зачем ему ЭТО понадобилась?.. Нет ли тут перебора в самоутверждении личности? Как Пушкин, хотел свою «Капитанскую дочку» создать?.. Когда человек столь на многое замахивается, это нас, простых смертных, немного нервирует. Пусть великие лежат только на тех полочках, на которые мы их положили. И последнее, самое ужасное: уж не графоман ли он?
И вот я читаю «Роман о девочках». Недописанная повесть. Неотделанная проза. Черновик. Рукопись, найденная в рабочем столе, в ящике, задвинутом рукой самого автора. Сразу видно – есть неряшливость отдельных фраз, торопливость, поспешность письма… Иной раз концы с концами не сходятся… Нестыковка, как сейчас говорят космическим термином, далеким от литературы. И вообще: ЛИТЕРАТУРА ли эта проза?
Этот последний вопрос просто страшно звучит. Литература – жупел, молоток, специально подобранный для ударов по наполненным интеллектом и талантом черепам. «Литературой» пугают, ею седовласый академик-критик пользуется, чтобы срезать малоумеющего плести словесную вязь: тут, мил-человек, у вас не то и здесь, мой дорогой, у вас не этак… Неужели Высоцкий перед таким мэтром оробел и скис?.. Может, просто «попробовать» себя хотел, но тогда это не проза, это ПОПЫТКА ПРОЗЫ, испытание себя в новом художественном занятии, экзамен на литературную зрелость.
И ведь как замахивается?! Ну добро бы пробой пера был бы рассказ – краткая, мастерски изложенная история.
Но Высоцкий – это Высоцкий. Ему сразу РОМАН хочется написать. И какой?.. О девочках.
Да нет, по мере чтения выясняется, что замысел – многоплановый, многотемный, а значит, роману-жанру соответствующий. И шероховатый, не всегда выверенный язык – не помеха в возделывании потрясающих характеров, погруженных в вечно новый старый сюжет.
«Роман о девочках» многоголос – тут повествование ведется и от первого лица, и от третьего… Тут и про любовь, и про политику… Внешне вполне выстроено, только недостроено.
История любви проститутки и уголовника. Бродячий сюжет не только великой русской – мировой литературы. И одновременно попытка дать «Энциклопедию народной жизни» – как учили в школе.
Ново тут вот что: этот бродячий сюжет, сюжет-штамп, сюжет знаемый и опробированный, Высоцкий погружает в наш социум, в НАШУ историю, точнее, в только что отошедшую в прошлое современность, еще как историю никем не воспринимаемую.
Вот в чем главное открытие «Романа о девочках»!.. Он написан по горячим следам только что прожитого времени – с календаря послевоенных лет будто оторвали листки, и на этих листках и взметнулась рожденная воображением Поэта и Актера проза.
Она написана в жанре, который умные критики определили потом жутковатым словом «чернуха». До «Интердевочки», до Петрушевской написана эта история, действие которой во дворах и коммуналках нашего социалистического реализма. Быт и характеры выписаны столь точно и сочно, столь безукоризненно ПРАВДИВО, что, будучи воплощенными в театре, они будут вдвойне убедительными, втройне заразительными, ибо станут живыми благодаря нашей игре.
Но «чернуха» Высоцкого (еще раз отмечу, что Автор и тут был впереди всех членов Союза писателей вместе взятых, он здесь всех обогнал, хотя рукопись его оставалась при жизни его в столе) – это пыл поэта, взявшегося за непосильное дело писания романа, это боль его за простых, обыкновенных людей, к коим он сам принадлежал, с кем рядом рос и жил, от кого набирался опыта и водки. Слезы и смех перемешаны в его миросознании, актерское «я» переносится в писательское, он как бы сначала делает актерские этюды в образах любимых своих персонажей, а потом фиксирует их в записях. А далее из этих записей формирует будущее произведение.
У меня с Высоцким свои пересечения. Учились когда-то, почти одновременно, в МИСИ. Но главное: мое детство – Петровка, Неглинка – это недалеко от Мещанской и рядом с Большим Каретным. Послевоенная приблатненность дворов и переулков, драное и рваное мальчишество, удаль одновременно романтическая и уголовная, музыка полуголодного времени – и крик, и шепот – все натощак…
Гитара имеет талию, бедра и дыру. Она женственна своей фигурой, держа которую можно мнить себя лихим и сильным. Тот, кто владеет ЕЮ, – несомненно, мастер любви – главной утехи жизни. Эти удовольствия и другие приемы и трюки поведения, суровость и жестокость быта прежде всего прокламируются в жаргоне, чья языковая стихия – результат общения и работы многочисленных уличных невидимок.
Улица – это стиль. И не просто, а стиль Эпохи. Отсюда, из этих дворов и переулков, уходили на войну и в тюрьму, увозили на кладбище и в больницу, здесь дружили и дрались, любили и изменяли, рожали и кормили, работали и бездельничали, сплетничали и искали правду. Танцевали и замирали в горе…
Гитара обычно висела на стене, словно картина. Тогда ее не прятали в футляр, а выставляли, хвалясь ею перед вошедшими в дом. Иногда к ней даже приделывали бант – знак праздника, символ вот так понимаемой красоты. Все это изругивалось мещанством, квалифицировалось официозной культурой как признак убожества духа, низменности запросов и интересов. Играющий на гитаре во дворе, да еще и поющий под нее – это всегда некто темный, безусловно опасный, обязательно непредсказуемый, неуправляемый, пьяный.
К гитаре прилагались другие аксессуары. Во-первых, лавочка, во-вторых, челка, в-третьих, хрипатость голоса, в-четвертых, компания слушателей, в-пятых, вечернее время…
«Лавочка» перебегала в «подъезд», «челка» сопровождалась прической «полубокс», «хрипатость» соединялась с нежностью, компания превращалась в банду, вечернее время затягивалось за полночь…
Гитара цементировала жизнь в распаде. Уличная песенка делалась нужнее ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО искусства. Большой театр на дому, МХАТ во дворе… Что может быть простодушнее и выше?.. Звание «народный артист», присваиваемое где-то кому-то за что-то, буквальным своим смыслом более относилось к блатному исполнителю на бульварной лавочке, чем к дяде во фраке, выступающему в консерватории. Вой двора жизненнее и обобщеннее пения с возвышения на паркете. К тому же ТАМ было «разрешено» – а здесь запретно. Там срепетировано – здесь сымпровизировано. Там санкционируемо – здесь свободно.
Улица – это клуб, и не для избранных, а для всех. Талант свой может проявить каждый, кто может. И потому многие стеснялись «лезть» – из тех, кто хочет, но боится провала из-за отсутствия мастерства. А мастерство требовалось и тут, и какое?! Высшее!.. Вспомним умение свистеть одним пальцем… а двумя?., а тремя?.. А дворовая чечетка… А игра в карты с лупцеванием кончика носа… А «расшиши»?..
А когда на гитаре чьи-то пальцы делали нечто виртуозное, исполнитель мгновенно имел то, что не всякая звезда эстрады и сейчас имеет, – поклонение без обожествления, благодарность без фанатизма, восторг без оваций. Простая просьба: «Сбацай еще!» – вот мера здешнего колоссальнейшего успеха, который и не снился профессионалам.
Да они, профессионалы эти, гитару, кстати, и не особенно признавали. Все больше под рояль, под оркестр…
Даже Утесов, который «произошел» из этой же уличной стихии (только город другой – не Москва, а Одесса!), не опускался до прямого воспроизведения блатного фольклора, а если и делал это со сцены, то только стилизуя, преобразуя в чисто эстрадное исполнение. Да, там были почти те же истоки, но желание их использовать и преодолеть ощущалось в эстетизированном под «улицу» джазе, этакая вульгарность романтизировалась в некий «шик»-«блеск»-«красоту», за который зритель этого демократичного мюзик-холла платил деньги. Тут был Мастер, подававший песню как товар на прилавок – в хорошей упаковке. Купи, разверни – увидишь дорогое, но не совсем родное. Это не с моей улицы, а как бы с соседней. Тоже радость, но иного совсем качества. Задушевность и юмор делали Утесова первым номером на послевоенной эстраде, истинно народным певцом, но еще не бардом.
К будущим бардам относится другой влиятельнейший Мастер – прародитель Высоцкого – Вертинский. Этот стоит не во дворе, не на улице Города, а на его площади, где сверкает изысканный Балаган. Начинавший в одеянии Пьеро, он завершает трагикомическую линию своей судьбы в концертном костюме. Его сила в авторстве, в самодовлеющем стилеобразовании каждого шедевра, в подделке нищего под аристократа, иронизма под лукавство, пачканного под божественное. Назвать грязь новой красотой ничего не стоит, важно, чтобы тебе поверили.
И Вертинский в эпоху расстрелов и кровавой исторической мясорубки уводит нас на седьмое небо своей фантазии, в миры безупречно, безукоризненно чистые. Это как бы антиулица, нечто возвышенно-благородное, то есть то, чего в реальности нет и быть не может. Выдуманное оказывается манящим воплощением улицы «от обратного», это вызов голодному быту, война быту, победа над бытом.
А в основе все тот же артистизм, тонкость и грациозность, нарочито выбранные как метод элегантного противоречия грубой и подлой жизни.
Все это Высоцкий несомненно ЗНАЛ – иначе бы он не стал тем, кем мы его помним. Я прямо вижу его, склонившегося над стареньким патефоном, с которого льются закрученные на пластинках голоса Утесова и Вертинского.
Третий Мастер – Петр Лещенко. Его близость к Высоцкому не изучена, но и ее можно с уверенностью предположить. Послевоенная эпоха, на волне которой уже тогда звучала ностальгия по «мирному» счастью бывалых, простоватых людей, чья грубость поэтизировалась в конвейере баллад и жанровых песенок, в живом и волнующем слух фольклорном мелодизме, – эта эпоха немыслима без голоса Лещенко. Я бы назвал его песни поэзией палисада, – в отличие от городской эстрады. Здесь очень сильны кабацкие мотивы, запоминаемость которых планируется восхитительно простыми, доходчивыми «шлягвортами». Тут царство не гитары, а гармошки. И тем не менее очень ощутима корневая система разбойно-кабацкого песнопения. Все, что требовала от человека только что отошедшая безумная война – быть зверем, или – на худой конец – быть беспощадным и героическим солдатом – отступало перед сентиментализмом этого мелоса, перед душераздирающим стилем этого песнопения.