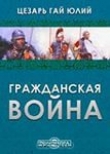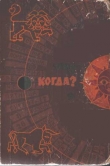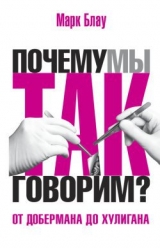
Текст книги "От добермана до хулигана. Из имен собственных в нарицательные"
Автор книги: Марк Блау
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Входит и выходит
Шотландский инженер и изобретатель Джеймс Уатт (James Watt; 1736–1819) родился в семье владельца корабля и торговца. Когда ему исполнилось 18 лет, отец отправил его в Лондон для обучения слесарному делу. Джеймс был способным учеником и семилетнюю программу освоил за год. Вернувшись в Глазго, он получил место механика при университете.
Два университетских физика, Дж. Блэк и Дж. Робинсон, занимались экспериментами по определению теплоты парообразования. Дж. Уатт изготовлял оборудование для этих экспериментов.
Те, кто говорит, что Уатт изобрел паровую машину, неправы. Паровые машины уже были изобретены и даже работали, в основном на откачке воды из шахт. Правда, работали медленно и требовали непрерывного наблюдения машиниста. Машинист открывал кран и запускал горячий пар в цилиндр, потом перекрывал доступ пара и открывал другой кран, для холодной воды, которая цилиндр охлаждала. От этого пар внутри цилиндра конденсировался, возникало разрежение. Под воздействием атмосферного давления поршень вдвигался в цилиндр, совершая полезную работу (например, поднимая на поверхность шахтную воду). Эксперименты Блэк и Робинсон ставили не любопытства ради, а для того, чтобы усовершенствовать конструкцию существовавших уже паровых машин.
Впрочем, не так уж и далеки от истины те, кто утверждает, что Уатт изобрел паровую машину. Хотя гениальный механик внес только некоторые усовершенствования и дополнения в конструкцию паровых машин, эти изменения превратили неторопливых и неповоротливых гигантов в настоящие промышленные двигатели, в первых механических помощников человека.
Каковы же были изобретения Уатта? Во-первых, он придумал конденсатор. Пар конденсировался теперь не внутри цилиндра, а снаружи. Это и качество охлаждения улучшило, и позволило избавиться от накопления внутри цилиндра конденсата, который периодически следовало удалять, для чего приходилось останавливать машину. Второе изобретение Уатта – цилиндр двойного действия. Пар с помощью специального золотникового клапана (еще одно изобретение Уатта) подавался попеременно на разные стороны цилиндра, толкая его то в одну, то в другую сторону. Возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразовывалось во вращательное движение массивного маховика посредством кривошипно-шатунного механизма. Маховик и кривошипно-шатунный механизм тоже были внедрены в конструкцию паровой машины Уаттом. Это было четвертое и пятое изобретения скромного механика. Еще Уатт изобрел центробежный регулятор для поддержания постоянства числа оборотов вала паровой машины, новую топку, обеспечивавшую более качественный нагрев пара и тепловую изоляцию цилиндров. Ему было понятно: чем больше разница в температуре между цилиндром и конденсатором, тем производительнее будет новая машина. Почти через 40 лет это теоретически докажет французский физик Сади Карно.
Уатт запатентовал все свои изобретения и совместно с фабрикантом М. Болтоном начал в 1775 году выпуск паровых машин. Первые образцы продавали владельцам шахт для откачки воды. У старых машин был низкий коэффициент полезного действия, но они применялись уже полвека, вполне устраивали большинство хозяев, и тратить деньги на инновации тем не хотелось. Тут Дж. Уатт показал, что он не только в изобретении паровых машин силен, но и коммерческой сметки не лишен. Он объявил, что изготовленные машины будут поставляться бесплатно! Более того, фирма брала на себя расходы по демонтажу старой техники и по обслуживанию новой – всего только за одну треть стоимости сэкономленного угля, однако в течение 25 лет. Довольно скоро хозяева шахт поняли, что сильно переплатили, польстившись на дармовщинку, но было уже поздно. Уговор дороже денег.
Через четверть века, в 1800 году, в Англии уже работала 321 паровая машина Уатта, собранная на заводах Болтона. И это было только начало новой технической революции. Со времен Прометея огонь вторично поставили на службу человеку. Паровая машина Уатта превращала тепло в работу и открывала безграничный (как тогда казалось) ресурс повышения производительности труда. Началась эра машинного производства.
В 1770 году Уатт ввел в повсеместное использование единицу мощности, которую назвал horse power, то есть лошадиной силой (л. с.). Здесь тоже сказалась деловая смекалка великого изобретателя. Как объяснить покупателю, насколько мощное изделие он приобретает за свои кровные денежки? Достаточно сказать, работу скольких лошадей выполнит эта машина, и сразу покупатель понимает: сделка выгодна (сколько стоила на рынке лошадь, тогда знали все). Хитрый Уатт установил эту единицу таким образом, чтобы она была на 50 процентов выше, чем средняя тягловая мощность, развиваемая обычной тогдашней английской лошадью в течение 8-часового рабочего дня. Мощность паровой машины, измеряемая такими лошадиными силами, была гарантированно выше мощности соответствующего количества лошадей.
Эта единица измерения жива и поныне, хотя уже в 1889 году английские ученые предложили другую единицу измерения мощности, которую назвали в честь своего знаменитого земляка – ватт (была утверждена в качестве международной единицы только в 1893 году на Международном конгрессе электриков в Чикаго). Однако мощность автомобилей мы все равно по привычке определяем в «лошадках».
Несколько реже применяется в обычной жизни единица измерения работы, джоуль, названная по имени другого англичанина, физика Джеймса Прескотта Джоуля (James Prescott Joule; 1818–1889). Джоуль был выдающимся экспериментатором и прославился исследованиями в самых различных областях физики – механике, термодинамике, теории газов, электромагнетизме, молекулярной физике, акустике. Наиболее известна открытая им (совместно с Э. Х. Ленцем) зависимость между силой тока, проходящего по проводнику, и выделяемым при этом теплом (закон Джоуля – Ленца), а также коэффициент, связывающий количество затраченной работы с количеством произведенного этой работой тепла; этот коэффициент называется механическим эквивалентом тепла.
Иной раз кажется: ну что еще можно придумать, усовершенствовать для автомобиля? Однако изобретатели придумывают, совершенствуют. А производители тут же воплощают в жизнь все новшества. Хотя наряду с ними в автомобиле «живут» и изобретения очень старые. Чемпионом является, конечно, колесо. А вот на второе место совершенно спокойно выходит карданный вал, передающий крутящий момент от коробки передач к колесам. Это изобретение было сделано в XVI веке.
Когда в 1541 году испанский король Карл V завоевал Милан, его приветствовала вся городская аристократия. Среди них был и почтенный председатель городской коллегии врачей Джероламо Кардано (Gerolamo Cardano; 1501–1576). Кардано считал себя искусным лекарем, не менее искусным, чем древние врачеватели Гиппократ и Авиценна. По его словам, он описал приемы излечения 5 тысяч болезней. Другой своей специальностью он называл астрологию и с гордостью упоминал имена знаменитых людей, которые воспользовались его услугами (среди них был сам римский папа).
Таких, как Кардано, принято называть энциклопедистами. Его автобиографическая книга «De vita propria» («О моей жизни») была переведена на русский язык в 1938 году. Кардано закончил ее за четыре месяца до смерти. Читая эту автобиографию, иной раз удивляешься, с каким простодушием автор рассказывает о себе: «Цель, к которой я стремился, заключалась в увековечивании моего имени, поскольку я мог этого достигнуть, а вовсе не в богатстве или праздности, не в почестях, не в высоких должностях, не во власти». Да, широкая известность могла прокормить и в XVI веке, особенно человека ученого, закончившего курс наук в Падуанском университете.
Кардано занимался медициной и астрологией, которые числились науками высокими, но также и низкой наукой, механикой. Новому владыке Милана, Карлу V, он предложил: не сделать ли экипаж с осями специальной конструкции, которые могли бы вращать колеса, даже находясь под некоторым углом к ним. Такая шарнирная подвеска, по словам ученого, обеспечила бы движение без тряски даже на неровных и плохих дорогах.
Надо сказать, что это придумал не Кардано. Подобное соединение знали с античных еще времен, а старший современник Дж. Кардано, Леонардо да Винчи (1452–1519), тоже энциклопедист, предложил применять на судах шарнирную подвеску компаса, чтобы тот показывал правильный курс даже при значительной качке. В первой половине XVI века такие компасы появились на европейских кораблях – правда, ни Леонардо, ни Кардано к этому отношения не имели. Похоже, что и королевский экипаж на шарнирной подвеске в реальность не воплотился.
Занимался Кардано и математикой. Тем, кто учил алгебру, известна формула решения кубического уравнения, которая называется «формулой Кардано», хотя Кардано о формульной записи понятия еще не имел и способ решения (или, как мы сейчас сказали бы, алгоритм) изложил словами в своем трактате «Ars magna» («Великое искусство»). Да и здесь первенство Кардано под вопросом. Изобретателем «формулы Кардано» считается Никколо Тарталья (около 1499–1557).
Но если с формулой Кардано встречаться довелось не каждому, то уж то, что в автомобиле есть кардан (карданный вал), известно всякому. Так что Кардано поминают и 400 лет спустя после его смерти. Заявленная цель достигнута, пусть и несколько извилистым путем.
Еще одну фамилию нельзя не упомянуть, когда говоришь об автомобилях. Да и не только об автомобилях – о тепловозах, теплоходах, тракторах и танках тоже. Везде, где от двигателя требуется большая мощность и непривередливость к горючему, используют дизель. Этот двигатель внутреннего сгорания, работающий на жидком топливе, которое воспламеняется от сжатия, называется так потому, что его придумал в конце XIX века немецкий инженер Рудольф Дизель (Rudolf Diesel; 1858–1913).
Дизель родился в немецкой семье, проживавшей в Париже. Его отец по немецкой традиции занимался делом, которое кормило поколения предков, – был переплетчиком и книготорговцем. В 1870 году началась Франко-прусская война. Принадлежать к немецкому меньшинству во Франции стало довольно опасно, и семья переехала в Англию. А получать образование сына отправили в Германию.
Рудольф, живя у родственников в Аугсбурге, закончил с отличием реальное училище и поступил в одно из лучших высших учебных заведений Германии – Высшую политехническую школу в Мюнхене. Ее он тоже закончил блестяще в 1878 году. Способности юноши были просто удивительны, а упорство в достижении цели – абсолютно немецким.
Дизель проработал два года в Швейцарии, на заводе братьев Зульцер, потом стал директором парижского отделения холодильной фирмы профессора Карла фон Линде. Он стремился осуществить давнюю мечту – построить двигатель внутреннего сгорания, более производительный, чем паровые машины, которые в те годы приводили в движение всю европейскую и американскую индустрию.
В 1890 году Дизель переехал в Берлин. В том же году он придумал новую схему двигателя, в котором воздух сжимался в камере сгорания до высокой температуры, после чего в него впрыскивалось горючее, которое тут же воспламенялось, дополнительно нагревало воздух, а горячий воздух, расширяясь, совершал работу. Двигатель Дизеля был запатентован в 1892 году. И сразу же на заводе в Аугсбурге началось опытное производство. Работы частично финансировались Фридрихом Круппом, а частично – братьями Зульцер, поверившими в идею Дизеля, начинавшего свою инженерную деятельность на их предприятии. Двигатель действительно оказался «всеядным». Первый дизельный двигатель работал на буроугольной пыли, горючем очень низкокалорийном, но показал хорошие результаты. Однако впрыскивать в цилиндр пыль оказалось технически сложнее, чем жидкое топливо. В конце 1896 года был построен окончательный, третий по счету, вариант опытного двигателя мощностью 20 л. с. Этот двигатель работал на керосине и был экономичнее всех существовавших тогда тепловых двигателей.
Двигатель Дизеля был представлен на выставке паровых машин в Мюнхене в 1898 году. Точнее, представлено было три двигателя: один приводил в действие насос, второй – машину для сжижения воздуха, а третий качал воду в фонтан, вздымавший струю на 40-метровую высоту. Изобретение вызвало всеобщий восторг. Как положено у деловых людей, восторг имел денежное выражение. Лицензии на производство новых двигателей расхватывались, как жареные пирожки. Патент, заявленный Дизелем 6 лет назад, принес ему 6 миллионов марок за несколько месяцев.
Катастрофа разразилась вскоре. Двигатель был плохо подготовлен для серийного производства. Из-за этого немецкие промышленники отказывались выпускать новые двигатели. Дизель обратился к старым знакомым, и его двигатель начал производить завод братьев Зульцер в Швейцарии. Братья Зульцер модифицировали изобретение Дизеля, почти вдвое увеличив его мощность. В Швейцарии же создали первый в мире дизельный локомотив – тепловоз.
На Всемирной промышленной выставке в Париже в 1900 году двигатели Дизеля получили главный приз, и вскоре их уже производили во Франции и в Бельгии.
Одной из первых стран, начавших выпускать разнообразные дизельные моторы, была Россия. Петербургский завод Нобеля организовал производство дизельных двигателей еще в 1899 году и с тех пор назывался «Русский дизель». В России был построен первый теплоход «Сармат». Дизель-моторы устанавливали на военных кораблях.
Дизельные двигатели довольно быстро вытеснили паровые машины на заводах, фабриках и электростанциях, но бензиновый двигатель не заменили. Хотя и менее экономичный, он был гораздо легче, поэтому в начале XX века дизельному двигателю прорваться в автомобилестроение не удалось.
Коммерческие успехи Рудольфа Дизеля омрачало то, что именно в Германии его изобретение было встречено в штыки. Причины? Технологические недостатки конструкции и элементарная зависть коллег-инженеров. С разных сторон на него сыпались обвинения в плагиате, в нарушении патентного права и даже в непатриотичности. Ведь топливом для двигателя в конце концов оказалась нефть (которой у Германии не было), а не уголь (который имелся в избытке), как первоначально планировалось. Бесконечные судебные процессы довели изобретателя до нервного срыва. Все же на родине заслуги Дизеля признали и присвоили ему почетное звание доктора-инженера. Дизельные двигатели стали устанавливать на военных кораблях, началось проектирование дизельных силовых установок вместо паровых для крупных боевых кораблей – крейсеров и броненосцев.
Вероятно, это послужило причиной гибели изобретателя. Гибели загадочной. В ночь с 29 на 30 сентября 1913 года Рудольф Дизель, плывший из Антверпена в Лондон, таинственным образом исчез. Через 10 дней его труп был найден в водах Северного моря. Выдвигались разные версии случившегося: несчастный случай, самоубийство. Среди версий есть и такая: изобретателя устранили немецкие спецслужбы, не желавшие, чтобы Дизель рассказал в Англии о работах по модернизации флота, которые велись в Германии.
Но двигатель, с которым уже прочно было связано имя изобретателя, завоевывал все новые области. На автомобили он попал кружным путем. В период между мировыми войнами дизельные двигатели попали на танки. Кроме экономичности и мощности эти моторы обладали еще одним важным для военной техники свойством – они не воспламенялись так легко, как бензиновые моторы. Военные заказы подстегнули двигателестроение, и после войны дизельные двигатели стали уже настолько легкими, что их начали устанавливать сперва на большегрузные самосвалы, а позже – и на легковые автомобили.
Компьютерный компот
Алгоритм (alhorithm) – латинизированное написание арабского имени аль-Хорезми (786–850), бесхитростно выдающего происхождение ученого – «из Хорезма». Благодаря тому что Хорезм вместе со всем Узбекистаном раньше входил в Советский Союз, аль-Хорезми считался более «нашим», чем какие-нибудь другие ученые, его современники. Хотя происхождения он был, судя по одному из его прозвищ, аль-Маджуси, скорее всего, персидского, из рода зороастрийских жрецов (магов). А большую часть своей жизни аль-Хорезми прожил вдали от Хорезма, в Багдаде.
Благодаря трактату аль-Хорезми по арифметике европейцы ознакомились с индийскими цифрами (которые теперь называют арабскими, ибо пришли они из книг, написанных на арабском языке). В этом же трактате описывается придуманная в Индии позиционная система счисления. Нам сейчас трудно представить себе другой способ записи чисел. Как же иначе можно производить самые элементарные действия – сложение и вычитание? Трактат аль-Хорезми о решении линейных и квадратных уравнений назывался «Китаб аль-джебр валь-мукабала» («Книга о восстановлении и противопоставлении»). От этого самого «аль-джебр» произошло слово «алгебра», как название науки о решении уравнений. В книге аль-Хорезми о календаре рассматривались системы счисления времени у всех окрестных народов и, главное, описывались способы перевода дат между разными календарями. Можно сказать, это первые в мире алгоритмы: описание последовательности действий, благодаря которым происходит преобразование одних чисел в другие. Так сказать, программы, но пока без компьютеров.
А почему программы нужно писать только для компьютеров? Вот Жозеф Жаккар (Joseph Jacquard; 1752–1834) начал программировать ткацкие станки, и у него это прекрасно получилось. Традиционно его фамилию по-русски произносят иначе – Жаккард. Он родился в Лионе, в одном из центров текстильной промышленности Франции. Впрочем, никакой текстильной промышленности, как ее понимаем мы, в конце XVIII века во Франции не было. Ткачи у себя дома или на мануфактуре ткали по старинке: между продольно натянутыми нитями (они назывались основой) пропускали поперечную нить, уток. Ткацкий станок был снабжен рычагами, которые поднимали или опускали нити основы в момент прохождения утка, вложенного в специальный челнок. Рычаги приводились в движение педалью. Челнок скользил туда-сюда, и ряд за рядом неспешно ткалось полотно.
Идея Жаккарда состояла в том, чтобы использовать для управления вертикальным движением нитей при поперечном проходе челнока специальную дощечку с отверстиями. Мы назвали бы такую дощечку перфокартой. Рычажки, попадая в отверстия на дощечке-перфокарте, приводили в действие механизм подъема нитей. При следующем поперечном движении утка под рычажки поступала другая перфокарта, поднимались другие нити основы. Тем самым обеспечивалось переплетение нитей основы и утка, получалась ткань. Если изготовить несколько перфокарт, пробив на них отверстия в нужных позициях, а потом соединить эти перфокарты одну за другой в замкнутую цепь, станок будет ткать без участия человека, автоматически.
Станки Жаккарда резко повышали производительность работы ткачей. Теперь стало достаточно просто получить ткани с самым разнообразным рисунком переплетения. Жаккард продемонстрировал это. Он собственноручно запрограммировал станок, который выткал ткань с большим портретом изобретателя. (Может быть, кто-то еще помнит аналогичные подвиги программистов, заставлявших принтеры распечатывать разнообразные портреты.) Ткани со сложным рисунком, изготовленные на автоматических ткацких станках, до сих пор называют жаккардовыми.
Французское правительство заинтересовалось изобретением Жаккарда и стало платить ему деньги за каждый проданный станок. Автоматические ткацкие станки появились и в других странах мира. В 1820-х годах начался текстильный бум в Европе. Тканей производили много. В число богатейших городов мира вышли Лион, Барселона, Манчестер. В Манчестере находилась и текстильная фабрика «Эрмен и Энгельс», дававшая изрядный доход ее хозяину, Фридриху Энгельсу.
Автоматический ткацкий станок удалил с рынка мелких ремесленников. Новое оборудование стоило непомерно дорого, а на старом станке просто невозможно было конкурировать с механическими чудовищами. Внедрение станков Жаккарда в Лионе вызвало сначала массовые попытки сломать новое оборудование, а потом, в 1831 и в 1834 годах, два крупных восстания ткачей.
В Англии в 1811 году возникло движение луддитов, которые крушили новые ткацкие и вязальные станки, лишившие их честного заработка. Это движение было жестоко подавлено войсками. Тех, кто попался в руки солдат-усмирителей, повесили. Лорд Байрон писал задиристые стихи в защиту восставших, не подозревая, что его дочь, Ада Кинг Байрон, в замужестве графиня Лавлейс (Ada King Byron, countess of Lovelace; 1815–1852), станет продолжательницей дела Жаккарда и войдет в историю как первый в мире программист.
Способности к математике Аде по-видимому достались от матери, Анабеллы Байрон. Обучать и воспитывать Аду мать пригласила своего бывшего учителя – шотландского математика Огастеса де Моргана. В воспитании девочки принимала участие жена де Моргана, Мэри Соммервиль, тоже имевшая склонность к точным наукам.
С 17 лет Ада выезжает в свет, ее представляют королевской чете, она поддерживает знакомство со многими замечательными современниками. В 20 лет – не слишком рано, но и не поздно – выходит замуж и становится графиней Лавлейс. Среди знакомых Ады Лавлейс был и Чарлз Бэббидж, профессор математики из Кембриджа. Бэббидж занимался построением механического вычислительного устройства, способного работать по заранее заданной программе. То есть, в современном понимании, компьютера «на шестеренках». Принцип вычислительной машины был прост, но реализация требовала больших затрат. В «аналитической машине» (так Ч. Бэббидж назвал свое устройство) должны были слаженно вращаться тысячи тщательно изготовленных одинаковых шестеренок. До выработки принципов стандартизации и массового производства было еще лет тридцать, поэтому, несмотря на большие затраты механический компьютер так и не заработал.
Однако принципы, которые должны лежать в основе автоматического вычислителя, были изложены в 1843 году Бэббиджем и Адой Лавлейс в отдельной статье. Кроме того, Ада Лавлейс написала первые программы для будущего механического вычислителя (Бэббидж считал, что он вот-вот будет построен). Она предложила вводить информацию с помощью перфокарт, подобных тем, что применял Жаккард. Надо отдать ей должное: она глубоко разбиралась в том деле, которым занималась; например, четко разделяла программу и данные. По ее мнению, для ввода программ можно было использовать перфокарты одного формата, а для ввода данных – другого. Кстати, и первую задачу для будущего компьютера она придумала достойную и совсем не простую: решение уравнения гидродинамики движущегося потока.
Ада Лавлейс скончалась 27 ноября 1852 года. Она похоронена в фамильном склепе Байронов рядом со своим отцом, которого никогда не знала при жизни.
Именем Ады Лавлейс в 1975 году был назван универсальный язык программирования компьютеров, ада. Незадолго до этого появился другой язык программирования, паскаль, названный в честь французского математика, физика и философа Блеза Паскаля (Blaise Pascal; 1623–1662).
С появлением программы Norton Commander (по-русски ее тут же окрестили «Командиром Нортоном», или просто «Нортоном») удалить или скопировать файл, запустить программу стало возможно одним нажатием клавиши. Благодаря такой простоте многие перестали бояться компьютера и принялись осваивать азы компьютерной грамотности.
Рука так и тянется написать: «Эту программу написал простой американский программист Питер Нортон, и она принесла ему заслуженную известность». Но, во-первых, совсем не прост Питер Нортон (Peter Norton; родился в 1943 году) – он мог бы считаться аристократом: среди его предков были сенатор от штата Миннесота Дэниел Нортон и колоритная личность, майор Джон Нортон, сын индейца из племени чероки и женщины-шотландки. Майор Джон Нортон был вождем племени мохоков и племенного индейского союза ирокезов. В Англо-американской войне 1812–1815 годов он воевал на стороне англичан против американцев. Большая часть клана Нортонов традиционно проживает в Миннесоте, и только родители Питера перебрались на самый северо-восток Соединенных Штатов, в город Абердин.
Во-вторых, программа Norton Commander написана не Питером Нортоном, а программистом Джоном Соча (John Socha) в 1984 году. Соча был в то время выпускником отделения прикладной физики Корнельского университета. Вскоре он возглавил отдел исследований и разработок в созданной П. Нортоном компании Peter Norton Computing. Эта компания и выпустила в 1986 году программу, которую Соча называл VDOS (Visual DOS) под именем Norton Commander.
Питера Нортона вряд ли можно назвать гением программирования, однако гением маркетинга – точно. В 1969 году он приобрел персональный компьютер. Тогда компьютер считался достаточно дорогой игрушкой для небольшого количества чудаков, свихнувшихся на технике. Нортон игрался с этой игрушкой, игрался, пока не произошел досадный случай. Однажды он случайно удалил нужный файл. Немного подосадовав, Питер Нортон задумался, нельзя ли чем-нибудь этой беде помочь.
Он не поленился «порыться в кишках» операционной системы своей персоналки и установил, что при удалении файл не стирается с диска насовсем, а как бы становится «невидимым», разрешая затереть себя при записи новых данных. Немного поколдовав, Нортон создал небольшую программу, которая восстанавливала метку, делающую файл снова видимым. Тем самым эта программа «восстанавливала» случайно стертые файлы и «спасала» всю хранимую в них информацию. Решив, что созданная программа весьма полезна, Нортон написал еще несколько таких же полезных программ-утилит, объединил их в пакет Norton Utilities и в 1982 году организовал для продажи этого пакета фирму Peter Norton Computing. Штат компании первоначально состоял из самого Питера Нортона. Рабочее место для себя он оборудовал на кухне собственного дома. На коробках, в которых рассылалась покупателям программа, была фотография автора, гордо скрестившего руки на груди. Покупателям программа пришлась по вкусу, они хвалили ее, а заодно и ее автора, который вот он, красуется на передней крышке коробки. Нортона стали узнавать в лицо.
Известности Питера способствовали также заметки на разные околокомпьютерные темы в специальных журналах и выпущенная вскоре книга «Inside IBM PC» («Внутри персонального компьютера»). За два года объем продаж «Утилит Нортона» достиг 1 миллиона долларов. Именно в 1984 году в число утилит был включен знаменитый Norton Commander.
В 1985 году компания переехала, наконец, в нормальный офис. Популярность ее продукции росла пропорционально росту пользователей персональных компьютеров, и объем продаж превысил вскоре 25 миллионов долларов. Когда в 1990 году компания Peter Norton Computing слилась с компанией Symantec, главные деньги Нортон получил не за компьютерные программы, выпускавшиеся его фирмой, а за бренд Peter Norton. Даже знаменитая фотография Питера со скрещенными на груди руками стала брендом. «Нортон» – это звучало гордо, хотя сам Питер Нортон уже не участвовал в создании программ, которым присваивалось его имя. Создав вместе с женой фонд Norton Family Foundation, он занялся благотворительностью и коллекционированием произведений современной живописи.
На пике популярности программы Norton Commander нужда в ней отпала. «Голубой экран» коммандера сменили разноцветные окошки операционной системы Windows. И хотя кое-кто все еще упрямо пользовался любимой программой, ее время прошло. В отличие от Питера Нортона, которому большинство пользователей «персоналок» симпатизировали, Билла Гейтса, создателя операционной системы Windows, компьютерное сообщество отчего-то недолюбливает. Может быть, назови он свое детище не «Окна» (Windows), а «Ворота» (Gates), его полюбили бы больше? Хотя бы за чувство юмора. Ненавистники Билла Гейтса с надеждой глядят на операционную систему Линукс. Это странное название – гибрид двух слов: имени создателя, финского программиста Линуса Бенедикта Торвальдса (Linus Benedict Torvalds; родился в 1969 году), и названия операционной системы UNIX, которую Торвальдс взял за основу.
Компания Билла Гейтса засекретила Windows. Никому, кроме посвященных в разработку этой операционной системы, не известны все ее программистские хитрости. А вся работа Линуса Торвальдса на виду. Он проповедует идеологию «открытого исходного кода»: каждый может увидеть, как работает программа, каждый может внести свой вклад в общее дело. Такой «коммунистический» подход к делу, возможно, связан с тем, что родители Линуса были студентами-радикалами, а отец – даже коммунистом. Сына они назвали в честь борца за ядерное разоружение, дважды лауреата Нобелевской премии (по химии и за мир) Лайнуса Полинга. В сентябре 1991 года студент университета Хельсинки Линус Торвальдс предложил мировому компьютерному сообществу свое творение, исходный код ядра новой операционной системы. С тех пор тысячи программистов всего мира, принимая участие в этом проекте, создали мощную операционную систему. Система обладает многими достоинствами; не исключено, что она или один из ее вариантов скоро заменит старые добрые Windows.
Макинтош – одна из самых распространенных среди шотландцев фамилий. Ее история восходит к XII столетию, когда Шоу Макдуф был награжден королем Малкольмом IV за помощь в подавлении восстания на севере Шотландии. Макдуф получил земельное владение, ставшее родовым гнездом для нового клана. Имя клана происходит от шотландского Mac-an-Toisch, что означает «сын тана». Тан – шотландский военный наместник, граф, так что «макинтош» – нечто вроде французского титула «виконт».
Макинтошей не только в Шотландии, но и по всему миру много. Мы же заинтересуемся двумя, которые, прожив совершенно разные жизни в разных странах, своей древней фамилией отметили три разных предмета, которыми мы до сих пор не без удовольствия пользуемся.
Чарлз Макинтош (Charles Mackintosh; 1766–1843) был химиком. Он родился в Глазго. Его отец был преуспевающим красильщиком. В 20 лет Макинтош-младший, окончив университет, начал работать на химической фабрике. В 1797 году он открыл собственное предприятие. Фабрика Чарлза Макинтоша производила квасцы, используемые, главным образом, при выделке кож. В 1799 году вместе с Чарлзом Теннантом он получил патент на изготовление хлорной извести (которую мы называем попросту хлоркой). Хлорная известь стала широко применяться в текстильной промышленности для отбеливания тканей, и совместный бизнес процветал.
Среди изобретений Чарлза Макинтоша был новый способ получения стали из чугуна посредством окиси углерода (аналогичен мартеновскому процессу). Но обессмертило фамилию Макинтоша другое его изобретение – плащ из непромокаемой ткани. Вещь в дождливой Шотландии, надо сказать, необходимейшая.