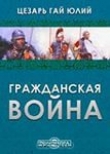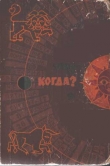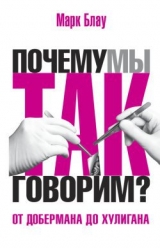
Текст книги "От добермана до хулигана. Из имен собственных в нарицательные"
Автор книги: Марк Блау
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Слово хулиган в России стало употребительным после начала Первой мировой войны. А в годы революции и Гражданской войны, когда все оковы (моральные в том числе) максимально ослабли, уже казалось едва ли не исконным русским словом. Однако происхождение этого слова английское. Г. Белых и Л. Пантелеев в своей знаменитой книге про беспризорников «Республика ШКИД», объясняя его появление, ссылаются на легенду, по которой в XIX веке в Англии проживало семейство Хулигэн. Эти Хулигэны владели постоялым двором на Дуврском шоссе, и у них часто останавливались знатные люди и купцы с континента. Хозяева грабили и убивали их. Но «страшная тайна постоялого двора» была раскрыта, и королевский суд вынес семье убийц смертный приговор. А хулигэнами с того времени называли убийц, воров и поджигателей. В русском языке довольно быстро закрепилась форма «хулиган».
Объяснение интересное, но есть и другие версии. Согласно одной из них, ирландец Патрик Хулигэн (Patrick Hooligan), живший в конце XVIII века близ Лондона и владевший там постоялым двором, был таким скандалистом, так досаждал постояльцам и соседям, что скоро «прославился» своим отвратительным, несносным поведением. О нем не раз сообщалось в рапортах полиции Лондона, а его имя стало нарицательным.
А вот какая версия содержится в Британской энциклопедии. В XVIII веке в Лондоне жил ирландец Хулли (Hoolly), который организовал ряд шаек (the gang), отличавшихся особым буйством. Их и стали называть хулиганами, то есть членами банды Хулли (Hoolly gang).
Как бы там ни было, английское словцо быстро прижилось на русской почве. И сегодня любой словарь объяснит, что хулиган – это тот, кто явно и грубо нарушает общественный порядок и выражает неуважение к окружающим.
Перевод невозможен
Произведения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина вечно актуальны для русской жизни. И на другие языки точно перевести их невозможно. Требуется сопровождать перевод объемными и нудными комментариями. Но даже несмотря на это, иностранцу многое будет непонятно. Потому-то за границей этот русский писатель почти не известен.
Некоторые слова, которые были придуманы писателем, не поддаются переводу на иностранный язык. Таких новых слов и словечек стесненный цензурой Салтыков-Щедрин немало понаписал, чтобы передать читателю свои не вполне благонамеренные мысли. Вот, к примеру, помпадур. Слово, образованное от титула фаворитки короля Людовика XV маркизы де Помпадур (marquise de Pompadour; 1721–1764), означает администратора, ничего в своем деле не смыслящего и смыслить не желающего: «…некоторые даже прямо утверждают, будто у нас существует особенное сословие помпадуров, которого назначение в том именно и заключается, чтобы нарушать общественную тишину и сеять раздоры с целью успешного их подавления. Не без иронии говорят… о недостаточной развитости наших помпадуров и о происходящей отселе беспорядочной, судорожной деятельности их».
Настоящие имя и фамилия маркизы де Помпадур – Жанна-Антуанетта Пуассон (Jeanne-Antoinette Poisson). В 24 года она стала официальной фавориткой французского короля Людовика XV и не покидала этот «пост» до своей кончины в возрасте 43 лет. Была она не слишком красива, но достаточно умна, чтобы очаровывать короля. Она поняла, чем может привлекать внимание монарха: музыкой, театром и другими искусствами. Пока мадам де Помпадур была при дворе, она осыпала милостями «деятелей культуры», как сказали бы сейчас. Взлетом своей придворной (да и литературной тоже) карьеры насмешник Вольтер обязан ей. Многие энциклопедисты, так сказать, кормились у маркизы. Деньги, потраченные ею на культуру, зря не пропали. Среди «подарков», доставшихся Франции от госпожи де Помпадур, – фарфоровый завод в Севре и военная академия Сен-Сир в Париже.
При этом была она редкостная интриганка и все 20 лет, что находилась при дворе, не выпускала из рук нитей, приводивших в движение придворную жизнь. Она умело расставляла на нужные места своих людей. Именно маркиза довольно ловко вывела из-под удара Луи Антуана де Бугенвиля, когда он умудрился поссориться с военным министром. И еще одну профессию госпожа де Помпадур освоила блестяще: профессию сводни. В 1750 году, когда Людовик XV перестал приглашать ее в свою спальню, она сняла на одной из парижских улиц особняк, где король мог бы срывать «цветы удовольствия» в обществе юных девственниц приличного происхождения. Как только молодая красотка начинала надоедать коронованному посетителю этого борделя, ее заменяли на другую.
Но если бы все интриги мадам де Помпадур ограничивались версальским дворцом или хотя бы Францией! Лезла она и в международные дела. Ей понравилась австрийская эрцгерцогиня Мария-Терезия. Она терпеть не могла прусского короля Фридриха II, который отвечал ей взаимностью и даже собачонку свою назвал Помпадур. Этого было достаточно, чтобы в начавшейся Семилетней войне Франция приняла сторону Австрии против Пруссии. И в результате потерпела сокрушительное поражение, которое, впрочем, по приказу маркизы велели считать победой и пышно отпраздновали.
Это взбалмошное интриганство и огромные расходы королевской фаворитки за счет государственной казны в первую очередь и имел в виду М. Е. Салтыков-Щедрин, пуская в обиход слово «помпадур». К тому же титул знаменитой маркизы был созвучен русскому слову «самодур», которое цензура вряд ли пропустила бы в описании высших государственных чиновников. Вот и попробуй перевести щедринское «помпадур», к примеру, на английский! А там уже есть такое слово (как и почти во всех европейских языках) – означает прическу, введенную в употребление той же деятельной мадам. Этакий кок, который госпожа де Помпадур стала взбивать на своей голове, обнаружив, что волосяной покров редеет. И седеет! Вместо того чтобы надеть парик или покрасить волосы (хотя этот способ тогда французскими модницами не применялся), маркиза взбила кок и выставила седину на всеобщее обозрение, введя тут же моду на седую прядь в дамской прическе.
Многие русские названия потому и русские, что не имеют аналогов в других языках. Или же имеют совсем другое значение. Так, название пирога «наполеон» – придумка чисто русская.
Салтыков-Щедрин в одной из своих сказок ошарашивает медведя-воеводу лесной народной молвой: «…добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!.. Бурбон стоеросовый!» Ясно, что глупого медведя дураком обзывают. Известно ведь, что стоеросовыми только дураки и бывают. А при чем здесь бурбон? Во времена Салтыкова-Щедрина и Чехова это слово употреблялось в том же значении, какое имеет слово «солдафон», то есть «грубый, невежественный человек». А. Чехов пишет: «Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший, но между нами сказать, Бурбон и наук не любит».
Нелестное прозвище происходит от королевской фамилии Бурбонов. В 1814 году, свергнув Наполеона, европейские державы возвели на французский престол представителя этого семейства, который теперь известен как король Людовик XVIII. Многие дворяне-эмигранты после реставрации монархии вернулись на родину. Поскольку они были сторонниками дома Бурбонов, их Бурбонами и прозвали. «Возвращенцам», которые раньше были в армии солдатами и капралами, давали офицерские звания и должности. Да и армия уже была другая. Новоиспеченные командиры плохо разбирались в военном деле, однако ничему учиться не желали, а свой авторитет пытались поддержать чванством и грубостью с нижестоящими. В этом они копировали поведение правившего короля. Про того говорили, что он ничего не забыл и ничему не научился. И вот прозвище бурбон довольно скоро стало во Франции синонимом тупости и грубости. А из французского языка оно перешло в русский.
Вечное движение вперед
Пифагоровы штаны
О том, что «пифагоровы штаны во все стороны равны», знали еще дореволюционные гимназисты, они-то и сочинили эту стихотворную шпаргалку. Да что там гимназисты! Наверное, уже великому Ломоносову, изучавшему геометрию в своей Славяно-греко-латинской академии, приходилось рисовать квадраты на катетах и на гипотенузе. Теорема Пифагора, вероятно, – самое знаменитое математическое положение. Благодаря ей любой школьник знает, что Пифагор Самосский (570 до н. э. – 490 до н. э.) был великим математиком и эту теорему доказал.
На самом деле Пифагор эту теорему не доказывал, а экспортировал в родную Грецию среди прочих тайн Востока. В 18-летнем возрасте он уехал в Египет, где прожил среди египетских жрецов 22 года. Потом ученый оказался на другом конце тогдашнего обитаемого мира, в Вавилоне, но не по своей воле: его увели среди прочих пленников воины персидского царя Камбиза, завоевавшие Египет в 525 году до н. э. В Вавилоне Пифагор тоже общался в основном со жрецами. Вавилонские жрецы были самыми лучшими в тогдашнем мире астрономами и, следовательно, математиками. В Вавилоне Пифагор прожил 12 лет.
Совсем не светочем цивилизации была тогда Греция, а периферией культурного мира. Трудно сказать, много ли было в Вавилоне знатоков греческого языка. Но Пифагор, вероятно, неплохо понимал вавилонян, ибо сам родился в финикийском городе Сидоне и тамошнее семитское наречие, родственное аккадскому языку Вавилона, знал с детства.
В почтенном уже по тем временам возрасте, в 56 лет, отягощенный многими знаниями, Пифагор вернулся на остров Самос, откуда когда-то уехал в Египет. Самосцы почитали возвратившегося Пифагора великим мудрецом и философом. Но Пифагор рассчитывал на большее. Он видел себя Великим жрецом, наставником народа и советником правителей. А на Самосе правил тиран Поликрат, который ревностно оберегал свою власть. Править он намеревался без всяких советников и следил, чтобы среди его подданных не появлялось слишком выдающихся личностей, претендентов на власть. Короче говоря, на Самосе стало Пифагору неуютно, поэтому он уплыл с восточной части заселенных греками территорий (остров Самос расположен у берегов нынешней Турции) в одну из самых западных греческих колоний, город Кротон в Южной Италии.
На новом месте Пифагор достиг того, чего давно хотел. Он стал главой философской школы (пожалуй, даже религиозной секты). Полученные им на востоке знания, в том числе и математические, Пифагор излагал ученикам нарочито туманно, обожествляя числа и геометрические фигуры. Кроме того, он проповедовал здоровый образ жизни, аскетизм и строгую мораль. А еще высказывался в том духе, что власть должна принадлежать касте мудрых и знающих людей, которым народ обязан подчиняться безоговорочно, как дети подчиняются отцу. Ясно, что на роль мудрого отца Пифагор определил себя.
До успеха, казалось, недалеко. Учеников у Пифагора набралось много. Были они молоды, не прочь подраться, и, не сильно разбираясь в деталях учения, попросту обожествляли своего учителя и идейного руководителя. Пифагорейцы едва не пришли к власти в Кротоне. Но что-то все же не срослось. Пифагор бежал из Кротона в другую греческую колонию – Метапонт, где и умер.
Пифагор и пифагорейцы, пожалуй, не зря обожествляли числа и прочие математические объекты. В самом деле, математика – наука удивительная. Числа и фигуры в реальном мире не существуют, живут они только в наших головах. Живут по своим строгим логическим законам. Но при этом математические абстракции обладают способностью точно и однозначно описывать окружающий нас мир.
К чему далеко за примером ходить? Одним из основателей современной европейской математики считается Леонардо Пизанский (Leonardo Pisano; около 1170 – около 1250) по прозвищу Фибоначчи (Fibonacci). Он был купцом и сыном купца, жил в итальянском городе Пиза. Вместе с отцом Леонардо побывал в Египте, Сирии, Византии. Через Византию и через Египет в Европу поступали восточные товары. Ткани, пряности и драгоценности Востока очень ценились. Пизанские корабли постоянно пересекали Средиземное море, богатство города и его жителей прирастало.
Леонардо Пизанский вывозил с Востока не только дорогие товары. Он знал арабский язык. В арабском переводе Фибоначчи читал трактаты античных и индийских математиков. Эти трактаты в те времена размножали в библиотеках Багдада. Леонардо обобщил все, что узнал, в первом в средневековой Европе математическом труде, который назвал «Книгой абака». Абак – это древнеримские счеты, остававшиеся и во времена Фибоначчи главным «компьютером».
В своей книге Фибоначчи сообщил европейцам о десятичной системе счисления, которую арабы переняли у индийцев. Привычная и понятная нам позиционная система счисления, позволяющая для написания любого (сколь угодно большого) числа обойтись всего десятью цифрами, была для европейцев того времени откровением. Раньше они пользовались римскими цифрами. При такой записи чисел процедуры сложения и вычитания превращались в хитроумные трюки, умножение же и деление были попросту высшим математическим пилотажем, не каждому доступным.
«Книга абака» включала в себя все известные на тот момент знания по арифметике и алгебре. Другая книга Фибоначчи, «Практика геометрии», была сводом знаний по геометрии. Обе книги выдержали испытание временем.
Едва ли не четыре сотни лет они были главными учебниками математики в Европе.
В «Книге абака» Фибоначчи описывает и свое собственное математическое изобретение – числовой ряд, в котором каждый последующий член равен сумме двух ему предшествующих.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…
Этот ряд – решение задачи о потомстве двух кроликов, сформулированной самим Фибоначчи. Человек посадил пару кроликов в загон, окруженный со всех сторон стеной. Сколько пар кроликов за год может произвести на свет эта пара, если известно, что каждый месяц, начиная со второго, каждая пара кроликов производит на свет одну пару?
С точки зрения математиков эта последовательность очень интересная. Одна из главных ее особенностей – отношение каждого последующего члена этого ряда к предыдущему неуклонно приближается к числу 1,618. «Волшебное» это число известно с античных времен и называется еще «золотым сечением». Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Еще древнеегипетские и древнегреческие архитекторы установили, что если пропорции здания соответствуют золотому сечению, здание кажется нам красивым. К тому же оно оказывается наиболее устойчивым. Да и пропорции человеческого тела соответствуют «странной» цифре. Этот факт демонстрирует всем известный рисунок Леонардо да Винчи: фигура человека, помещенная в круг. Расстояние от ног человека до пупа (центра тела) и от пупа до головы находятся между собой в «золотой пропорции». Более того, многие существующие в природе спирали (рога животных, морские раковины, даже космические галактики) образуются как последовательность окружностей, радиусы которых относятся между собой, как числа Фибоначчи. Обычная для математики история. Математический объект возникает в результате решения какой-нибудь математической задачи, исследуется математиками по законам логики и возникает перед их мысленным взором во всей красе. И затем обнаруживается в самых разнообразных областях природы и жизни. Благодаря этому странному свойству математики возникла теоретическая физика, которая строит математические модели природы и с помощью этих моделей предсказывает новые физические эффекты.
Семь раз измерь
«Наука начинается с тех пор, как начинают измерять; точная наука немыслима без меры», – утверждал великий Дмитрий Иванович Менделеев. Абстрактный мир чисел, которым истово поклонялся Пифагор, связывает с реальным физическим миром одно простое действие, называемое измерением. Измерение – это сопоставление какой-либо физической величины с некоторым эталоном. При этом желательно, чтобы эталон был как можно более воспроизводимым, а сам процесс измерения – как можно более точным.
К повышению точности измерений приложили руку два человека, чьи имена нам приходится вспоминать, пользуясь нониусом или вращая рукоятки электрических приборов, снабженных верньерами.
Нониус – это вспомогательная шкала на измерительном приборе, повышающая точность измерений. Нониус видел всякий, кто хоть раз пользовался штангенциркулем или микрометром. Шкала нониуса помещается напротив основной шкалы. Нониус обычно имеет десять делений, но его длина равна только девяти делениям основной шкалы. В результате одно из делений на шкале нониуса всегда будет совпадать с одним из делений основной шкалы. Номер этого деления нониуса укажет количество десятых долей основной шкалы. Таким образом, простое, но хитроумное это устройство позволяет на порядок увеличить точность измерения основной шкалы.
Нониус назван так в честь португальского математика Педру Нуниша (Pedro Nunes; 1492–1577), который по-латински писал свое имя как Петрус Нониус. Большинству из нас его имя незнакомо. Между тем, в свое время Нуниш считался одним из лучших математиков Европы. Среди прочих у него обучался немецкий монах-иезуит Кристофер Клавиус, «главный архитектор» той календарной реформы, которую мы по имени осуществившего ее римского папы Григория XIII называем григорианским календарем, или новым стилем.
Первоначально Нуниш учился в университете испанского города Саламанка, а затем всю жизнь был связан с университетом в Лиссабоне. Когда в 1537 году университет переехал из столицы в город Коимбру, Нуниш переехал следом.
В 1525 году Нуниш получил степень доктора медицины и стал профессором университета. Он преподавал философию, логику, мораль и метафизику, что совсем не мешало ему непрерывно учиться. Педру продолжал изучать математику, астрономию и астрологию. Тогда особой разницы между двумя последними науками не делали. Точные математические расчеты нужны были и при вычислении положения небесных светил, и при расчерчивании натальной карты.
Большинство работ Нуниша было связано с навигацией, что не удивительно. Португальцы были тогда одними из лучших мореходов в мире. Благодаря стараниям принца Энрике по прозвищу Мореплаватель (Dom Henrique о Navegador; 1394–1460) у страны появились первые колонии в Африке. Появился и флот, оснащенный легкими трехмачтовыми кораблями, каравеллами.
Кораблям нужны капитаны, кораблям нужны навигаторы. Те и другие появились, когда в них возникла нужда. По большей части это были еврейские и арабские мореходы из Испании и с марокканских берегов. Для многих из них мореплавание являлось семейной профессией. Знания по навигации и морские карты передавались по наследству. Мореходы поголовно были грамотеями и полиглотами, ведь им приходилось разговаривать на языках многих народов, населявших побережья Средиземного моря и Индийского океана. В 1492 году тех из них, кто не принял христианство, изгнали из Испании. Многие изгнанники нашли приют в Португалии. Правда, через шесть лет новоприбывших насильно обратили в христианство, а тех, кто веру сменить не пожелал, тоже изгнали.
При жизни Нуниша в Португалии уже были моряки, успешно обогнувшие Африку, прошедшие по Индийскому океану до Индии. За Атлантическим океаном они открывали и осваивали берега страны, которую позже назовут Бразилией. Но и моряков, и штурманов для растущего королевского флота требовалось больше. Нуниш обучал их «навигацкому делу» в университете Коимбры. Математика была наукой стратегической.
Нуниш проделал виртуозные расчеты для уточнения навигационных карт. (Любая карта требует такого уточнения, потому что развертка поверхности земной сферы на плоскость не может быть выполнена без искажений.) А еще он более чем на сто лет раньше братьев Иоганна и Якова Бернулли научился вычислять продолжительность сумерек в любом месте земного шара, что тоже необходимо мореплавателям.
Нуниш был, вероятно, последним ученым-астрономом, трудившимся над усовершенствованием геоцентрической системы Птолемея. О системе Коперника ему было известно. Но, по-видимому, он посчитал более простым и практически полезным делом добавить еще несколько поправок к исправно действовавшей теории, чем создавать новую. Тем более что в тогдашней Португалии за такую теорию вполне можно было поплатиться. С тем, что Земля – шар, церковные авторитеты уже были согласны, однако гелиоцентрическая теория еще проходила по ведомству инквизиции.
Нуниш усердно разрабатывал основы сферической геометрии. Так, он первым понял, что корабль, следующий постоянным румбом, то есть все время держащий определенное направление, будет двигаться совсем не по кратчайшему пути, а по некоторой спиральной линии на поверхности глобуса, локсодрому. На известном памятнике первооткрывателям (Padrão dos Descobrimentos) в окрестностях Лиссабона среди прочих изображен и Нуниш с глобусом в руках. Если приглядеться, то на глобусе изображена та самая спиральная линия, которую открыл Нуниш.
Мореплавание без правильных расчетов и без точных навигационных приборов невозможно. Нуниш усовершенствовал конструкцию астролябии, которая повсеместно использовалась корабельными штурманами при прокладке курса. Добавление вспомогательной шкалы-нониуса повысило точность определения местонахождения корабля.
Заслуги Нуниша были признаны не только в академических кругах. В 1531 году король Португалии Жоан III поручил Нунишу обучать своих младших братьев Луиша и Энрике. Позже Нуниш занимался обучением королевского внука, будущего короля Себастьяна. С 1547 года и до конца своих дней он был королевским астрономом и астрологом.
Французский математик Пьер Вернье (Pierre Vernier; 1580–1637) усовершенствовал и упростил изобретение Нуниша настолько, что стало возможным его применять в любом измерительном приборе. В том же микрометре, к примеру. Так что нониус называют и верньером. Кому как нравится.
Пьер Вернье родился на востоке Франции, в городе Орнане. В те времена эта территория принадлежала не французским королям, а испанским Бурбонам. Математике и астрономии Пьера обучил отец, который был юристом, инженером и правительственным чиновником. В начале своей карьеры Пьер служил Бурбонам как военный инженер. В 1623 году он трудился над укреплением Безансона, что помогло городу выдержать несколько осад французских войск.
Вместе со своим отцом Пьер занимался также геодезическими работами и картографией. Необходимость повысить точность измерений заставила Вернье-младшего усовершенствовать изобретение Педру Нуниша. В 1631 году он издал в Брюсселе трактат, в котором описывал устройство для точного измерения углов, получившее впоследствии его имя. В книге давался способ определения углов треугольника, если известна длина всех его сторон. К концу жизни П. Вернье занял должность канцлера и распорядителя финансов города Безансона.