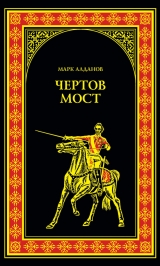
Текст книги "Чертов мост"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
III
Эссеид-Али в двухцветном, бело-зеленом, тюрбане, в богатом горностаевом костюме, покрытом мантией фиолетового шелка, верхом на великолепной арабской лошади, которую вели под уздцы рабы, в сопровождении отряда конной гвардии подъехал к Большому Люксембургскому дворцу. Неторопливо сойдя с коня, не глядя на огромную толпу народа, заливавшую улицы, балконы, окна, крыши домов, не осматриваясь по сторонам и усиленно скрывая охватившее его любопытство и смущение, он медленно вошел в Большой дворец. Там его уже ждал министр иностранных дел. Посол молча обменялся с ним глубокими поклонами. Секретарь-турок из свиты Эссеида благоговейно подал ему кусок красного пергамента, завернутый в белую кисею. Эссеид-Али набожно поцеловал султанский фирман и положил его себе на голову. На другом конце залы кто-то фыркнул. Но посол этого не услышал – он из всех людей, находившихся в зале, видел только министра иностранных дел. Лицо бывшего епископа Отенского сияло умилением и ясно говорило, что он был бы счастлив прикоснуться губами к подписи султана Селима, но не имеет на это права. Эссеид снова оценил поведение умного христианина. Еще раз поклонившись друг другу (посол при этом поклоне поднял с головы вытянутыми руками султанский фирман), они спустились в большой двор, тоже залитый народом. Посреди двора были устроены эстрады для правительства и почетных гостей. При появлении турка в богатом наряде, с руками, поднятыми к голове, по двору, смешиваясь со звуками «Марсельезы», пронесся гул изумления. Ждали странного человека, но он оказался еще более странным, чем думали. Турок, однако, сразу очень понравился парижской публике – каждый тотчас почувствовал, что он понравился всем другим, и это еще увеличило общую симпатию к послу султана Селима. Оркестр замолк. Настала совершенная тишина. Приблизившись медленно к срединной эстраде, Эссеид снял с головы фирман, снова его поцеловал и отдал Карно. Председатель привстал, взял в руки пергамент, что-то пробормотал и всунул фирман Бартелеми, который продержал его в руках до конца церемонии. Эссеид медленно низко поклонился три раза людям, сидевшим на эстраде. Директоры ответили ему поклоном. И тот-час чувство неудержимой радости с новой силой их охватило. Рейбель и Ларевельер-Лепо иронически себя настраивали в отношении турецкого дикаря и всей этой китайщины. Но улыбка самодовольства против их воли все шире расплывалась на их лицах. Бартелеми гордо оглядывался по сторонам, точно приглашая публику оценить по достоинству выработанный им церемониал. Баррас с завистью смотрел на драгоценные каменья, которыми с головы до ног был залит посол, и мысленно определял их цену. Только Карно чувствовал себя не в духе и с раздражением глядел на разукрашенного дикаря в меховом костюме. Ему хотелось возможно скорее кончить эту глупую церемонию и вернуться в свой кабинет к любимой работе над военной корреспонденцией, картами и планами кампаний. Вид многотысячной толпы волновал президента Директории – и раздражало его то, что после семи лет политической деятельности он был не в состоянии побороть в себе нервное возбуждение перед краткой пустой приветственной речью, которую должен был произнести.
Отдав три поклона и приняв поклон Директории, Эссеид развернул лист бумаги и стал читать с восточным напевом, несколько громче, чем было нужно. Легкая волна гула пронеслась по двору и замолкла во всеобщем напряженном внимании. Речь посла была следующая:
– Le Sultan, qui règne aujourd’hui si glorieusement dans les états ottomans, souverain de deux continents et de deux mers, le très-majestueux, très-redoutable, très-magnanime et très-puissant empereur, dont la pompe égale celle de Darius et la domination celle d’Alexandre, mon très-bienfaisant seigneur et maître, m’a chargé de présenter à ses sincères amis, la très-honorable et très-magnifique République française, cette gra-cieuse lettre impériale, remplie des sentiments de l’amitié la plus parfaite et de l’affection la plus pure, et il m’a envoyé en ambassade près d’elle, pour augmenter avec l’aide du Très-Haut, l’amitié et la bonne harmonie qui subsistent si solidement et depuis si longtemps être la Sublime Porte et la France. S’il plaît à Dieu, pendant ma résidence, je n’aurai rien de plus à cæur que de chercher les moyens de resserrer les liens de cette amidé pure et sincère qui unit ces deux grandes puissances…
[33]33
Султан, который ныне столь славно правит в своих оттоманских владениях, повелитель двух континентов и двух морей, величайший, грознейший, благороднейший и всемогущий государь, величие которого равно величию Дария, а власть – власти Александра, мой благодетель, повелитель и господин, вменил мне в обязанность передать его искренним друзьям, высокочтимой и достославной Французской республике его благосклонное царственное послание, содержащее выражение самой искренней дружбы и наилучшие пожелания, и послал меня с миссией, дабы с помощью Всевышнего развивать отношения дружбы и доброго согласия, столь прочно и в течение столь долгого времени существующие между Блистательной Портой и Францией, Если будет угодно Богу, во время моего пребывания я сочту своим долгом лишь искать средства к укреплению уз чистой и искренней дружбы, которые соединяют наши два великих государства… (франц.)
[Закрыть]
Напев восточного приветствия оборвался. С невыразимым наслаждением слушали речь Эссеида члены революционного правительства. Это было именно то, что им казалось нужным: восточный стиль турка поднимал престиж Директории. Снова гул пронесся по толпе. На второй эстраде кто-то нерешительно хлопнул в ладоши. Бартелеми строго посмотрел в сторону, откуда раздались тотчас оборвавшиеся рукоплескания: по церемониалу аплодировать не полагалось. Карно сердито встал и, неслышно откашлявшись. нервно дернув щекой, стал читать ответную речь:
– Monsieur l’ambassadeur de la Sublime Porte, notre amie… Le sultan Selim…[34]34
Господин посол Блистательной Порты, наш друг… Султан Селим… (франц.)
[Закрыть]
Голос его звучал резко и неприятно. Бартелеми умоляюще смотрел на президента, как бы приглашая его не портить своим тоном настроение столь удавшегося приема. На задних эстрадах и в толпе, наполнявшей двор, напряжение тишины сорвалось. Главное было позади. Люди стали обмениваться впечатлениями, сначала шепотом, потом все громче. Конец речи Карно уже тонул в гуле голосов.
К министру иностранных дел, занявшему место поодаль, сбоку у второй эстрады, медленно приблизился сзади сгорбленный седой старик лет семидесяти.
– Епископ, – сказал он негромко, с усмешкой.
Талейран поспешно оглянулся, чуть вздрогнул и долго молча смотрел на старика.
– Вы?.. – произнес он наконец тихим голосом.
– Как видите.
– Мы давно не встречались…
– Очень давно. В последний раз… Кажется, в последний раз я у вас завтракал перед революцией?.. В большом обществе… из которого не казнены только мы двое?
– Нет, еще Мирабо.
– Он умер, прах его выброшен из гроба: Мирабо почти казнен… Вы угостили нас прекрасным завтраком. Правда, постным – но вы тогда ждали кардинальской шапки. Отчего вы ее не получили? Она была бы вам очень к лицу…
– Помешала Мария-Антуанетта.
– Не сердитесь на нее: ей не повезло в жизни.
– Людям, которые со мной ссорятся, обычно не везет в жизни.
– Да, вы очень умный человек. Я хотел бы с вами побеседовать…
– И я тоже хотел бы. Но не сейчас… Как вас теперь зовут?
– Пьер Ламор.
– Когда бы?.. Приходите… – Он помолчал, соображая, и назвал число: – В десять часов на праздник в Elysée-Bourbon.[35]35
Нынешний дворец президента Республики. – Автор.
[Закрыть] Вы спросите мой кабинет. Можете?
– Я приду.
К министру иностранных дел подходил генуэзский посланник Бонарди. Талейран нагнул голову, прощаясь с Ламором, и приветливо протянул посланнику руку.
IV
– Нет, это бесполезно отрицать, Талейран. Террор великая, еще недооцененная сила. На нем нельзя построить столетия власти. Но кто же теперь гоняется за столетиями? А вообще, власть часто дается подлецам, которые режут врагов, не меряя кровь на литры. Резать так резать беспощадно… Робеспьер знал, что делал. Он только не понимал, что работает для других. Вот случай сказать: Sic vos non vobis.[36]36
Вы, но не вам! (лат.)
[Закрыть] Впрочем, это ему было, вероятно, все равно. Ему, может быть, даже было приятно подготовлять Францию для нынешних владык и для тех, кто их сменит. Ведь он все время собой любовался в зеркале истории… Террор! Говорят, покойный Бабеф пустил в обращение это слово… Хорошее слово! О, гильотина великая вещь, если палач умен и знает, чего хочет. Мы с молоком матери, почитательницы Руссо и Монтескье, – ведь наши маменьки все, не тем будь помянуты, почитали (не говорю, читали) Руссо или Монтескье, – мы с молоком матери всосали глупенькие газетные слова о том, что право выше силы! Я спрашиваю вас, епископ: где, когда в истории право было выше силы?
– Допустим, что и не выше. Но это не глупенькие слова: рано или поздно право всегда становится силой. Не знаю, как Руссо, а Монтескье дальше этого, вероятно, и не шел. Он был человек трезвый.
– Рано или поздно? Чаще поздно. И вовсе не всегда. «La violence et la vérité ne peuvent rien l’une sur l’autre»[37]37
«Насилие и истина ничего не могут поделать друг с другом» (франц.)
[Закрыть], – вы помните зловещее слово Паскаля?.. Положение палача в споре его с истиной немало облегчается тем, что истин всегда несколько и они друг друга ненавидят гораздо больше, чем ненавидят палача. Наконец палач тоже непременно сколачивает для собственной надобности какую-нибудь захудалую истину… О, да не мне учить вас этому, Талейран, вы знаете все это лучше меня. Вы видите, что такое нынешняя Франция… Сила сопротивления французского народа сломлена революцией надолго. Навсегда ли? Не знаю, не ручаюсь. Но надолго. Жатва готова, пусть только появится жнец!.. Могу вас уверить: он скоро появится.
Пьер Ламор вдруг встал, раздвинул портьеру и раскрыл окно, выходившее в сад. Пахнуло прохладой, густым ароматом очень поздно расцветшей липы, от которого при глубоком вздохе давит в голове, как от сразу проглоченной полной ложки мороженого. Где-то вдали, со стороны Елисейских полей, музыка играла «Ифигению в Тавриде». Было уже около одиннадцати часов вечера. Праздник давно кончился, и в саду бывшего дворца Elysée-Bourbon, освещенном лишь по небольшим участкам цветными фонарями, оставалась только избранная, особо приглашенная публика. Из гротов и беседок, разбросанных в разных углах сада, слышались голоса. Против окна комнаты, где стоял Пьер Ламор, происходило, по-видимому, что-то веселое. Там было устроено главное развлечение Елисейского сада, панорама из расставленных искусно огромных зеркал, принадлежавших в свое время маркизе Помпадур. Дорогие рамы их были освещены бумажными фонарями, и в этом участке сада было совершенно светло. Но Пьер Ламор не успел точно разглядеть, что именно там происходило: как только в первом этаже дворца из раздвинутой портьеры сверкнуло ярко освещенное, вдруг открывшееся окно, у панорамы раздались испуганные женские голоса, послышался пьяный смех, кто-то кратко неприлично выругался, и за зеркальную панораму, в темноту, скользнули обнаженные тела. Сбоку от зеркал находилась беседка, закрытая тяжелой раздвижной портьерой. Прислонившись лбом к щели портьеры, раздвигая ее над головой поднятыми руками, стоял спиной к Ламору какой-то грузный, пожилой человек. Над ним на проволоке горел красный фонарь, освещавший лысину, огромные бриллианты на пальцах, вцепившихся в бархат, и трясшиеся от смеха толстые плечи. Человек, смотревший в щель беседки, не оглянулся, когда у панорамы произошла суматоха.
Пьер Ламор закрыл окно (хотя в комнате было очень жарко), задвинул портьеру, нервно дергая ее, пока края не сошлись плотно, затем подошел к единственной двери большой, богато убранной, но грязноватой, запущенной комнаты, открыл ее, выглянул в коридор, снова запер дверь и вернулся к столу, на котором стояли остатки ужина. Талейран, не подходя к окну и не вставая, внимательно слушал, повернувшись назад в кресле, точно старался угадать по доносившимся звукам, что в саду происходило. Усталое лицо его было бледно; полуоткрытые глаза холодно блестели из-под опухших век. Когда Ламор закрыл окно, Талейран принял в кресле прежнее положение, налил в бокал на две трети рейнвейна (это вино вошло в моду после занятия рейнских провинций революционными войсками) и стал пить, как пьют знатоки: взглянул через бокал на свечу, затем привычным движением двух пальцев придал ножке бокала вращательное движение и, когда золотая поверхность сравнялась с краями тонкого стекла, вдохнул, раздувая ноздри, аромат испарявшихся летучих частей вина, затем с «cul-de-poule»[38]38
Здесь: вытянув губы (франц.)
[Закрыть] отпил глоток и несколько секунд переливал холодную влагу во рту, пробуя разными участками языка и нёба, по-разному ощущающими вкус вина. Столетний иоганнисбергер из разграбленных погребов майнцского электора был превосходен. Бывший епископ, только недавно вернувшийся, после долгих лишений эмиграции, к прежней, привычной ему с детства, роскошной жизни, оценил вино по достоинству. Он поставил пустой бокал на стол, благодарно и почтительно поправил в ведерке бутылку, затем полуоткрытыми глазами уставился на Ламора, не говоря ни слова.
Ламор рассеянно обводил взглядом расписанный под Буше потолок комнаты, в которой они ужинали.
– Я бывал когда-то в этом дворце у маркизы Помпадур, – сказал он наконец. – Вы не бывали у нее, Талейран?.. Нет, по вашему возрасту вы, конечно, и не могли бывать… Милая была женщина и чудесные устраивала приемы… Теперь у нас принято умиляться, – вот еще сегодня в клубе «Клиши» какой-то роялист орал: «Во дворце святой мученицы, принцессы Ламбаль, устроен публичный дом!» Подумаешь! Я, кстати, терпеть не мог принцессу Ламбаль… В ее наружности было что-то странное и отталкивающее, еще до того, как ее муж – славный был мальчик, помните? – заразил ее сифилисом… Или вот этот дворец!.. «Помилуйте, в Elysée-Bourbon притон!» Да где же, собственно, и быть публичному дому, если не в бывшем дворце маркизы Помпадур? Там ли еще бывают притоны! Вы заметили, Талейран, веселые дома всегда устраиваются в таких местах, где их существование – прямой вызов исторической морали? В Милане лучший собор Италии со всех сторон окружен притонами публичных женщин. А Сион!.. Вы не были в Иерусалиме, епископ? Сионский холм – восточная rue Fromenteau. Вокруг гробниц Давида и Соломона ютятся арабские дома терпимости, нет, даже не дома, а лачуги терпимости. Соломон-то, быть может, ничего не имел бы против этого, если б его предупредили три тысячи лет назад… Я не знаю более порнографической книги, чем «Песнь Песней». Подумать только, глубокомысленные комментаторы усмотрели в ней какую-то религиозную аллегорию, кажется, любовь церкви к Господу Богу или что-то в этом роде!.. Вот уж, можно сказать, были знатоки поэзии!
Талейран зевнул, взял с тарелки вилку и стал чертить ею по жиру манской пулярды.
– Вы не изменились… Философия притонов! Скептицизм невысокого полета! – сказал он. – Говорят, вы были лучшим украшением обедов барона Гольбаха. Но ведь Гольбах давно умер. Мы рассуждаем не о «Песни Песней». Я почему-то думал, что вы будете говорить о серьезных делах.
– Погодите, погодите, поговорю и о серьезных делах… А покойный Гольбах, кстати, тоже бывал в этом дворце. Я встречал его здесь у генерального контролера финансов – аббата Терре. Помните аббата Терре, епископ? Его упрекали в том, что он достает деньги из чужих карманов: «Il prend I’argent dans les poches!» – «Où voulez-vous que je le prenne?»[39]39
«Он берет деньги из карманов!» – «Откуда, по-ващему, я должен их брать?» (франц.)
[Закрыть] – резонно ответил министр. Революционное правительство делает то же самое, но уж очень гнусно это у него выходит. И так во всем: тот же старый режим, только гораздо грубее, обнаженнее, безобразнее… Я видал прежних правителей вблизи и знаю им цену. Мы жили худо, но все же не так гнусно, как живем теперь. Потомству нашему будет казаться, что революция расцветила, украсила жизнь. На самом деле жизнь была, в общем, гораздо ярче до революции. Нет ничего бледнее и беднее, чем революция. Ничто так не суживает душу, ничто так не извращает разум… Вы думаете, я идейно ненавижу якобинцев или Директорию? Нет, не только идейно. Конституция 1793 года ничем не хуже других конституций, даже, быть может, лучше и справедливее. Геро де-Сешель был образованный человек. Говорят, правда, он писал свою конституцию в пьяном виде – да чего только люди не говорят о тех, кто нарушает их интересы? Якобинские идеи не хуже других политических идей – они тоже могут увлечь лавочника… Нет, я ненавижу всех этих господ не мозгом – скорее, нервами кожи… Я презираю их, презираю их язык, их обращение, жизнь, которую они создали, их хваленую новую жизнь … Презираю и ненавижу, ненавижу люто, Талейран. Когда кто-либо из них умирает естественной смертью, мое первое ощущение: как жаль, его нельзя будет повесить!
– Умерьте кровожадность. Повесить можно будет только очень немногих.
– Я и сказал, первое ощущение. Ощущение, а не мысль. Умом я понимаю, вы правы: повесить можно будет, к сожалению, далеко не всех. Слишком большое число мелких участников имеет это общество по эксплуатации и по распродаже Франции… Опять будет лотерея… А все-таки тех немногих я никому не подарю. О, будет у нас и другой террор, епископ!..
– Чем же тот другой террор будет лучше этого?
– Тем, во-первых, что восстановит равновесие. Квит – прекрасная вещь, и «не мы начали» – также хорошая вещь. Люди это любят: заметили ли вы, ни в одной армии в мире не существует разведки – всюду непременно контрразведка … Но еще и во многих других отношениях тот террор будет лучше…
Талейран с любопытством поднял глаза на старика, но никакого вопроса не задал. Не получив пояснений, он снова равнодушно стал чертить вилкой по жиру.
– О чем мы говорили, епископ? – спросил, помолчав минуты две, Ламор (ему, по-видимому, доставляло удовольствие называть своего собеседника епископом). – Да, о терроре, об истине, о насилии. Вы сомневались в том, что сопротивление французского народа сломлено восемью годами революции? (Талейран неопределенно пожал плечами.) Вот что я вам скажу, Талейран. Вы помните историю тринадцатого столетия? Не помните? Это было замечательное столетие. Оно немного напоминает дни нашей молодости. В то время лучшие люди уже начинали верить во всемогущество разума, в процесс бесконечный и неуклонный. Было вновь найдено римское право, эллинский гений возрождался, арабы, евреи воссоздавали древнюю науку, расцветало искусство: только что был отстроен собор Notre Dame de Paris. Лучшие люди были очень довольны. И вдруг гром грянул с неба: Гузман основал инквизицию. Лучшие люди долго не могли опомниться и поверить. Этакий неприятный сюрприз: инквизиция! «Не может быть, это непрочно, это не будет продолжаться! Бог не допустит! Не сегодня, так завтра гнев Божий сметет с лица земли людей, позорящих христианское учение!..» Они надеялись на гнев Божий, как мы на волну народного гнева. Об этом говорил Бернард le Délicieux[40]40
дивный (франц.)
[Закрыть] – был тогда такой правдолюбивый монах, – об этом, много позже, говорила на костре Жанна, об этом говорил перед костром Гус, – помните письма Гуса, я не знаю трогательнее книги, И ничего, оказалось, инквизиция может существовать довольно долго: пережила и Бернарда, и Жанну, и Гуса. Что было в конечном счете, епископ? В конечном счете Гузман был объявлен святым; это святой Доминик. Он, впрочем, в самом деле был человек праведной жизни и основал инквизицию ради счастья людей. Талей-ран, когда же церковь канонизирует Гуса и Бернарда? А ведь она всегда следила зорко за душами, за умами людей. Если святым объявлен Гузман, а не Гус, значит, люди могли это принять. Инквизиционный террор сломил душу и разум человечества… Одно поколение уничтожается террористами, следующее – они уже воспитывают. И дело строится иногда довольно прочно… Не всегда, но иногда. Ведь я, счастливый современник якобинцев, ведь я был и современником инквизиции. Я лично знал Андре Дюлора, последнего инквизитора Франции; он был, кстати, недурной и просвещенный человек, гораздо симпатичнее Марата. Его должность упразднили лет двадцать назад – больше потому, что он повздорил с госпожой Дюбарри, которая пожаловалась королю. В других странах инквизиционный аппарат благополучно действует и поныне. В Испании еще недавно кого-то сожгли, к большому негодованию якобинцев. Эти поэты гильотины очень возмущаются костром… Они вообще чрезвычайно возмущаются, когда за границей делают какую-либо гадость. И часто возмущаются вполне искренне. Заметьте, Тартюф глуп: он почти не замечает своего лицемерия… Поверьте, Талейран, если Директория просуществует пятьдесят лет, Баррас станет великим человеком. Найдутся дураки, которые канонизируют Барраса! Долголетняя власть создает престиж любому болвану – и это единственное основание престижа многих исторических деятелей… Но, к счастью, Директория пятьдесят лет не просуществует. О нет, об этом кто-то позаботится, епископ!.. Говорю «к счастью», а то уж слишком это было бы глупо!
Он весело засмеялся, встал, прошелся по комнате, затем остановился перед Талейраном, глядя на него в упор.
– Давайте построим политический силлогизм по всем правилам логики. Признаете ли вы, что наше настоящее правительство состоит из отъявленных мерзавцев?
– Как вам сказать? Легкое преувеличение, конечно, есть: Ларевельер-Лепо, например, человек искреннего убеждения.
– Правда? А я сомневаюсь. У Ларевельера честным открытый взгляд. Я плохо верю, чтобы у человека, поднявшегося на вершину власти, мог быть честный открытый взгляд. Слишком много луж расположено на пути к королевским и республиканским тронам – очень трудно пройти не оступившись. Кроме того, Ларевельер много говорит о своей честности; это в пору революции для меня безошибочный признак: значит, мы имеем дело с мерзавцем. Но пусть будет по-вашему. Случайное исключение можно оставить в стороне… Я иду дальше… Признаете ли вы, что, кроме Карно, мерзавцы, стоящие у власти, вдобавок совершенные ничтожества?
– Это главное…
– Разумеется. Тогда простите, мне не совсем понятно: зачем же вы связали себя с гибнущей Директорией? Вы, один из умнейших людей нашего времени, состоите подчиненным Бартелеми, Барраса, Ларевельера! Вы исполняете их мудрые предначертания! Какое падение, Талейран!
– Директория еще не гибнет. Она продержится – до первого крепкого толчка…
– Нескромное замечание, епископ: вы не боитесь, что при первом крепком толчке вас могут повесить?
– Не думаю.
– Я знаю, вы в день крепкого толчка самоотверженно броситесь на помощь победителю. Но победители бывают злы и злопамятны.
– Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь.
– Не буду настаивать… Пойдем дальше: кто же, по-вашему, нанесет крепкий толчок? Роялисты? Едва ли. Уж очень они глупы. И уж очень их боятся те, кто унаследовал их земли… Нет, у роялистов нет светлого будущего – и слава Богу: надоели! Бурбоны и теперь, после казни Людовика XVI, на хлебах у сумасшедшего русского императора и полоумного английского короля, продолжают твердо верить в свое божественное право, в божественное право всех монархов, здоровых, полоумных и сумасшедших… Нет, пусть посидят за границей.
– Мы их позовем, когда у них убавится веры в божественное право…
– Или вовсе не позовем. Пойдем еще дальше… «Клуб Пантеона»? Партия Бабефа? «Манифест равных»? Я не отрицаю будущего коммунистических идей. Я хочу сказать: всегда будут люди, которые будут думать, что у этих идей: есть будущее. Но настоящего у них никогда не будет… Впрочем, что же о них говорить: клуб Пантеон закрыт, и Бабеф казнен – вечная память!
– Ну а чистые демократы? Или Кондорсе был последний?
– Демократия, Талейран? О, это игрушка с большим будущим. Демократия спасет мир, она же его потом и погубит. Вы любите «Discours de la méthode»?[41]41
«Рассуждение о методе» (франц.)
[Закрыть] У нас на каждом заборе будет висеть по десятку «Discours de la méthode»… Но это дело не завтрашнего дня… В революционное время шансы демократии ничтожны: она далекая наследница революций – не любимая дочь, а неведомая правнучка. Как ей победить в наши дни? Если на мгновенье демократия приходит к власти, она тотчас дарит противникам подарки: свободу слова, неприкосновенность личности и много других хороших вещей… Я не знаю случая в истории, чтобы кто-нибудь погубил демократию: она всегда сама себя губила. Заметьте, я в принципе большой ее сторонник. Подумайте, Талейран, как это хорошо: мыслить свободно, высказывать свое мнение открыто, спорить мирно, убеждать вежливо, потом решать согласно воле большинства… Du choc des opinions jaillit la vérité…[42]42
Истина рождается в спорах (франц.)
[Закрыть] Мне, правда, не приходилось видеть, как истина возникает из столкновения мнений. Но умные люди говорят, что это бывает. Это очень хитрая вещь. Я слышал, как Вольтер спорил с Даламбером – не было истины. А вот стукнется лбами тридцать миллионов тупых невежественных крестьян, и, очень возможно, истина брызнет потоком. Странно, но это так… Я говорю вполне серьезно. Счастье демократии в том, что ее противники еще пошлее, чем она сама… Однако в периоды революции демократии нечего делать и незачем лезть в историю. Представьте себе дуэль: у одного противника отточенная шпага, у другого рапира с тупой пуговкой на конце. Второй, быть может, фехтует гораздо грациознее, но у него на лезвии тупая пуговка, тогда как шпага первого несет смерть… Демократ требует свободы слова для своих противников, а они его сажают в Консьержери. Он грозит им судом истории, а они ему рубят голову, как отрубили головы жирондистам. Неравная борьба… Нет, епископ, победа демократии в революционное время – это чудо. Чудеса бывают, но очень редко… А я готов бы поставить на эту карту. Скажу больше, я все-таки, быть может, на нее поставил бы, если б… если б не другое чудо, – о нем мы еще поговорим… Не поставишь – не выиграешь… Лучше ставить на чудо, чем вовсе ни на что не ставить. А на что же другое? Не на Директорию же!
Ламор опять заходил по комнате. По-видимому, мысли, которые он высказывал, и волновали его, и радовали.
– Давно ли вы читали Макиавелли, Талейран? – спросил он, остановившись, и, не ожидая ответа, продолжал: – Перечтите. Вот книга, которая нескоро устареет. Перечтите в «Государе» главу «Di quelli che per sceleratezza sono parvenuti al Principato».[43]43
«О тех, кто пришел к власти путем злодейства» (итал.)
[Закрыть] Точно написано о наших ны…








