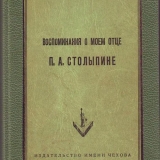
Текст книги "Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине"
Автор книги: Мария Бок
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Глава XIV
Всё время моего пребывания в Риме я получала много писем из дому и с грустью узнала из них, что Наташа больна воспалением легких. Ее начали катать в кресле-кушетке по залам Зимнего дворца, где была очень неровная температура, и она, избалованная долгим лежанием в одной и той же комнате, простудилась.
Перенести такую тяжелую болезнь изнуренному организму бедной Наташи было очень трудно, и одно время совсем почти пропала надежда на ее выздоровление, но, по воле Божьей, и тут она выжила и сама писала мне в кровати короткие записки, зовя меня скорей домой.
К Рождеству я вернулась. Одной мне не позволили ехать так далеко и послали м-ль Сандо меня встретить в Мюнхен, до которого меня провожала католическая монахиня.
Помню, как эта монахиня с неизменной, какой-то далекой и рассеянной улыбкой смотрела на меня, слушая мои рассказы и односложно отвечая на мои вопросы. Она была немкой, так что мне было бы легко с ней говорить, но она не имела ни малейшего желания вступать со мной в разговоры и сидела всю дорогу так неподвижно и прямо, что даже не смяла своего белого накрахмаленного головного убора, который не снимала и на ночь. Когда я, просыпаясь ночью, открывала глаза, я видала ее всё такой же свежей, спокойной, сидящей, не опираясь о спинку дивана, и перебирающей четки.
Пасмурным и неприветливым показался мне Петербург после солнцем залитого Рима. И люди все представлялись мне хмурыми и недовольными: то нервно-веселыми, то какими-то пришибленными.
Дивные цветы, которыми наполняли дворцовые садовники наши гостиные, совсем меня не радовали и казались чахлыми и бледными после полных жизненными соками цветов, горами лежащими на Campo di flori и на лестнице Trinita dei Monti. А бедная моя, такая измученная худая-худая Наташа…
Стыдно было за свою жизнерадостность, за дивные дни, прожитые в тепле и солнце, глядя на нее и думая, что она всё это время вот так и пролежала то в кровати, то на кресле, страдая и от ран, и от ужасно мучительных пролежней, образовавшихся от долгого лежания.
Адя был совсем здоров, он меня не узнал и стал называть тетей. Когда же я ему объяснила, что я не тетя, а та самая сестра, которая его всегда укладывала спать, он ужасно сконфузился и весь день ходил потупившись, ни с кем не разговаривая и всё повторяя себе под нос: «Грустно мне, что я не узнал Матю».
Папá я нашла менее утомленным, чем, когда я уезжала, как и мамá. Боязнь за жизнь Наташи улеглась, и они начали вести более нормальный образ жизни. Папá был сильно занят мыслью о выборах во вторую Государственную Думу, открытие которой должно было произойти в феврале.
Глава XV
В конце 1906 года главной заботой моего отца была подготовка возможно большего количества законопроектов для внесения к открытию второй Государственной Думы. Министры, не привыкшие к парламентскому строю, оказались совершенно не подготовленными к работе с Думой, что выразилось в почти полном отсутствии представленных ими в первую Государственную Думу законопроектов. Дума, оставшаяся без работы, занялась исключительно пустой болтовней и злостной критикой правительства.
Помню рассказ папá, как ему много пришлось поработать, чтобы приучить министров к новой тактике и созданию законопроектов. Его единственным стремлением было сразу занять членов Государственной Думы и придать их работе деловой характер.
В это же время мой отец провел по 87 статье Земельный закон, опубликованный 9-го ноября 1906 г.
Уничтожение общинного землевладения и переселение крестьян на хутора было мечтой моего отца с юношеских лет. В этом он видел главный залог будущего счастья России. Сделать каждого крестьянина собственником и дать ему возможность спокойно работать на своей земле, для себя, это должно было обогатить крестьянство.
При общинном землевладении крестьянин являлся лишь временным эксплоататором назначенного ему общиной земельного участка. Последние дробились, по мере прироста общины, вследствие рождаемости, на более мелкие участки. Крестьянин, как временный владелец своего участка, конечно, старался не улучшить, а наоборот высосать землю. Кроме того, благодаря скученности жизни в деревне участки часто находились в весьма отдаленном расстоянии от дома временного владельца, расстоянии, доходившем иногда до десяти, двенадцати верст.
Всё это представляло громадное неудобство для крестьян и значительное удобство для революционных агитаторов. Совместная жизнь крестьян в деревнях облегчала работу революционеров, а недостатки общинного владения давали последним столь важный козырь в руки, что им легко было перевести крестьян не только на свою сторону, но и сделать из них орудие для своих преступных намерений.
Согласно Земельному закону, вся площадь, находившаяся в общинном владении, парцелировалась и передавалась в полную собственность каждого отдельного крестьянина с возможностью перенесения его построек из деревни на участок.
Всё это производилось за счет государства.
Кроме того, на Крестьянский Банк возлагалась обязанность скупки имений, парцеляции их и продажи желающим крестьянам с выплатой весьма льготной стоимости земли во много лет.
Последняя мера была особенно необходима вследствие недостатка земли у крестьян из-за прироста населения с 1861 года, когда освобожденное от крепостной зависимости крестьянство было наделено землею на правах общинного землевладения.
Чтобы подать пример помещикам, папá первый продал наше Нижегородское имение Крестьянскому Банку.
Недостатки общинного землевладения породили социалистов-революционеров – наиболее опасную для правительства партию. Крестьянство, распропагандированное социалистами-революционерами, в некоторой части своей стало представлять большую угрозу. 1905 год, когда почти по всей России пылали помещичьи усадьбы, подожженные крестьянами, ясно это доказал.
Проведением хуторской реформы, где каждый крестьянин становился сам маленьким помещиком, уничтожалась партия социал-революционеров. Поэтому понятно их стремление остановить реформу. Работа этой партии выражалась не только в агитации среди крестьян, часто, благодаря этому противодействовавших проведению реформы, но и вообще в искусной агитации против моего отца и устройстве постоянных на него покушений.
Глава XVI
Работал мой отец далеко за полночь, обыкновенно до трех часов ночи, причем никогда днем не спал, если не считать короткого отдыха, который он себе позволял ежедневно перед обедом. Тогда он ложился у себя в кабинете на диване и немедленно засыпал на 15 минут, после чего вставал абсолютно свежим и бодрым. Утром он всю жизнь к половине девятого уже совершенно одетый пил кофе.
При такой напряженной работе была ему необходима, хотя бы часовая прогулка на свежем воздухе, но каждый выход или выезд папá из Дворца был сопряжен с такой опасностью для его жизни, что прошло некоторое время, пока не был выработан план устройства таких прогулок.
Ведь хорошо было известно не только полиции, но и моему отцу, что партия социал-революционеров не прекращает готовить на него одно покушение за другим и эта работа шла особенно усиленным темпом до 1909 года, когда деятельность революционеров несколько ослабела. В 1906 же году боевая дружина партии работала исключительно интенсивно. Не менее основательно работала и полиция, искусно открывая готовящиеся покушения.
Начальник охраны папá, разработав план прогулок и выездов, доложил, что он только в том случае может взять на себя ответственность за охрану, если папá на улице не будет давать никаких приказаний ни шоферу, ни кучеру, а будет следовать лишь по тем улицам, которые будут заранее указываться при каждой поездке.
Сначала такая постановка дела начальником охраны сильно раздражала папá, но после некоторых открытых покушений он совершенно с этим согласился.
Работа охраны Зимнего дворца была сильно облегчена массою входов и выходов из него, выходящих на разные улицы.
Выходя из дому, папá сам вперед не знал, какой подъезд будет ему указан для выхода, куда будет подан его экипаж и, если совершалась прогулка, то не знал, куда его повезут. В определенном охраной месте экипаж останавливался, папá выходил из него и совершал часовую прогулку пешком. По окончании прогулки мой отец не знал, ни по каким улицам его повезут, ни к какому подъезду подвезут. Эти остановки происходили в самых разнообразных местах, обыкновенно на окраинах, или за городом.
Поездки с докладом к государю, жившему зимой в Царском Селе, а летом в Петергофе, тоже происходили разными способами и были обставлены самыми тщательными мерами предосторожности. Почти всегда папá ездил с докладом к государю вечером и возвращался около часу ночи.
Из частных лиц первые два года папá не бывал ни у кого, за исключением своей сестры Марии Аркадьевны Офросимовой.
Тетя Маша Офросимова переселилась с семьей в Петербург этой зимой и из дому совсем не выходила, так как была очень больна. Мой отец глубоко любил свою единственную сестру и, невзирая на связанную с этим опасность, ездил к ней во время ее болезни.
Через короткое время охрана открыла, что бывшая свободной квартира, напротив дома тети Маши, была нанята возбудившим с самого начала подозрения лицом. Когда же установили наблюдение, выяснилось, что квартира нанята террористами. После ареста человека, снявшего квартиру, он сознался, что должен был по постановлению партии социал-революционеров, произвести покушение на папá. На следствии он показал, что два раза его рука подымалась для выстрела в моего отца, когда он подходил к окну, но папá оба раза был не один: один раз подвозил на кресле к окну свою больную сестру, а другой раз разговаривал с поставленным им на подоконник мальчиком и при этом так нежно с ним обращался, что рука убийцы невольно опускала револьвер.
Глава XVII
После Рождества мамá стала вывозить меня в свет, но заставить меня делать визиты, ездить на балы, примерять платья и шляпы оказалось делом не легким.
«Света» я вообще не любила, развлекаться не стремилась, а теперь с тяжело больной Наташей, настроение стало совсем не «светское», и сердце не лежало ни к каким увеселениям.
За этот сезон было несколько красивых балов, самый удачный из которых был «têtes poudrées» во Французском посольстве.
Все дамы были на этом балу или в париках, или напудренные, что придавало залу очень оригинальный и красивый вид.
Были красивые большие балы у графини Мусин-Пушкиной и княгини Трубецкой. Но в общем я наши петербургские балы оценила только тогда, когда уже, будучи замужем, приезжала в Петербург из Берлина.
Масса блестящих мундиров военных и огромное количество брильянтов у дам создавали картину до того блестящую, что заграничные балы с нашими и сравнивать не приходилось.
Масляница была в Петербурге самой веселой неделей, во время которой балы, представленья, катанья на тройках сменяли друг друга без перерыва.
Ровно в 12 часов ночи, в воскресенье перед постом, всё прекращалось – театры закрывались, гости в частных домах разъезжались и утомленная последней неделей молодежь, полная радостными воспоминаниями и радужными надеждами отдыхала все семь недель Великого поста.
Многие девицы кончали сезон невестами; постом готовили приданое, а на «Красную Горку» (Неделя после Пасхи.) праздновалась свадьба.
При дворе в эти годы уже не бывало приемов, так что про великолепные балы в Зимнем и Аничковым дворцах я знаю лишь по рассказам старшего поколения.
Глава XVIII
Обеим императрицам ездила я представляться с моей матерью – Марии Федоровне в Гатчину, а Александре Федоровне уже весной в Петергоф.
Поездка в Гатчину ответила вполне, с самого начала до конца, моим детским представлениям о приеме у императрицы.
Приехав из Петербурга в Гатчину в специальном вагоне, мы были встречены на вокзале придворным выездным лакеем, усадившим нас в придворную коляску.
Через несколько минут езды по городу въехали мы в ограду дворцового парка, и коляска бесшумно покатилась по мягким гладким аллеям. Вскоре среди деревьев показался большой, строгой архитектуры дворец, и нас провели через множество комнат и зал. При входе стояли огромного роста арапы в ярких, декоративных костюмах.
В комнате, перед кабинетом императрицы, нас встретила ее личная фрейлина графиня Гейден, с которой мы и посидели несколько минут, пока не вышла от императрицы представлявшаяся ей дама, и нас графиня Гейден провела к ней.
Первое впечатление от императрицы-матери было:
как это можно с таким маленьким ростом сочетать эту царственную величавость? Ласковая, любезная, простая в обращении Мария Федоровна была императрицей с головы до ног и умела сочетать свою врожденную царственность с такой добротой, что была обожаема всеми своими приближенными.
Меня с первого же взгляда очаровали ее глаза: глубокие прекрасные, на редкость притягивающие к себе, и я вспомнила, как мой дедушка Аркадий Дмитриевич Столыпин, глядя на императрицу, сказал ей раз:
Du hast Diamanten und Perlen
Und alles was Liebсhen begehrt,
Du hast ja die sсhönesten Augen…
сказал и запнулся, заметив, что говорит «ты» в фразе, относящейся к императрице; но та улыбнулась и милостиво промолвила:
– Mes vieux sont toujours galants.
Поговорив с нами около получаса, императрица простилась, и мы, позавтракав у пригласившей нас к себе графини Ольги Гейден, вышли к ожидавшему нас экипажу.
Совсем не таким было представление императрице Александре Федоровне.
Тот же вагон, та же карета, а дальше всё совсем иначе, не «по-царски», а как в имении, или на большой даче какого-нибудь частного лица.
Это было весной, в «Александрии», в Петергофе.
Небольших размеров, донельзя скромно устроенный дворец только почетной охраной напоминал въезжающему, что в нем живет государь, а не помещик средней руки.
Мы вошли: ни амфилады зал, ни арапов, ни большого количества слуг. Нас провел один камер-лакей во второй этаж, в маленькую светлую, приветливую гостиную. Мебель обтянута «чинцом» с цветами, семейные фотографии, масса цветов в вазах и так мало места, что трудно было сделать положенный этикетом реверанс. Молодая, очень красивая императрица Александра Федоровна с нервными, усталыми движеньями, одетая не только просто, но даже старомодно, говорила с мамá довольно долго. Я сидела скромно и тихо, слушала и удивлялась про себя темам разговора. Почти всё исключительно про детей, особенно про наследника. Императрица говорила с жаром – видно было, как эти вопросы волнуют ее, – о том, как трудно найти действительно хорошую няню, как ей страшно, когда маленький Алексей Николаевич близко подходит к морю, какие живые девочки великие княжны, как государь устает, и как полезно ему пребывание на морском воздухе.
А я думала, навсегда запомнив грустные глаза и тревожную речь Александры Федоровны: какая идеальная жена и мать и не создана она для того, чтобы быть императрицей одной из величайших стран земного шара!
Представлялась я также великим княгиням: Марии Павловне и Ольге Александровне. Мария Павловна, уже тогда не молодая, очень мне понравилась и своим элегантным темносиним бархатным платьем, и важной осанкой, и спокойной речью. А у Ольги Александровны я очень веселилась. Молодая, живая и веселая сестра государя рассказывала всякие смешные вещи и смеялась сама так заразительно, что хохотала и я, забывая, что я во дворце, на приеме у великой княгини.
Глава XIX
Эмир Бухарский, почти ежегодно проводивший в Петербурге несколько недель, неоднократно посещал моих родителей, и посещения эти были в высшей степени типичны и интересны.
В день, когда его ожидали, готовился богатый «досторхан» – восточное угощение, состоящее из массы разнообразных сладостей, которыми уставлялся целый большой стол.
Являлся Эмир со своим сыном и свитой человек в двенадцать. Все были одеты в красочные восточные одеяния и говорили на своем языке.
Эмир разговаривал через переводчика с моими родителями, а сын его, воспитанник Пажеского корпуса, почтительно сидел в стороне и слушал.
Восточное воспитание требовало такого глубокого почтения сына к отцу, что юноша не смел даже сесть в лифт, когда подымался в нем эмир, а бежал рядом по лестнице.
При каждом посещении эмир делал моим родителям и раненой Наташе множество богатых подарков: шелковые ткани, чудные меха, ковры, вазы и другие предметы восточной роскоши. Во время его первого посещения папá получил от него звезду, усеянную брильянтами такой удивительной чистоты, что петербургские ювелиры не могли на них налюбоваться. Еще роскошнее были дары хана Хивинского, тоже приезжавшего в Петербург, но реже. Подарил он моим родителям между прочим четыре громадные вазы, две из которых были из чеканного серебра великолепной работы.
Глава XX
Насколько я мало интересовалась светской жизнью, настолько с возрастающим интересом следила я за ходом жизни политической.
От папá лично лишь урывками приходилось мне слышать о чем-либо, касающемся его работы, и с тем большей жадностью ловила я каждое его слово во время тех коротких минут, которые мы проводили в его обществе.
Конечно, все интересы сосредотачивались на предстоящем открытии второй Государственной Думы.
Состоялось открытие этой Думы 20-го февраля 1907 года очень тихо и скромно, сравнительно с торжественным открытием Думы первого созыва. Государь на открытии не присутствовал.
Через два-три дня по неизвестным причинам провалился потолок залы в Таврическом дворце, и на то время, пока производился ремонт, заседания Думы были перенесены в Дворянское собрание.
В этом зале мой отец выступал 16-го марта с большой правительственной декларацией, в которой он подробно и ясно изложил все последние мероприятия правительства, как и программу, намеченную на ближайшее будущее.
Мы с моей матерью были, конечно, в этот день в Думе. Ложи для публики были устроены не на хорах, как в Таврическом дворце, а внизу, так что мы находились очень близко к ораторам и видали и слыхали всё очень отчетливо.
Декларация, громко и четко прочитанная папá, была прослушана молча и серьезно, без тех оскорбительных выкриков, к которым мы так привыкли в первой Думе, и по прочтении была покрыта шумными аплодисментами справа.
Глядя на удовлетворенное лицо папá, сходящего с трибуны под аплодисменты, невольно с облегчением вздохнула и я, слушавшая с напряженным вниманием его слова. Боже мой! Неужели наступили, действительно, те долгожданные дни, когда Дума и правительство смогут рука об руку работать на благо России!
Но надежды эти были напрасны и сразу, разбиты, когда начал свою речь социал-демократ Церетелли, взошедший на трибуну после моего отца. Как болезненно сжалось сердце, когда я услышала его слова: снова огульное осуждение правительства, грубая хула, наглые, уже ставшие трафаретными, выкрики…
Правые подняли невероятный шум, требуя от председателя остановить оратора. Председатель Головин, не обращая ни малейшего внимания ни на возмутительную речь Церетелли, ни на выкрики левых депутатов, стал требовать прекращения шума справа.
Церетелли сменили другие представители левых партий, до кадетов включительно, и полились бурные потоки грязи на правительство. Когда же стремились сказать свое слово правые, левые криком и шумом мешали им высказаться.
Наконец, было принято предложение о прекращении прений.
Слушая с бьющимся сердцем ораторов, я не спускала в то же время глаз с папá. Зная и понимая его, насколько это было мне доступно, я переживала с ним эти горькие минуты и сразу сознала, что не в его характере оставить дело так, что на грубые нападки онответит и не допустит в такой момент прекращения прений.
Да. Так и есть. Папá встал и с гордо поднятой головой спокойно взошел на трибуну и так властно и уверенно раздался его голос, что вся огромная, только что гудевшая и стонавшая от криков зала вдруг замерла.
Никогда еще папá так не говорил. Никогда не были его слова и интонация так выразительны и так полны чувством собственного достоинства, как этот раз. Речь его была коротка, и, как удары молота, упали в мертвой тишине зала, ставшие историческими слова:
– Все ваши нападки рассчитаны на то, чтобы вызывать у власти, у правительства паралич воли и мысли; все они сводятся к двум словам: «Руки вверх». На эти слова правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты, может ответить тоже только двумя словами: «Не запугаете!»
Привожу всю речь, произнесенную в тот день моим отцом:
«Господа, я не предполагал выступать вторично перед Государственной Думой, но тот оборот, который приняли прения, заставляет меня просить вашего внимания. Я хотел бы установить, что правительство во всех своих действиях, во всех своих заявлениях Государственной Думе будет держаться исключительно строгой законности.
Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду.
Возвращаюсь к законности. Я должен заявить, что о каждом нарушении ее, о каждом случае, не соответствующем ей, правительство обязано будет громко заявлять: это его долг перед Думой и страной. В настоящее время я утверждаю, что Государственной Думе волею Монарха не дано право выражать правительству неодобрение, порицание или недоверие. Это не значит, что правительство бежит от ответственности. Безумием было бы предполагать, что люди, которым вручена была власть во время великого исторического перелома, во время переустройства всех законодательных государственных устоев, чтобы люди, сознающие всю тяжесть возложенной на них задачи, не сознавали тяжести взятой на себя ответственности.
Но надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы, от царской резиденции, волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в южном промышленном районе, когда распространялись крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа, или действовать и отстоять то, что было ей вверено.
Но, господа, принимая второе решение, правительство роковым образом навлекло на себя и обвинение. Ударяя по революции, правительство несомненно не могло не задеть частных интересов. В то время правительство задалось одной целью – сохранить те заветы, те устои, начала которых были положены в основу реформ императора Николая II. Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство вело и привело страну во вторую Думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут, волею монарха, нет ни судей, ни обвиняемых, что эти скамьи (показывает на места министров) – не скамьи подсудимых – это место правительства. (Справа аплодисменты: «Браво! Браво!»).
За наши действия в эту историческую минуту, действия, которые должны вести не ко взаимной борьбе, а к благу нашей Родины, мы точно так же, как и вы, дадим ответ перед историей. Я убежден, что та часть Государственной Думы, которая желает работать, которая желает вести народ к просвещению, желает разрешить земельные нужды крестьян, сумеет провести тут свои взгляды, хотя бы они были противоположны взглядам правительства. Я скажу более, я скажу, что правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, каких-либо злоупотреблений.
В тех странах, где еще не выработаны определенные правовые нормы, центр тяжести, центр власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы. Но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление; эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты, может ответить только двумя словами: «Не запугаете» (Бурные аплодисменты справа).
Впечатление, произведенное всей речью и особенно последними словами, было потрясающее. Что делалось в публике, трудно описать: всем хотелось высказать свой восторг и со слезами на глазах, с разгоряченными лицами входили к нам в ложу знакомые и незнакомые, пожимая руки мамá. Несмотря на то, что стало ясным, что и вторая Государственная Дума намерена проявлять настолько же явную оппозицию правительству, как и предшествующая, мой отец, как ни тяжело было впечатление, произведенное на него заседанием 16-го марта, не допускал еще в то время и мысли об ее роспуске.
Часто приходилось слышать от разных знакомых на приемах у мамá о том, что пора бросить надежды на совместную работу правительства и Думы, на что моя мать всегда отвечала:
– Мой муж, наоборот, твердо верит, что надежда эта осуществится, и что общий язык будет найден.
В середине апреля папá пришел раз к обеду с сильно расстроенным лицом, а за вечерним чаем рассказывал о бурном заседании Думы, во время которого левые себе позволили речи настолько революционные, что он начинает думать о том, что вряд ли возможна будет совместная работа с людьми, занявшими по отношению к существующей власти такую непримиримую позицию.
Был в этот день внесен в Государственную Думу законопроект об определении контингента новобранцев, подлежащих призыву осенью, для пополнения армии и флота. Вопрос этот представлялся настолько несущественным, что отец мой на заседание даже и не поехал.
С самого начала заседания кадеты стали выступать с речами о необходимости мирного строительства и сокращения армии. Прения приняли ожесточенный характер, и настроение становилось всё напряженнее. Волнение среди депутатов всех партий достигло своего апогея, когда поднялся на трибуну кавказец Зурабов, позволивший себе заявить, что армия держится лишь для уничтожения и расстрелов рабочих и крестьян. Свою речь, пересыпанную ругательствами по адресу правительства, Зурабов окончил призывом к армии соединиться с мирным населением и смести правительство. А когда он призвал Думу к отклонению проекта раздались шумные рукоплескания.
Выслушав эти тяжелые оскорбления армии, выступил военный министр генерал Родигер, и заявил, что считает ниже своего достоинства отвечать на подобные речи.
Теперь я заметила, что вера папá в возможность счастливого исхода борьбы с левыми элементами Думы поколебалась, и он убедился в том, что работать и эта Дума не будет, а лишь систематически и огульно будет критиковать все мероприятия правительства. Другого выхода, как роспуск ее, не представлялось, но надо было повременить, ожидая окончания нового закона о выборах, разработка которого была поручена Крыжановскому.
Плачевный пример двух первых Государственных Дум ясно доказал полную несостоятельность выборной системы, которую требовалось в корне реорганизовать. Эта большая работа, конечно, не могла быть исполнена так быстро, а, кроме того, у моего отца тлела еще искра надежды на то, что удастся Думу образумить.








