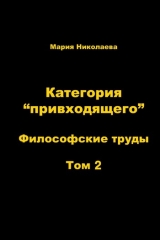
Текст книги "Категория «привходящего». Том 2"
Автор книги: Мария Николаева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
4. Не существенность, но связность бытия человеком
Аристотель раскрывает понятие составной сущности на примере человека как такового. Соответственно, раскрывается предпосылка представления о человеке. «Человек обозначает единичное, но как общее обозначение, – это не сущность, а некоторое целое, составленное из вот этой формы и вот этой материи, взятых как общее… Для составных целых определения не бывают, но они познаются посредством мысли или чувственного восприятия, а если они перестали быть предметами познания в действительности, то не ясно, существуют ли они еще или нет, но они всегда обозначаются при помощи общего обозначения» /1035b14–36a8/. Итак, человек вообще не есть сущность, он заведомо не имеет определения, и совсем не ясно, существует ли он, не будучи объектом внешней рефлексии. Закономерен вопрос о предмете самого имени. «Иногда остается неясным, обозначает ли имя составную сущность или же осуществление, или форму… Живое существо – есть ли это душа в теле или просто душа: ведь душа есть сущность и осуществление какого-то тела… Однако для исследования чувственно-воспринимаемой сущности эти различия не имеют значения, ибо суть бытия вещи присуща ее форме, или осуществлению… Душа и бытие душой – одно и то же, между тем бытие человеком и человек – не одно и то же, разве что мы и под человеком будем разуметь душу; тогда это в некотором смысле одно и то же, а в некотором – нет». /1043a26-b4/.
Когда бытие человеком соответствует понятию человека, то вместо человека в собственном смысле слова мы находим представление о душе, тем более, что «форма человека [душа] всегда представлена в плоти» /1036b4/. Когда же бытие человеком не соответствует понятию человека, то мы имеем перед собой бытие-не-человеком или даже не-бытие-человеком. Однако последнее суждение недопустимо в силу закона противоречия. «В ответ на вопрос, есть ли это человек, не следует еще присовокупить, что это в то же время и не-человек, если только не добавлять все другие привходящие свойства, какие есть и каких нет… Означать сущность чего-то имеет тот смысл, что бытие им не есть что-то другое. Если же бытие человеком в собственном смысле значит бытие не-человеком в собственном смысле или не-бытие человеком в собственном смысле, то бытие человеком будет чем-то еще другим… Ведь именно этим отличаются между собой сущность и привходящее, раз привходящее означает нечто высказываемое о некотором предмете». /1007a17–35/. Ближайший формальный вывод должен состоять в том, что не-человек есть самое-привходящее для человека. «Сама отдельная вещь и суть ее бытия есть одно и то же не привходящим образом… Поскольку привходящее имеет двоякий смысл, о нем неправильно сказать, что суть его бытия и само оно одно и то же, … ибо у человека и бледного человека это не одно и то же, а у этого свойства – одно и то же». /1031b19–27/.
Отношения присущности аналогичны тем, в которых мы пытаемся понять человека как только душу. Но вывести обобщенное понятие человека снова не позволяет закон противоречия (промежуточное возможно только для противоположностей). «Математические предметы ставятся между эйдосами и чувственно воспринимаемыми вещами как что-то третье, … между тем третьего человека нет помимо самого-по-себе-человека и отдельных людей» /1059b6–8/. Философия изглаживает всякое представление о человеке (третий человек есть образ) и непосредственно отождествляет идею и вещь. Уже упоминалось, что сам-по-себе-человек (душа) всегда существует как отдельный человек. Поэтому, когда в новейшей философской антропологии заново утверждается тождество души и тела, сразу предупреждаются возражения со стороны прежней философии, останавливая картезианские аргументы: «И пусть не ссылаются на то, что «я» – просто и едино, тело же есть сложное». [13] Однако Аристотель говорит не только о простоте тела, но и о сложности души.
«Так как душа живых существ есть соответствующая обозначению сущность – форма и суть бытия такого-то тела, то ее части будут предшествовать живому существу как составному целому, а тело и его части – нечто последующее по отношению к этой сущности, и на них как на материю распадается не сущность, а составное целое… Единичное из последней материи – это уже Сократ. Итак, части бывают и у формы, и у целого, составленного из формы и материи, и у самой материи. Но части обозначения – это только части формы, и обозначение касается общего, ибо бытие душой и душа – одно и то же… Живое существо – это нечто чувственно воспринимаемое и определить его, не принимая в соображение движения, нельзя, а потому этого нельзя также, не принимая в соображение частей, находящихся в определенном состоянии». /1035b14–21; 35b31–36a1; 36b27–30/. Теперь становится понятным, каким именно образом для составной сущности определение и есть и не есть. Бытие-человеком с учетом движения осуществления, то есть существования человека, для человека познающего то воплощает понятие человека (душа определенна), то отрицает его (материя сама по себе не познается). Следовательно, обозначается несоответствие и в выражении искомой сущности: телесные способности как таковые однозначны и неадекватны душевным.
«Способности, сообразующиеся с разумом, суть начала для противоположных действий; а каждая способность, не основывающаяся на разуме, есть начало лишь для одного действия… Причина этого в том, что знание есть уразумение, а одним и тем же уразумением выясняют и предмет и его лишенность, только не одинаковым образом: первое уразумевают как самое по себе, а второе – в известной мере привходящим образом, ибо противоположное первому объясняют через отрицание и удаление» /1046b4–14/. Предыдущий вывод касался человека как предмета философского познания, для которого несущественность человеческого бытия (бытие человеком и человек – не одно и то же) совместима с непосредственным совпадением человека с самим собой (третьего человека нет помимо самого-по-себе-человека и отдельных людей). Теперь проблема исключения представления затрагивает также и рефлексию само-выражения. Философствование ведет к растождествлению со всеми третьими-людьми, или я-образами, что позволяет получить некоторый опыт последовательного существования самим-по-себе-человеком в форме второй непосредственности.
5. Скептицизм как альтернатива нагнетению бытия
Изначальная не-цельность человеческой существенности в аспекте существования представлена аристотелевским определением в наиболее завершенном и даже закрепощенном виде. Сократ и Платон лишь намечали подобную жесткую детерменированность субъекта философии в человеческой форме, расшатывая первоначальную самотождественность обыденного сознания, тогда как скептики находятся уже «по ту сторону» бес-цельности человеческого существования в аспекте ее безотносительной существенности.
Сократический метод состоит в настойчивых поисках определений при предпосылке неприятия конечного результата, однако рассудительность носит положительный характер и «расчеловечивание» оказывается вполне дискурсивным процессом при непосредственном сообщении осознания той или иной степени философского мастерства. В скептицизме преодоление естественности производится прежде всего в отношении себя самого, хотя присутствие ученика или оппонента не исключается. Скептик снисходит до рассуждений в силу парадоксальной любви к людям, которых не должно больше существовать по самому факту снятия определения; и такая любовь призвана именно прекратить их существование как для самих себя, так и для других, оставшихся среди людей в их прежней определенности. «Почему скептик иногда умышленно возбуждает рассуждения, слабые в отношении достоверности? Скептик в силу любви к людям хочет по возможности исцелить рассуждением гордыню и опрометчивость догматиков. Для тех людей, которые сильно подвержены опрометчивости, он прибегает к полновесным рассуждениям; к более легким он прибегает для тех, чья гордыня не так глубока. Поэтому исходящий из скепсиса не боится нарочно приводить то полновесные по вероятности рассуждения, то кажущиеся более слабыми». [3]
Скептическое рассуждение начинает казаться техничным если не по своей логической структуре, то хотя бы по своему экзистенциальному предназначению в той или иной диа-логической ситуации. Однако объективная неопределенность субъекта (скептика), вносящего неопределенность в субъективность объекта (догматика) при подобном рассуждении не оставляет никакой стилистической определенности в самом рассуждении – как матрице для построения последовательности поступков. «Постигающее представление найти нельзя, поэтому нельзя найти и искусство по отношению к жизни». [3] Предполагаемый контраргумент, отсылающий к восприятию размеренного постоянства поступков, по внешней видимости совершаемых в рассудительном настроении, отклоняется как исходящий от тех, кто опирается в своих рассуждениях на совершенство человеческой природы. Но для скептика это снова лишь догматическое хвастовство, например: «Таков ведь разум людей, обитателей земли, каков день, посылаемый отцом богов и людей». [3] Очевидно, именно то трансцендентное основание, которое догматику представляется субстанциальностью человеческого бытия, для скептика предстает как растождествленность с собой, или предпосылка для полноценной акцидентальности.
Неизбежно разрушается и образ мудреца как разумного человека, владеющего собой – к данной категории относится и Сократ, будучи представителем «этической части так называемой философии». [3] Независимо от того, подавляет ли мудрец страсти или уже не имеет их, он не может считаться, с точки зрения скептика, владеющим собой в отношении рассудительности. Если же он владеет собой, то он несчастнейший из всех людей, поскольку пребывает в постоянном беспокойстве относительно непроявления собственных страстей. Таким образом, этика бесполезна для философии «успокоения при жизни», и если у кого-нибудь возникает это «пригрезившееся жизненное искусство», то оно причиняет лишь «смущение». Безусловно, Секст относит к области грез не только сократическую иронию, где надуманность вполне отрефлектирована, но и маевтику, где сам Сократ превращается в мечтателя о человечности, ибо такой объект как «человек» не существует иначе, чем в состоянии ускользающей мечты о самом себе, поскольку его составляющие – тело и душа (вещь и идея) – связаны лишь тем или иным отдельным, но неопределенным образом бытия. «Человек состоит из души и тела, но с вероятностью не может быть воспринято ни тело, ни душа, а значит, и весь человек». [3]
Секст последовательно рассматривает известные определения человека, из которых имеет смысл остановиться на опровержении формулировок Платона и Аристотеля. Несостоятельность в первом случае представлена осознанной неуверенностью: «Когда Платон считает человека существом бескрылым, двуногим и с широкими ногтями, способным к государственному знанию, то и сам он не может установить этого твердо, ибо если человек – одна из возникающих, но никогда в действительности не существующих вещей, а о том, что не существует, невозможно твердо высказаться, то и Платон не захочет, чтобы казалось, что он твердо устанавливает определение, тогда как он, по своему обыкновению, говорит сообразно с вероятным». [3] Несостоятельность аристотелевского определения, представленного в утвердительной форме, доказывается путем скептического снисхождения до рассуждения. «Человек – разумное, смертное животное, способное к мышлению и знанию… Но нет ни одного бессмысленного животного… При этом положенные в основу определения качества понимают либо как осуществление, либо как возможность. Если как осуществление, то не будет человеком тот, кто не владеет еще полным знанием, и не совершенен в разуме, и не стоит у порога смерти, ибо только это есть осуществление смертности. Если же как возможность, то не будет человеком тот, кто уже совершенен в разуме и владеет мышлением и знанием; а это еще бессмысленнее прежнего». [3]
Безусловно, Секст игнорирует определение человека как составного нечто, для которого осуществление и возможность находятся в том же сочетании, которое Платоном было предопределено как возникновение. Однако в аристотелевском ответвлении платонизма интенция философствования прямо противоположна скептической – становление «настоящим» человеком, а не окончательное «расчеловечивание».
Литература
1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1986.
2. Гегель. Лекции по истории философии. Кн. 2. – СПб.: Наука, 1994.
3. Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений. // Соч. в 2-х тт. Т. 2. – М.: Мысль, 1976.
4. Секст Эмпирик. Против ученых. Кн. 7–8. Против логиков. Кн. 9 Против этиков. – Там же. Т. 1–2.
5. Платон. Теэтет. // Собр. соч. в 4-х тт. Т. 2. – М.: Мысль, 1993.
6. Платон. Федр. – Там же.
7. Хайдеггер М. Об одном изречении Анаксимандра. // Разговор на проселочной дороге. – М., 1991.
8. Heidegger М. Being and time. – Basil Blackwell. 1988.
9. Αριστοτελης. Των μετα τα φυσικα. – OXONII e Clarendoniana, MCMLVII.
10. Аристотель. Метафизика. // Соч. в 4-х т. Т. 1. – М.: Мысль, 1976.
11. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 1. – М.: Мысль, 1970.
12. Боэций. Комментарий к Порфирию. // Утешение философией. – М.: Наука, 1990.
13. Шелер М. Положение человека в космосе. Гл. 5. // Избр. пр. – М.: Гнозис, 1994.
Древнегреческие и древнеримские свидетельства об Индии[11]11
Впервые опубликовано: Николаева М.В. Древнегреческие и древнеримские свидетельства об Индии // Путь Востока: Межкультурные коммуникации. Матер. VI мол. науч. конф. по проблемам философии, религии и культуры Востока. Серия «Symposium». Вып. 30. – СПб.: СПб. филос. общ., 2003. – С. 33–37.
[Закрыть]
Индию как источник и цель античной истории можно представить на основании утверждений Гегеля: «Индия является исходным пунктом для всего западного мира» и «Индия как искомая страна составляет существенный момент всей истории». Во внутреннем отношении историй двух стран взаимодополнительное различение отмечает Ясперс: «Греки воспринимали великие культуры древности как нечто далекое и чуждое; они знали о них и сохраняли память… Индийцы более позднего времени ничего не знали о древних культурах, они полностью забыли о них». Он также приводит следующую точку зрения, достойную усилий к опровержению: «К востоку от Инда царит не знающая исторического развития стабильность, к западу же – динамическое движение истории». Здесь кроме временной, точнее, причинно-следственной связи выделяется пространственная или, в логическом аспекте, граничная составляющая, существенная для восстановления восточной истории, страдающей недостатком не столько событий, сколько их описаний. Бонгард-Левин и Ильин подчеркивают, что в ряде случаев античные свидетельства являются единственным источником знаний о явлениях общественной, государственной и культурной жизни Древней Индии.
Древнегреческие свидетельства об Индии
В V веке до н.э. Гекатей Милетский составил чертеж, где впервые на крайнем востоке появилось обозначение Индии с текущим в юго-восточном направлении Индом. Такое представление о р. Инд восходит к плаванию карийца Скилака, который по приказу персидского царя Дария спустился по Инду в Индийский океан. Карта Гекатея была одним из важных географических источников «Истории» Геродота, для которого «восточнее Индии простираются пески и пустыня». Дитмар не выделяет новых географических данных об Индии в трудах историков вплоть до недостоверного «Описания Индии» Ктесия родом из Книда, вернувшегося на родину из Персии ок. 398 г. до н.э., который преувеличивает размеры Индии до половины всей Азии.
Дальнейшее развитие представлений об обитаемой земле в эпоху эллинизма было связано с походами Александра на Восток. После его смерти ученик Аристотеля – Дикеарх из Мессены составил дошедшую до нас лишь по фрагментам других античных авторов карту ойкумены, где он провел северную границу Индии вдоль горного пояса, так что вся страна сместилась от крайних восточных рубежей ойкумены в ее юго-восточные районы. Также в Индии побывали греческие послы Мегасфен, Деимах и Патрокл, которые попытались выразить широтную и долготную протяженность Индии в стадиях. Данные Патрокла считались самыми достоверными. Наконец, на карте александрийского ученого Эратосфена из Кирены появилась южная граница «умеренного обитаемого пояса», пересекавшая о. Тапробан (Шри-Ланка).
Наиболее функциональная, западная граница, проводилась греками по Инду весьма условно, поскольку в «Индике» Арриана сообщается, что индийские племена, жившие к западу от Инда, находились под властью персов и платили им дань. Также он упоминает о сражавшихся на стороне персов в битве при Гавгамелах индийцах, «живущих по западную сторону Инда», а Геродот рассказывает, что индийские войны участвовали в походе Ксеркса на Элладу. С другой стороны, Бонгард-Левин делает вывод, что персам принадлежали лишь территории к западу от реки, поскольку Страбон и Ариан, опираясь на Мегасфена, считали Инд западной границей Индии. Однако он подчеркивает, что языковая и культурная близость между народами, населявшими территории к северо-западу и юго-востоку от реки, оставалась более значительной, чем между населением Северной и Южной Индии.
Трудности истолкования сообщений о древнеиндийских феноменах, не имевших аналогов в парадигмах древнегреческого мышления и претерпевших искажение уже в источниках, усугубляются сложностью понимания современными исследователями образа мыслей самих авторов свидетельств. Так, Геродот пишет об индийских племенах, которые «не убивают ни одного живого существа», что считают упоминанием о жизни брахманов, ибо примененный термин «этнос» имел не только этническое, но и социальное содержание. Мегасфен сообщает о мудрецах-аскетах, «упражнявшихся в выносливости», в которых исследователи склонны видеть джайнов, хотя вопрос об отождествлении индийских софистов дискутируется в научной литературе. Мегасфен упоминает о поклонении Гераклу, описание которого чаще всего относили к Кришне, но главная черта божества – сверхъестественная сила и безграничная воинственность – заставляет видеть здесь этап формирования вишнуизма. Также к Мегасфену восходит традиционное представление о поклонении индийцев Дионису, что может указывать на распространение шиваитских культов. В целом, селевкидский посол отделяет народные культы от брахманизированной религии.
Наличие разных форм земельной собственности осталось непонятным Мегасфену, считавшему, что если земледельцы платят налоги царю, то вся Индия является царской собственностью. Хотя точка зрения о монопольной собственности государства в Древней Индии неприемлема, верховный правитель стремился к контролю над земельным фондом. Исследователи по-разному интерпретировали данные селевкидского посла о «городе, не имеющем царской власти». Одни считали, что под «автономными индийцами» подразумевались лесные племена, сохранявшие известную самостоятельность; другие склонны были видеть здесь указание на существование внутри империи полунезависимых городов; иногда автономные полисы отождествлялись с индийской деревенской общиной. Существенные разночтения вызвало утверждение Мегасфена о том, что «все индийцы свободны и ни один индиец не является рабом», – ибо даже современники Мегасфена не соглашались с ним.
Древнеримские свидетельства об Индии
Следует учитывать возможные неточности, связанные с наименованиями. Под «Индией» римские авторы понимали земли, лежащие на побережье Красного моря, Персидского залива и далее на восток, вплоть до Китая. В свою очередь, в Южной Индии «яванами» называли не только греков, но и римлян. Наивысшими достижениями римской дипломатии в восточном вопросе была ознаменована эпоха Августа и Тиберия (I в. н.э.). Сведения о взаимоотношениях Индии с Римом приводятся в трудах Плиния Старшего, Птолемея, Курция Руфа и Помпея Трога. Попытки обобщить имеющийся географический материал были сделаны Помпонием Мелой и Плинием Старшим. В представлении Меллы ширина Индии равняется расстоянию от самой южной точки Африки до самой северной точки Европы, а ее часть занята пустыней. Постепенно начинает утверждаться теория о замкнутости Индийского океана, нашедшая окончательное выражение в труде Птолемея.
В памятнике 350 г. «Полное описание мира и народов» первые двадцать параграфов сообщают о странах за пределами Ромейской державы, на востоке, и относятся главным образом к Индии. Они во многом совпадают с кратким греческим текстом «Подорожные от райского Эдема до ромеев», который описывает путь из Индии в Рим и далее в Галлию. Сухопутные пути в Индию восстанавливаются по карте Кастория, составленной в IV в. при уже существующей картографической традиции (в 12 г. н.э. на Марсовом поле выставлялась карта Агриппы). Она уступает по точности сведениям Птолемея, но указывает три караванных пути в Индию: южный находился в зависимости от Ирана, северный перерезал Среднюю Азию, следуя по тысячелетним дорогам от оазиса к оазису, а средний пролегал по территории современного Афганистана. Как «Полное описание мира», так и карта Кастория пределом мира полагали Индию.
В то время как на древнегреческих картах Южная Индия попросту отсутствует, между нею и Римом существовала развитая морская торговля. К эпохе римско-индийских связей относится анонимное сочинение «Перипл Эритрейского моря» – практическое руководство для купцов, совершающих плавания на Восток. Оно дает надежные сведения об индейско-римской торговле и ряде аспектов экономического развития страны в I в. Главными в индо-римской торговле были крупные порты на западном побережье – Шарпарака и Кальяна. В Рим из Южной Индии доставлялись драгоценные камни, слоновая кость, перец, попугаи, диковинные звери. В «Перипле» упоминается о Декане. О торговле Рима с Южной Индией во II в. пишет Птолемей. У него содержатся подробные сведения о царствах Чола и Пандья, упоминаются многие крупные порты. Названия южно-индийских городов в «Перипле», у Плиния Старшего и Клавдия Птолемея находят прямые соответствия в тамильских источниках.
Постоянные торговые связи с отдаленными странами превращали восточные провинции Римской Империи в особый политико-административный комплекс. Торговля с Индией осуществлялась главным образом через Сирию и Египет. Римское правительство, покорившее кочевые племена Сирийской пустыни, сделало караванную торговлю из опасной авантюры регулярным промыслом. Посредническая торговля концентрировалась в приморских городах (Газа, Кесария, Тир) и в тех городах, от которых начинались караванные пути (Дамаск, Пальмира) и которые служили промежуточными этапами (Филадельфия). Сильно возросла торговля с Индией после присоединения Египта: раньше даже несколько кораблей не решались проникнуть в Аравийский залив, теперь же большие флотилии снаряжаются вплоть до Индии. От ввоза предметов роскоши римляне переходят к ввозу товаров широкого потребления. Птолемею известно много географических названий не только на западном берегу Индостана, но и на восточном.
Интерес к Индии усилился в позднеримскую эпоху. В период кризиса античной культуры греко-римский мир увлекла философия и религия. В стране стремились побывать не только торговцы, но и писатели и философы. Большой популярностью пользовалась биография Аполлония Тианского, приписываемая Филострату (III в.) Особое внимание позднеантичные авторы уделяли учению брахманов, на что указывают «индийские сюжеты» в трактатах неоплатоников. Напротив, раннехристианских авторов (Климент Александрийский, Иероним, Палладий) стал привлекать буддизм. Приблизительно со II в. начинается новый этап в истории античной традиции, отмеченный сосуществованием двух различных тенденций в описании Индии, – «языческой» и раннехристианской.








