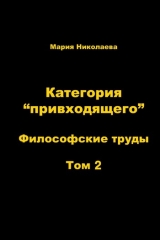
Текст книги "Категория «привходящего». Том 2"
Автор книги: Мария Николаева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Литература
1. Сократ Схоластик. Церковная история. Кн. 1. Гл. 7. М.: Росспэн. 1996.
2. Послание к Филиппийцам св. ап. Павла. 2.13. // Новый завет.
3. Первое соборное послание св. ап. Иоанна Богослова. 5.14. Там же.
4. Ориген. О началах. Кн. 3. Гл. 1. П. 19. Самара: РА. 1993.
5. Старец Силуан. Писания. 6. М. 1994.
6. С. Фрэнкель. Христианство: путь к спасению. Ч. 1. // Рел. традиции мира. М.: Крон-пресс. 1996.
7. Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Гл. 1, 3. М.: СЭИ. 1991.
8. Св. Бонавентура. Путеводитель души к Богу. Гл. 1. 8. Гл. 3. 4. Гл. 4. 4. Гл. 7. М.: ГЛК. 1993.
9. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. Гл. 8. Спб: Глагол. 1994.
10. Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и Русской Церкви. М.: Светлячок. 1996.
11. Пр. Пахомий. Устав Тавеннисиотского общежития. // Древние иноческие уставы. М. 1994.
12. Св. Василий Великий. Правила для общежительников. Там же.
13. Пр. Иоанн Кассиан. Устав иноческого общежития. Там же.
14. В. Флоровский. Пути русского богословия. 6. // О России… М.: Наука. 1990.
15. А. Флоренский. Столп и утверждение истины. 1.1. М.: Правда. 1990.
Сословие по договоренности[6]6
Впервые опубликовано: Николаева М.В. Сословие по договоренности // Диалог: проблемы междисциплинарных исследований: Межвуз. сб. (Матер. межвуз. науч. конф. 17 мая 2000 г.) – СПб.: изд-во СПбГУ, 2000. – С. 66–70.
[Закрыть]
Вступим в диалог между субъектами, занимающими разные позиции по отношению к осознанию собственного единства, насколько таковой вообще возможен – чаще всего подобные позиции не соотносятся, а люди – не встречаются. Именно о плотности «Мы» следует говорить в связи с понятием «нашей» воли, хотя исторически она остается волей «по до-говоренности». Оба аспекта воли имеют некоторую формальную зону пересечения в той связи, которая кажется противоречивой по содержанию. Местом их конфликта оказывается поддержание общения. Пусть «мы» переходит к другому самоопределению, к другому способу самоопределения и даже к другому пониманию самоопределения вообще. Но оно сохраняет при этом непрерывность самосознания и должно отвечать как за последовательность воления, так и за его своевременность. Поскольку «Мы» (уже «Мы») остается вменяемым и признается таковым другими «мы» (еще «мы»), оно несет ответственность за обоснование принятого решения.
Бубер утверждает независимость акта перехода со стороны «мы-Мы» в отношении к другому, включенному нашим «Мы-мы» в себя – перехода от обращения с «ним» до обращения к «Ты», – от ответа со стороны этого другого. [1] Основное событие по Буберу все равно произошло на нашей стороне, и «Мы» состоялось. Следовало бы заметить, что мы лишаемся «Ты» в тот же самый момент, как только отказываем ему в способности оставаться для нас «Им», то есть вести себя неадекватно нашей собственной трансформации. Ведь тем самым мы игнорируем его волю к сохранению прежнего союза и требуем от него иных отношений, превращая его в объект под названием «Ты». Так и отрицательное общение по поводу познания человека было для Бубера всего лишь за-вещанием покойного Канта. Замирание в молчании перед «Ты» кончается вместе с произнесением «Ты» и «не оно», так что «оно» сразу оказывается в подчинении у боготворимого «Ты».
В отношении подчинения Лакан отрицает субъективность связи между субъектами, или всякое «мы» вообще, но как отрицание отрицания, то есть формальное начало нового субъекта. Что следует понимать под вещью, разница в отношении к которой установила позиции господина и раба: от чего один отказался и теперь владеет им, тогда как другой удержал это самое и стал неимущ? Также разделяются их дальнейшие права по отношению к общему предмету вожделения: первый потребляет, второй обрабатывает. Для Лакана границей между встречными направлениями господства и рабства выступает дискурс – «слово, которое пребывает»: раб говорит, а господин слушает; раб воспроизводит дискурс, но только господину «доверяется судить о ценности этого дискурса». [2] Их диалог помещается в поле деятельности, промежуточное между самостоятельностью и несамостоятельностью самосознания и обладающее ауто-абстрактным качеством властности.
В лекции Фуко о порядке дискурса схема конкуренции обновляет свое содержание: несогласие в промежуточном звене развертывается между желанием и установлением, – устанавливая между ними отношение подчинения, где снова властвует воплощенная функция внимания к слову. «Желание говорит, установление отвечает. Но это установление и этожелание – только два противоположных ответа на одно и то же беспокойство из-за того, что за всеми этими словами угадываются битвы, господство и рабство… В любом обществе производство дискурса контролируется с помощью процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия». [3] Подавляется совсем не воля, даже не вожделение, но дискурс, обрамляющий желание, – впрочем, лишь поскольку он сам характеризуется властностью. Подчеркнутое указание на отношения господства и рабства в подоплеке диалога сделано без явной полемики с гегелевской феноменологией, как это было у Лакана.
Вообще, послегегелевский период отсутствия устойчивости философии в самой себе и ее внешнего безволия позволил обрести самостоятельность многим вольным движениям мысли, в том числе социологии. Общественное мнение заговорило само от себя и о себе самом, проявляя характер личности, властной принимать решения и отказываться от обещаний. Его многоликость придавала ему видимость сложности, отвечающей всем требованиям новой организации многоуровневого осознания, взыскующего внимания и непримеримого с ярлыком отвлеченности от многих «я». Социология возникает в силу воли «по договоренности» как общественный «логос», или «наше» слово. Отношения подчинения получают массовое наполнение. «В мире резко возросла рольмасс-медиа… Информационная асимметрия составляет основной элемент борьбы. Первичная роль принадлежит властям, которые могут определить событие, как представляющее опасность для общества». [4]
Воздействие до-говора на волю народа может происходить только при нарочитом акцентировании такого неотъемлимого свойства народа, рассеивающего его собственные на-говоры, как массовость. Средний человек подвержен многим соблазнам, – прежде всего вещным, а не вещим, – но те и другие скрепляют власть. Диалог господина и раба вводит господство и рабство в саму структуру диалога. Барт отмечает, что «наиболее простое разделение языков в современных обществах обусловлено их отношением к Власти… Между дискурсивными системами существуют отношения, построенные на силе». [5] Но задаваясь вопросом, чем обусловлена воля к господству, присущая дискурсивной системе, Барт относит психоанализ, где господин – слушает, к фигурам системности, представляющим только один из типов дискурсивного оружия. Другой вариант предусматривает господство говорящего, где быть сильным – значит прежде всего до конца договаривать свои фразы.
Именно смешение различных типов речи открывает для Барта возможность смещения войны языков в тексте, развертывающемся без исходной точки. Диалог не редуцируется к монологу, хотя бы и полифоническому, но приобретает качество свободного из-ложения, обращаются к которому, впрочем, немногие. Излагаемое предвосхищает по Барту «такую практику чтения и письма, когда предметом обращения в них станет не господство, а желание». Очевиден возврат: господство и рабство возникли в гегелевской феноменологии как перераспределение желания, его укомплектованность, что и привлекало в движении фигур господина и раба Лакана. Неочевиден прогресс: «образуется так называемая гетерологичность знания, языку сообщается карнавальное измерение», усложняющее движение подобных фигур их маскарадом. Обратим внимание на общий корень таких понятий, как изложение, феноменология, гетерологичность – и их соотносительность с диалогом.
В данный понятийный ряд можно встроить и следующее высказывание Рикёра: «Эклектика – постоянный враг диалектики», – произнесенное в контексте воссоединения гегелевского и фрейдовского подходов: «Для фрейдиста все состоит в жесткой детерминации со стороны фундаментальных символов, включая диалектическое отношение между рабом и господином… Курс лечения можно истолковать как борьбу за признание, протекающую в неравных условиях». [6] Последнее утверждение по видимости поддерживает точку зрения Лакана на диалог психоаналитика и пациента: диалектика фиксируется в диалоге, но именно эта фиксация и есть эклектика, или даже экология, занятая не столько взаимодополнительностью речей, сколько описанием подходящего для них места. Однако вступив в простроенный нами диалог между самими Лаканом и Рикёром мы сознаем, что их воля по их до-говоренности выражается в «их» слове – до известной черты, сдвигаемой нами.
Как Лакан, так и Рикёр – оба считают дискурсы Гегеля и Фрейда в определенном смысле идентичными. Однако определенность этого смысла для них различается; причем для нас становится возможным акцентировать противоположные стороны в данном содержании самосознания господства-рабства. Рикёр отмечает и пытается согласиться с тем, что «развитие сознания соответствует развитию объективности»; напротив того, Лакан спрашивает: «каким образом конституирование объекта подчинено реализации субъекта?». Контекст Рикёра положителен: самость, взрослость и смертность; Лакан работает в отрицательном контексте: восстановление идентичности и терапия. Хотя все предположения требуют доскональной проверки, не оказываем ли мы излишнее давление, не уходим ли безоглядно в тему господства. Самовольно мы договорились бы до того, чтобы судить о мощи того или иного со-словия, понимая его именно как «наше» слово.
Уточняя в отношении к языку субъект как социальный, Барт добавляет риторический вопрос: «А какой еще бывает?» Не бывает просто слова, но сразу со-словие, или социолект. Диалог понимается не как общение субъектов посредством слов, но как взаимодействие дискурсов посредством субъектов. Принадлежность к тому или иному идеальному сословию по признаку формообразования дискурса важнее реального положения в обществе. Герменевтика же сохраняет трансцендентность всякой договоренности и вступает в диалог с позиции асоциального субъекта.
Литература
1. Бубер М. Я и Ты. М.: Высшая школа. 1993.
2. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. 3. М.: Гнозис. 1995.
3. Фуко М. Порядок дискурса. // Воля к истине. М.: Магистериум. 1996.
4. Почепцов Г.Г. Коммуникационные технологии XX века. М.: Рефл-бук. 1999.
5. Барт Р. Война языков. // Избр. работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс. 1989.
6. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Медиум. 1995.
Русский онтологизм[7]7
Впервые опубликовано: Николаева М.В. «Русский онтологизм» // Россия и мир. Гуманитарные проблемы: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1. – СПб.: СПГУВК, 2001. – С. 90–96.
[Закрыть]
Ежели кто убьет человека в ссоре или в пьянстве и скроется, то округа, где совершилось убийство, платит за него пеню.
Правда Русская. [1]
Эсхатологическая ориентация русской мысли сохраняется в социальных исканиях С.Л. Франка, углубляющих исконно русский вопрос о «народе-богоносце» или подневольности мессианства. «Русский онтологизм выражает не примат «реальности» над познанием, а включенность познания в наше отношение к миру, в наше «действование» в нем». [2]
Бог в собственном смысле слова, не суженном религиозными или материалистическими догматами, есть первый предмет философии, поскольку она должна быть идеализмом, не признающим конечные вещи истинно сущим. Социальные отношения также балансируют на неосознанно принятом в качестве предпосылки определенном соотношении реального и идеального. «Наша» воля оказывается дальнейшей конкретизацией их дисгармонии, тогда как воля Бога есть первый предмет социальной философии. «Нравственное сознание человека есть практическая сторона сознания его богочеловеческого существа». [3]
Выделим три отрасли научного подхода к обществу: формальная социология, социальная философия и философская антропология. Соответственно, возьмем за ориентиры в указанных областях трех представителей: Г. Зиммеля, С.Л. Франка и М. Бубера. При всем различии их концепций, все они исходят из того, что обособляют «Мы» общения как форму исконного отношения «Я-Ты» (из которого впоследствии развивается «Мы» общества) – от «мы» познания как формы вторичной и второстепенной связи «я-оно» (чисто ментального объединения, ставшего по общему мнению тупиковым и непродуктивным).
Из истории философии от Декарта до Гегеля известно, что «мы» познания тождественно самодостаточному «я», в то время как нововводимое «Мы» общения не бывает тождественно никакому «я» и никогда не будет редуцировано к структуре просто рефлектирующего «я», хотя бы это было само «Я» абсолютного познания, ибо таковое немыслимо вне соборности всего непостижимого в существе Бога. Остановимся на концепции «Мы» С.Л. Франка.
Кант судит по воле, формально совпадающей с чистым разумом и определяющей сферы нравственности и религии вне самоочевидности бытия. Это положение привело к тому, что борьба против кантианства стала постоянной темой русской философской мысли. [4] Свое противостояние классической философии Франк осуществляет в более глубоком и личном отношении, вступая в отрицательное общение по поводу познания человека, бывшее для Бубера всего лишь завещанием покойного Канта. Наиболее значим для него из всех снятых «мы» их первый «он» – Декарт.
Франк считает самодостоверность «cogito ergo sum» гносеологическим субъектом, не исчерпывающим живого личностного самосознания, и утверждает полную невозможность вывести представление о «Мы» общения в картезианской эгоцентрической системе. Однако он забывает о важности для мысли Декарта понятия Бога, первичного по отношению к «я» и отличного от него, – то есть другого «Я», милостивого к самому существованию всякого «я», а не единственно к развитию его разума, – что представляет собой проект «Мы с Богом», определяющий возможность снисходительности и к «не-я», восполняющего «я» до «мы».
Теологический аргумент от благодати дополняется философской аппеляцией к закону тождества. Отношение к другому происходитизотрицания господства. «Я» и Бог суть противоречие, а не противоположность – они не допускают промежуточного субъекта, разве только объекты. Осознав, что он не один в мире, Декарт переходит к идее не просто другого «я», или «он», но Бога, то есть «Ты»: «Одна только воля, которую я ощущаю в себе, настолько велика, что … она-то и показывает мне, что я ношу в себе образ и подобие Бога». [5] «Поэтому мы … и полагаем, что другие, имея свободную волю, могут подобно нам хорошо ею воспользоваться». [6]
Декарт признает, что собственное «я» есть для познания самое легкое, а представление о другом «я» требует определенного волевого усилия. Вывод о наличии других людей допустим именно через понятие воли. Однако для Франка отличие социальной философии от практической отчетливее всего выражается нововведением понятия реальной воли в противопоставлении волевому идеалу, установленному философией права: «Общественный идеал для своего оправдания требует не только того, чтобы он был верным, но и того, чтобы он был осуществимым. Не отвлеченный нравственный идеал, как таковой, а конкретная реальная нравственная воля человека есть подлинное содержание нравственной жизни». [3]
Философия права была построена Гегелем как последовательнаясистема волеопределения, где воля представала перед судом разума как объект и субъект их рефлективного отношения. Франк делает волю содержанием осмысленной жизни, не давая ей самостоятельной силы в качестве идеала. Гегель отстаивает право философии на существование, или способность мышления иметь дело с конкретными нравственными реалиями и в качестве воли перемещать себя в наличное бытие: «Философия, именно потому, что она есть проникновение в разумное, есть постижение наличного и действительного, а не выступление потустороннего начала». [7]
Конечно, Гегель имеет в виду волевое постижение, а не волевое общение, но ведь и Франк говорит о социальной философии, а не о социальном действии, – во всяком случае его общественная позиция состоит в выражении некоторой мысли, сконцентрированной в памятовании о том, что исполняющий волю Божию пребывает вовек, [8] – то есть обладает идеальным существованием. Равно как и творческая судьба Бубера состоялась лишь постольку, поскольку замирание в молчании перед «Ты» окончилось вместе с произнесением «Ты» и «не оно», так что «оно» сразу оказалось в подчинении у боготворимого «Ты».
Создается впечатление, что по степени реализма Франк предлагает перейти к жанру философской «панорамы», как это делают ради расширения возможностей живописи. Но добавление, что «попытка парализовать индивидуальную волю, приводя к потере человеком своего существа, как образа Божьего, тем самым ведет к разложению и гибели общества», [3] – совпадает по сути с гегелевским определением государства как шествия Бога в мире, где государственная воля не просто занимает место образа Божьего в существе человека, а находится в органической связи с волей индивидуальной, вырастая из нее и оставаясь в соотношении с ней.
Под личным решением оба понимают свободное принятие или непринятие решения общественного, ибо и Франк останавливается перед спонтанностью богообщения на грани юродства или хотя бы утопии. Так, он и не задумывается, подобно Н.Ф. Федорову (хотя исследователи его работ отмечали насильнический утилитаризм трудового сознания, для которого личность подчинена проекту), [9] о воскрешении в своих собственных телах тех, чья философия кажется ему отжившей и не заслуживающей обращения на «Ты» – просто в силу предполагаемой вторичности и еще более предполагаемой безответности такого обращения.
Однако добросовестность исследования требует сделать из всех недоумений по поводу радикального реализма Франка тот вывод, что наше сравнение социальной и практической философии поверхностно. Сосредоточим внимание на более общем отношении к миру. «Образ мира в новозаветном его понятии имеет ближайшим образом отрицательный смысл, определенный наличием в мире универсального факта греха. Но образ мира, будучи творением Божиим и – производно, через принадлежность к нему человека – образом и подобием Божиим, есть совокупность вечных, бого-установленных устоев бытия». [10]
Онтологическая позиция предполагает удержание того и другого образа мира в их единстве именно в силу поддержания субъективного тождества представляющего и представляемого – завершенности рефлексии как целостного процесса. Онтологизм не может быть «русским» или «нерусским», – на данном уровне абстрагирования снимаются все подобные определенности, тогда и Россия находится не в отношении к миру, а в единстве с ним. Иначе, если рефлексия отсутствует, возникает та или иная относительность: Россия представляется либо «богоизбранной», либо «забытой Богом», а мир без России – пустыней или плеромой.
Размыванию этой границы способствовала эмиграция русской интеллегенции, представителем которой был и Франк. Проблема существования мира без России являлась насущной; условием русского возрождения казалось создание национальной власти в России. [11] Опыт социалистического интернационализма не стал этапом онтологизации предпосылок в обыденном сознании. Его можно определить как случай рассогласования в воле к созданию нового мира между волей к взаимопредставлению и взаимодействию. Отсутствие «нашей» воли в центре структуры власти, регламентирующей общую волю, связано с недостатком идеализма. [12]
«Россия стала страной, в которой ложь превратилась в норму, – а чтобы выжить, надо было победить систему… Население хочет, чтобы к власти пришел любой сильный лидер и решительными действиями вернул доверие народа». [13] Политическая ложь порождает патологическую ассоциацию народов, но считается нормальной в целях диссоциации искаженных общечеловеческих ценностей. Глава государства оказывается раздираем между двумя «нашими» волями – волей своего народа и волей к единению человечества, если ему не удается согласовать их. Профессионально пригоден лишь тот президент, который знает, что на самом деле президентом является «Мы», а он только изображает президента для «мы».
Диссоциативный характер политической ассоциации выражается также в том, что правительство имеет дело не с народом, а с массами – оно само считает себя ведомым волей народа и призванным управлять массами. Расслоение одного и того же социального факта на уровне его констатации на народ и массы выявляет существование некоего люфта между ассоциацией и диссоциацией волений. Массы обладают способностью более или менее равномерно растворять в своей среде целостность устремлений народа. Отношения подчинения получают массовое наполнение.
«В мире резко возросла рольмасс-медиа». [14] Именно они подменяют собой тот средний слой (промежуточный между областями принудительного закона и свободного нравственного действия любви), который Франк считал истинным базисом внешних законодательных реформ – сферу непроизвольно слагающихся нравов. [15]








