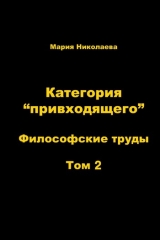
Текст книги "Категория «привходящего». Том 2"
Автор книги: Мария Николаева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Кроме старости (Цицерон) и болезни (Лукреций), Сенека находит еще один аспект, по которому можно анализировать качество процесса умирания – это увечье: «Сам посуди, до какой степени довольствуется сам собой тот, кто порой довольствуется и частью самого себя. Если болезнь или враг лишат его руки, если случай отнимет у него глаз, мудрецу хватает того, что ему осталось». [10] От представления о членении тела Сенека возвышается до представления о божественности рока. На возмущение преждевременной смертью он отвечает: «Я встречал многих, кто был бы справедлив к людям, и ни одного, кто был бы справедлив к богам». [10] Также иногда он возводит ко всеобщему и саму эклектику: «Ты возразишь мне: «Это слова Эпикура; на что тебе чужое?» – Что истинно, то мое». [10]
Последние веяния из «провинциальной» Греции. Распространение римского владычества во II–I в. до н.э. приносило с собой греческим областям хозяйственную разруху и культурное оскудение. Деятели греческой культуры стали переселяться в Рим. Так называемая «младшая Стоя» возвращается к этическому индивидуализму древних стоиков, но уже без веры в разумность человеческой деятельности. Обрести самого себя можно только в одиночестве внутренней жизни. [6] Бывший раб Эпиктет (I в. н.э.) и римский император Марк Аврелий (161–180 гг.), знакомый с творчеством Эпиктета и часто на него ссылающийся, оставили свое философское наследие в виде собрания афоризмов – жанра, эклектического прежде всего по форме, создающей мозаику более или менее пригнанных друг к другу по смыслу изречений. Поэтому их представления, в свою очередь, наиболее уязвимы для дальнейшей эклектической деятельности, ибо цитаты даже не надо «вырывать» из контекста – мысли и так совершенно отрывочны. В наших целях мы можем выбрать из них те, которые выражают наиболее противоположные подходы к смерти, причем связанные с их «практическим» положением в социуме.
Эпиктет позволяет нам найти в его стоическом отношении к смерти сторону внимания к продолжению или прекращению телесной деятельности: «Если вы хотите отрубить мне голову сейчас, так пойдемте, я готов. Если же вы казните меня часа через два-три, так я пока пообедаю, потому что я проголодался; а там, в свое время, я и умру». [12] Марк Аврелий делает акцент на продолжении или прекращении мыслительной деятельности: «Ведь если человек начнет тупеть, то… власть над самим собой, способность разобраться в происходящем… и отдать себе отчет в том, не пора ли расстаться с этой жизнью, все… будет потеряно безвозвратно». [13] Греческий вольноотпущенник осмысляет смерть тела и готов служить ей своим осмыслением; римский император осмысляет смерть разума и готов управлять ею с разумной позиции. Этими «крайностями» можно завершить герменевтический экскурс в эклектическое пространство сплошного, перекрывающего всевозможные творческие индивидуальности, текста о смерти.
5. Культура эклектики и самостоятельное мышление
Ситуация, в которой оказывается Боэций, отличается двумя существенными чертами. Во-первых, его предшественники, посвятив себя практической философии, пребывали в относительно непрерывном размышлении о смерти, тогда как Боэций занимался преимущественно теоретическими вопросами (логические комментарии к Аристотелю или христианская экзегеза), и его Философия весьма пренебрежительно отзывается о «толпе эпикурейцев и стоиков». [1] Во-вторых, это «упущение» компенсируется тем, что Боэций располагает вполне определенным периодом непосредственно перед казнью, который как бы отводится ему для конкретной работы над практическим применением философии, так что осмысление смерти оказывается сконцентрированным в отдельном трактате.
Завязка трагедии состоит в первом шоке растождествления с Философией, говорящей ему: «Ты сам себя изгнал». [1] Развязывание трагедии состоит в попытке прекратить свое воплощенное существование, находясь в состоянии целостности, когда неожиданно обнаруживается, что он способен воссоединиться с самим собой даже не через «примеривание», а посредством «вбирания» множества сюжетов трагических кончин и сведения их к некоему общему знаменателю отрешенности. Эклектика затрагивает не только уровень сознания, но и пласт бессознательного существования с многообразием подспудно вобранных стереотипов «философской жизни». Подсознание с независимой субъективностью образного материала направляет работу трагика, но его в пределе не должно быть у философа, или оно не должно оказывать решающего влияния. Если существует «опасность эклектики, когда сознательное и бессознательное признают взаимодополнительными» [14], то напряжение мысли Боэция состоит именно в попытке осуществить такого рода эклектическое действие.
Положительная функция совершенного владения эклектическим принципом заключается в обобщении всего материала предшествующей культуры через «перемешивание», когда все соотносится со всем в любых возможных аспектах и направлениях, так что достигается более или менее равномерное овладение содержанием, которому впоследствие можно придать оригинальную форму. Эклектика преодолевается систематичностью, «ибо система предполагает наличие характерных именно для нее связей между составляющими ее элементами, что и обусловливает существование единства». [15] Избегание эклектики – показатель культурной «пресыщенности», ведущей к смене способов вырабатывания продуктов культуры. «У истоков средневековых представлений о судьбе высится трагическая фигура Боэция, который шел к этой теме не только от философии, но и от жизни… Он ощущал, что по его времени прошла граница между всем тем, что составляло славу Рима, и новым, еще непонятным, но уже чужим нарождающимся миром». [15] Располагая «синтезом прошлого» и «интуицией будущего», Боэций просто не успевает перешагнуть этот порог.
Литература
1. Боэций. Утешение философией. – М.: Наука, 1990.
2. Г.Г. Майоров. Судьба и дело Боэция. – Там же.
3. К. Ясперс. Философская вера. // Смысл и назначение истории. – М.: Республ., 1994. – С. 430.
4. Х.-Г. Гадамер. Истина и метод. Основы филос. герменевтики. – М.: Прогресс, 1988. – С. 174, 65.
5. М. Фуко. Лекции в Коллеж де Франс 1981–82 гг. // Воля к истине. – М., 1996. – С. 443.
6. И.М. Тронский. История античной литературы. – М.: Высш. шк., 1988.
7. Платон. Апология Сократа. // Соб. соч. Т. 1. – М.: Греко-лат. каб., 2000.
8. Аристотель. Поэтика. // Соч. в 4-х тт. Т. 4. – М.: Мысль, 1983.
9. Цицерон. О старости. // Древнеримская философия. – М.: АСТ, 1999.
10. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. – Там же.
11. Лукреций. О природе вещей. – Там же.
12. Эпиктет. В чем наше благо. – Там же.
13. Марк Аврелий. Наедине с собой. – Там же.
14. П. Рикер. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: Академия, 1995. – С. 183.
15. В.И. Уколова. «Последний римлянин» Боэций. – М.: Наука, 1987. – С. 96, 106, 92, 150.
Сократический и скептический методы прерывания бытия[10]10
Впервые опубликовано: Николаева М.В. Сократический и скептический методы «прерывания естественного бытия» // Платонополис: философское антиковедение как междисциплинарный синтез историко-философских, исторических и филологических исследований: Матер. 1-й летней мол. научн. школы 19–24 августа 2002 г. – СПб.: изд-во СПб. ун-та, 2002. – С. 94–114.
[Закрыть]
1. Философия как методология «расчеловечивания»
Философия как методология «расчеловечивания» есть «нечто пестрое». Среди различных вариантов приобщения к философии всегда можно выбрать несколько традиционно связанных движений мысли, придающих подключению к чистому мышлению решительную необратимость. Крупным планом такие вехи обозначить достаточно просто: например, сократический метод (ирония и маевтика), как он представлен в интерпретации Платона; основание Аркиселаем средней академии и появление в его учении термина εποχη; применение основателем скептической школы Пирроном принципа εποχη как предпосылки для достижения αταραξια; принятие последнего результата неоплатонизмом в качестве непосредственной философской данности. Однако если сосредоточиться на отношении сократического и скептического подхода к человеку вообще (как тому, что «должно быть преодолено» прежде всего дескрептивным методом), а в частности – на понятийной дистанции между иронией и воздержанием от суждения, то традиционность усложнения начала философии становится весьма зыбкой (конечно, применение εποχη в феноменологии Гуссерля – слишком отдаленная перспектива для предпринятого здесь исследования, чтобы имело смысл направлять на нее внимание).
Относительно роли философии самого Платона как герменевтики в передаче сократического метода, Диоген Лаэртский отмечает существование немалого спора: «Одни утверждают, что Платон – философ догматический, а другие – что нет… Так вот, Платон о вещах, им постигнутых, раскрывает свое мнение и оспаривает ложные, а о вещах, ему неясных, воздерживается от суждения». [1] То есть учение Платона диалектически совмещает в себе догматизм и скептицизм, порождая различные философские течения. Несколько иное решение указанного спора приводит Гегель: «Скептики доказывали исторически издавнее существование убеждения в отрицательности всяких определений и утверждали, что Платон и академия были скептиками, только у них скептицизм не нашел своего чистого выражения». [2] Причем Гегель ссылается здесь на другое место из Диогена Лаэртского, подтверждающее изначальную склонность платонизма к скептицизму: «Так же и Платон оставляет истину богам и божеским чадам, сам же ищет лишь правдоподобного смысла». [1] В определенном смысле, скептицизм можно рассматривать как традиционный платонизм.
Но уловленная было тенденция наталкивается на возражения со стороны самих скептиков в трудах Секста Эмпирика: «Если Платон и сомневается в чем-нибудь, то он все-таки не может быть скептиком, так как во многих случаях оказывается, что он или высказывается о существовании неочевидных вещей, или предпочитает в неочевидном одно другому в отношении достоверности». [3] Если фундаментальное отличие скепсиса от сомнения вообще комментируется Гегелем достаточно пространно, то приведенная здесь конкретизация смысла сомнения не затрагивается им вовсе. Еще более запутывает дело заключение о роли учения Аркиселая (возможно, слушателя Пиррона), в данном ракурсе опосредствующего платонизм как таковой (древнюю академию) и основы скептицизма. В целом, его признают последовательным скептиком, однако «как утверждают, он казался на первый взгляд пирроновцем, на самом же деле был догматиком; он испытывал своих товарищей посредством учения о нерешительности, способны ли они для восприятия догматов Платона, и поэтому казался нерешительным, а наиболее способным передавал учение Платона». [3] Однако если данный метод выбора лежит в основании перехода от более общего рассуждения к той или иной системе, его следует считать вообще самостоятельным, ибо подобная отстраненность в предпосылках несводима ни к скептицизму, ни к платонизму.
Наконец, несмотря на попытку скептиков вывести истоки свого учения из глубокой древности, даже реальный основатель данного ответвления философской традиции оказывается мыслителем, обособленным как от ее прошлого, так и от ее будущего. А именно, об истоках его учения известно следующее: «Он сопровождал Анаксарха повсюду, даже при встречах с индийскими гимнософистами и магами. Отсюда, по-видимому, он и вывел свою достойнейшую философию, утвердив непостижимость и воздержание особого рода». [1] Скептицизм предстает как едва ли не индийская философия, укорененная в древнегреческой почве, и его соотношение с платонизмом переводится в иную плоскость преемственности вообще. Последователи Пиррона также различались по своим «догмам» (то есть устойчивым способам снятия догматизма); существовало также мнение, обрывающее передачу учения в самом начале: «Скептической школе не следует называться Пирроновой, ибо если направленное движение мысли для нас не уловимо, то мы никогда не узнаем, что думал Пиррон, а не зная этого, не сможем и зваться пирроновцами. К тому же Пиррон не первый открыл скептическую школу и догм никаких не придерживался, так что называться пирроновцем может только тот, кто ведет себя так же, как он». [1]
Итак, скептицизм – настолько самостоятельная философия, что она пытается вовсе отличаться от всей предшествующей философии как моделирование не определенного мышления, а сознательно неопределенного поведения.
2. Скептическое отношение к догматизму и про-скептицизму
Секст Эмпирик в процессе характерного для скептиков отмежевания от всякой известной философии дважды повторяет в разных книгах некоторые суждения Сократа (которого считают про-скептиком). Причем, одно из них приводится для подтверждения догматического основания в содержании этического учения, а другое – совсем наоборот, для демонстрации предрасположенности диалектической формы к скептицизму. Безусловно, в обоих случаях косвенно вводится представление об отношении объекта и субъекта философии – понятия всеобщего и человека как такового.
Секст выделяет в известной ему истории философии три возможных подхода к поискам истины: физический, этический и логический. Скептики, по его мнению, должны начинать с последнего, а точнее, с систематической критики понятия критерия человека – как «живого существа, любящего истину» – к чему он и переходит в книге против логиков. [4] Физические учения, для которых рассмотрение всего относящегося к человеку имеет частичное значение, противопоставляются этическим вопросам, «как наиболее необходимым и приводящим к блаженству, согласно чему и Сократ увещевал ничего не исследовать, кроме как то, что у тебя худого и доброго дома случилось». Секст повторяет эти слова Гомера, вложенные в уста Сократа, в книге против этиков и, определив этическую теорию как различение блага и зла в делах жизни, также переходит к ее опровержению, прежде всего вводя нейтральное представление о «безразличном» для человека. Однако в направлении рассмотрения он предпочитает следовать за Сократом. Поэтому само независимое опосредование блага и зла производится по аналогии с суждением: «из людей одни греки, а другие – варвары». Непосредственным образом понятие человека формально совпадает с понятием безразличного, откуда закономерно следуют скептические выводы. [4]
Следующее суждение Сократа, которое Секст считает нужным повторить дважды, служит отправным пунктом для воспроизведения с различными вариациями всей последовательности критики понятия критерия человека как основопологающего догмата в основании всякого догматизма вообще. [3–4] Скептицизм распространяется на критерий «кем» (данный намек на термин соответствует интенциональному отсылу к субъекту) вплоть до того вывода, что человек (судя по сказанному догматиками), «не только невоспринимаем, но и немыслим. Сократ определенно признается, что он не знает, человек ли он, или что-либо другое». [3] Вопрос об определенности субъекта ставится как принципиально открытый для своего разрешения, – как неизбежность прогрессивной рефлексии.
В комментариях приводятся два подобные заявления Сократа, сделанные в контексте определения философа в отличие от обычного человека. От философа «скрыто не только то, что делает его ближайший сосед [ср. начало этики «от самого дома»], но чуть ли и не то, человек он или еще какая-то тварь. А между тем он доискивается, что же такое человек и что подобает творить или испытывать его природе в отличие от других». [5] Таким людям предстоит, «разлюбив себя и убегая от самих себя в философию, стать другими людьми и покончить с тем, чем они были прежде». [5] Действуя подобным философским образом, сам Сократ ставит под сомнение обратимость софистического положения Протагора «человек есть мера всех вещей» в целях получения определения субъекта данного суждения: «Почему бы не сказать, что мера всех вещей – свинья, или кинокефал, или что-нибудь еще более нелепое среди того, что имеет ощущения?» [5] Также Сократ высказывается и непосредственно о себе самом: «Я никак не могу познать самого себя: чудовище ли я, замысловатее и яростней Тифона, или же я существо более кроткое и простое и хоть скромное, но по своей природе причастное какому-то божественному уделу?» [6] Теоретическая и практическая части философии исходят из одной и той же неуверенности в себе.
Конечно, Секст оперирует противоречивым образом Сократа совсем не бессознательно, но ретроспективно приводя очевидную двусмысленность его поведения в связь с диалектикой Платона в процессе ее становления. Причем, окончательная оценка степени ее скептичности оказывается достаточно отрицательной. «В своих рассуждениях, где вводится Сократ, то шутящий с кем-нибудь, то спорящий против софистов, Платон имеет отличительный признак упражнения и неуверенности; там же где он серьезно высказывается от имени Сократа, он является догматиком… Если же он и произносит что-нибудь скептически, то в силу этого он не станет скептиком, ибо если он даже только об одном выражается догматически, то он приближается к отличительному признаку догматики». [3] Приобщаясь к дистанцированию платонизма от скепсиса, мы получаем достаточно общирную лакуну, чтобы заполнить ее историко-философским материалом по своему усмотрению. Наиболее целесообразным представляется сделать отступление к догматизму Аристотеля в вопросе об истолковании человека как составной сущности, препосылки которого очевидны уже в учении Сократа о философии как «умирании» собственно человека, взятого в его единичности, – то есть отделении души от тела, или возведении во всеобщее.
В соответствии с тремя возможными пониманиями отношения сущего и не-сущего, согласно Аристотелю, присутствует и разноплановость в объяснении становления «человеком» и прекращения бытия в качестве такового, исходящего от принципа структурирования существования. Так, даже в наиболее общем определении, материя как возможность «человечности» представляется далеко не тем же самым, что ее лишенность. Приступая к рассмотрению аристотелевского подхода к субъекту мышления, следует постараться удержать его в контексте поставленной задачи: какие следствия для философии как деятельности по целенаправленному «расчеловечиванию» дает то или иное определение «человека», несмотря на его формальную примитивность, как простого суждения, которое содержит в себе потенциал для перехода в рефлективное умозаключение, призванный выявить скорее самостоятельность и самодостаточность субъекта (души), чем обнаружить подобные качества у предиката (тела).
3. Более или менее «сущее» в жизни по Аристотелю
Один из процессов, который не производит резкого прерывания естественного бытия, но ведет к его постепенному преображению – определение самого бытия как такового, без предикатов (синонимов для обозначения его естественности), затмевающих собой смыслонепроницаемость онтологической пустоты. Становление этого понятия – классический предмет историко-философских исследований, поэтому в данном вопросе допущение герменевтической эклектики уместно именно как долговременная фиксация «порогового» состояния между бытием предицируемым (сохраняющим таким образом естественность, хотя и растождествленным с нею) и бытием чистым.
«У Платона и Аристотеля мы встречаем слова ον и οντα как обозначения понятий. Позднейший титул «онтический» или «онтологический» образован в соответствии с этим. Однако в языковом отношении ον и οντα суть, предположительно, каким-то образом сглаженные формы первоначальных слов εον и εοντα. В буквальном звучании этих слов как раз присутствует отзвук того, что мы высказываем в словах εστιν и ειναι. Это ε в εον и εοντα есть ε корня εσ – в словах est, esse и «есть»… Напротив, слова ον и οντα являют собой как бы бескорневые причастные окончания, равно как сами по себе они и должны называть то, что мы имеем помыслить в словоформе μετοχη [соучастие], причастные к вербальному и номинальному значению слова… Итак, ον высказывает «сущее» в смысле: быть неким сущим; ον, однако, называет одновременно и некое сущее, которое есть. В двойственности этого партиципиального значения ον открывается различие между «будучи» и «сущее». Выявляющееся здесь как некоторая грамматическая хитрость есть поистине загадка бытия. Причастие ον есть слово для того, что в метафизике обнаруживает себя как трансцендентальная и трансцендентная трансценденция». [7]
Сначала рассмотрим, в каком отношении друг к другу стоят термины ον и ονσια (сущее и сущность); далее, в каких из значений ονσια можно понимать сущность как субстанцию; и отдельно – понятие составной сущности, то есть вещи. «О сущем говорится в различных значениях, но всякий раз по отношению к одному началу…Сущее и единое – одно и то же». /1003b5, 22/ «Сущее и единое в большей мере, нежели что бы то ни было другое, сказываются как общее… Единое не может быть родом по тем же самым причинам, по которым не могут быть родом ни сущее, ни сущность». /1053b21, 23/ Согласно принятому на данном этапе эклектическому методу смысловой комбинаторики, готовый комментарий достаточно обнаружить и ввести в контекст: «Бытие – наиболее всеобщее понятие: из всего наиболее общее есть сущее /1001а21/. Но всеобщность бытия не такова, как у класса или рода. Термин «бытие» не определяет сферу сущностей, которые являются высшими, когда они связаны концептуально согласно роду и виду: сущее не есть род /998b22/. Всеобщность бытия трансцендентна любой всеобщности рода. Аристотель знал единство этого трансцендентального всеобщего как единство по наведению в противоположность разнообразию высших родовых понятий, применимых к вещам». [8]
Такой способ получения знания, как наведение, актуализируется дважды: чтобы отличить само наведение от сказывания сути бытия вещи и чтобы ввести пару понятий возможности и действительности. Наведение применяется для того, чтобы получить представление о единстве категорий, раскрывающих понятие сущего, – но оно совершенно неприемлемо в случае сказывания простого, то есть единства самого единого, или сущего. И если всеобщность бытия трансцендентна единству рода, то тем более – единству по аналогии. Поскольку же сказано: «Ουπαρχει ευφυς γενη εχον το ον ψκαι το ενζ» [9] – «сущему [и единому] присуще иметь роды непосредственно [ευφυς – прямо, тотчас]» /1004a5/, [10] – очевидно, что всеобщность непосредственна, а не аналогична. Подчеркнем, что сущее и единое в большей мере нежели что бы то ни было другое, сказывается как общее, или, согласно другому комментарию: «В своей неопределенной непосредственности чистое бытие равно лишь самому себе, а также не неравно в отношении иного», [11] – если учесть, что под сущностью понимается субстанция.
Итак, отметим проблему непосредственности единства сущего как такового и перейдем к рассмотрению его в противоположность не-сущему. «О сущем и не-сущем говорится, во-первых, в соответствии с видами категорий; во-вторых, как о сущем и не-сущем в возможности или действительности применительно к этим категориям и к тому, что им противоположно; в-третьих, в самом основном смысле сущее – это истинное и ложное, что имеет место у вещей через связывание или разъединение, так что истину говорит тот, кто считает разъединенное разъединенным и связанное – связанным, а ложное – тот, кто думает обратно тому, как дело обстоит с вещами». /1051а34-b6/ Существует три понятийные оси координат, так как невозможно установить однозначное тождество этих пар противоположностей, а разве только их соответствие. Характеристиками сущего являются: категориальная форма, действительность и истина. Не-сущее представляется как лишенность формы, возможность или ошибка. Каждое составное сущее должно описываться всеми тремя способами, однако при этом возникают затруднения: например, действительностью считается как форма, так и лишенность формы. Если ограничиться последовательным рассмотрением определенного нечто каждый раз в пределах лишь одного из значений основной дилеммы, то возникает другой вопрос.
Допустимо ли считать нечто то более, то менее сущим в зависимости только лишь от изменения плоскости рассмотрения? Ближайшим образом само понятие сущего предполагает внешнюю относительность в связи с внутренней разъединенностью. «Сущим называется, с одной стороны, то, что существует как привходящее, с другой – то, что существует само по себе… То, чему приписывается бытие в смысле привходящего называется так или потому, что то, чему присуще свойство, есть сущее, или потому, что есть само то, чему присуще свойство, о котором оно само сказывается. Бытие же само по себе приписывается всему тому, что обозначается через формы категориального высказывания». /1017а7–24/ Понятие сущего ограничено значениями сущности и привходящего, вступающими в противоречие друг с другом. В конце концов, сущее понимается как сущность, а не привходящее. «Хотя о сущем говорится в стольких значениях, ясно, что первое из них – это значение сущего как сути вещи, которая выражает ее сущность… Сущность есть первое во всех смыслах: и по определению, и по познанию, и по времени… Вопрос о том, что такое сущее, – это вопрос о том, что такое сущность». /1028а13-b4/ Сущность также имеет несколько смыслов: простое тело; причина бытия вещи; часть, определяющая собой целое; суть бытия вещи /1017b10–25/.
По закону противоречия одна и та же сущность не может быть и не быть в одно и то же время; и противоречащие одно другому не могут сказываться вместе. В этом смысле привходящее исключается из рассмотрения. Следовательно, это тот предел, где вопрос об относительности сущего снимается: сущее конкретно. «В ответ на вопрос, есть ли это человек, не следует еще присовокуплять, что это в то же время и не-человек, если только не добавлять все другие привходящие свойства… Означать же сущность чего-то имеет тот смысл, что бытие им не есть что-то другое. Ведь именно этим отличаются между собой сущность и привходящее, раз привходящее всегда означает нечто высказываемое о некотором предмете». /1007а16–36/ В другом рассмотрении сущность трояка: форма, материя и составное нечто. В отношении последнего, вернее, его определения, закон противоречия обусловлен длительностью мышления, но непосредственно отменяется. «В некоторых случаях суть бытия вещи и сама вещь – одно и то же, как у чистых сущностей… Для сущности составной определение и есть и не есть, а именно: если она берется в соединении с материей, то нет определения (ибо материя есть нечто неопределенное), а если в отношении к первой сущности, то определение есть, например для человека – определение души» /1037а26/.
Для понимания составной сущности понятие привходящего оказывается существенным. «Насколько важно знание привходящего признака (accidens), не стоит и говорить: из десяти категорий девять имеют природу акциденций… Кроме того, мы не сможем изучить ни отличительных, ни собственных признаков, пока не рассмотрим, что такое акциденция; случается ведь по незнанию поставить признак привходящий на место отличительного или собственного, что совершенно недопустимо, как показывают определения: они составляются из отличительных признаков и становятся собственным признаком для каждого предмета, но акциденций они не допускают». [12] Итак, область между сущностью и не-сущностью заполняется различными составными сущностями, более или менее сущими. В определенном нечто противоречие между сущим и не-сущим представлено и разрешено в отношении формы и материи.








