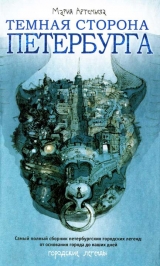
Текст книги "Темная сторона Петербурга"
Автор книги: Мария Артемьева
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Случилось это в военные годы Онин. Дайме провинции Суруга намеревался выдать замуж дочь, прекрасную Оки. Те времена были опаснее нынешних.
Видя, как вся Япония приходит в движение из-за смуты, начатой и не прекращающейся в столице, дайме рассудил, что было бы правильно укрепить армию своих вассалов. Не ровен час, вскорости и ему предстоит, подобно многим другим, защищать владения от мятежников.
В таком положении неплохо было бы залучить к себе на службу лучших оружейников Страны восходящего солнца. Дайме придумал решение.
Было объявлено по всем провинциям, что дочь дайме – Оки – выйдет за того, кто изготовит совершенный меч.
Новость привлекла в Суругу самых умелых оружейников. Многие из них явились попытать счастья на княжеском дворе и стяжать себе великую славу.
Самыми искусными в изготовлении мечей были Белый мастер Масамунэ из провинции Сагами и Сэнго Мурамаса, бывший его ученик.
Масамунэ был человек спокойный и благочестивый, он отличался великим терпением и скромным образом жизни. Напротив, Сэнго нравом был лют и к тому же заносчив.
Он не подписывал свои мечи, как принято у всех японских оружейников, – похвалялся, что острота созданных им клинков говорит сама за себя.
Оба мастера изготовили танто и принесли их на суд опытным воинам в доме дайме.
Красив был меч Мурамасы – клинок с ребром, сужающийся по длине от основания к вершине, тонкий „поясничный изгиб“ на клинке, цвет лезвия – темно-синий, а якиба – закаленная часть клинка – голубовато-жемчужная; рисунок хамон вдоль лезвия напоминал пилу.
Еще красивее был меч Масамунэ – чуть тоньше и ровнее; с белым лезвием, отполированным до звездного блеска, отражающий все чисто и без искажений – истинное зеркало для мужей. Рисунок хамон в виде кику-суи – хризантемы в воде – шел вдоль его клинка.
Пришедшие поглядеть на мечи мастеров говорили, что меч Мурамасы хорош настолько, что руки сами тянутся взять его. Но меч Масамунэ прекраснее – перед ним застываешь в благоговении и уже не помышляешь о битве.
– Меч Масамунэ можно не вынимать из ножен – головы воинов сами склоняются перед его красотой, – говорили восхищенные самураи.
Эти речи разозлили Мурамасу.
– И все же мой клинок лучше! Смотрите, я докажу вам.
С этими словами неистовый Сэнго схватил оба меча, побежал и воткнул их в дно широкого ручья посреди потока.
Была осень, и течение несло по воде множество красных листьев клена.
Клинок Масамунэ листья почтительно обогнули стороной. А на лезвие меча Мурамасы они натолкнулись, и он рассек каждый из них пополам. Все, кто видел это чудо, были поражены.
– Убедились?! – в восторге вскричал Мурамаса. – Вот что такое настоящий меч.
Мурамаса торжествовал. Судьи склонились на его сторону, и он уже предвкушал победу.
Но красавица Оки, дочь дайме, вовсе не желала такого исхода. Мурамаса казался ей человеком кровожадным и опасным. Она видела в нем одержимость убийством, и ее огорчала мысль, что он может сделаться ее мужем.
Она встала и, склонившись перед отцом, сказала:
– Отец, великий мастер Мурамаса прав: его меч хорош. Но не опавшие листья, а крепкая сталь настоящий соперник клинку. Ибо сказано мудрыми: совершенный меч без труда разрубает пополам каплю воды, летящую стрекозу и металл. Дозвольте воинам испытать мечи в сражении.
Дайме согласился, что это разумный подход. Встал и, подняв руку…»
В этот миг равнину Сэкигахара наконец осветило солнце. Размышления Токугавы Иэясу прервал посланный из соседней деревни. Он принес долгожданные вести о победе.
– Господин, битва окончена! Перебежчики выступили против отряда последнего вашего противника, и теперь, господин, вы полный хозяин положения.
Токугава вздохнул, приподняв брови. Этого момента он ожидал всю жизнь, с самой юности мечтая вернуть славу и силу своему погибшему роду.
– Думаю, это моя последняя победа над тобой, Хидэёси, – тихо сказал принц.
При жизни его соперника случалось не раз, что отряды Токугавы побеждали в противоборстве войско Хидэёси, но после выигранного боя приходилось отступать, склонять голову и отдавать победные лавры врагу. Политика оказывалась сильнее мужества; хитрость побеждала доблесть и склоняла к себе на службу.
Но нынешней победы у Токугавы уже никто не отберет. Сделавшись с этого дня Правителем объединенной Японии, он мог наконец принять титул великого сегуна. Конец войне, конец раздорам.
– Что ж. – Токугава сделал знак своим воинам. – Надо прочесать местность до наступления темноты. Нельзя допустить, чтобы чернь воспользовалась слабостью раненых и ограбила мертвых. Выступаем.
Обогнув гору Нангу, отряд вышел на равнину перед ближайшей деревней. В рассеявшемся тумане Токугава и его самураи увидели поле, к которому уже слеталось воронье из соседних лесов. Пропитанный кровью воздух заполнился граем.
– Вот она, плата за единство и спокойствие страны, – с горечью сказал Токугава, глядя на трупы воинов, завалившие поле.
– Смотрите, – указал принцу его стремянный, – я вижу павшего Тоду Сигэмасу. Его стальной шлем разрублен мечом.
– Да примет Амида души достойных воинов! – опечалился правитель Токугава.
– Но что за клинок, который сумел разрубить сталь? – заинтересовался он. – Покажи-ка мне его.
Слуга спешился и, перешагивая через тела, подобрал и протянул меч своему господину.
Токугава слез с коня, чтобы принять оружие, но слегка оступился, и лезвие рассекло ему правую ладонь.
– И снова удар! – засмеялся Токугава, зажимая рукой место пореза. – Уверен, что знаю мастера, который создал этот клинок. Не напрасно Хидэёси охотился за мечами, собирая их по всей стране. Не зря искал потомков рода и возрождал кузнечную школу искусного мастера.
Принц пригляделся к оружию и убедился в своей правоте.
– Пока его злые клинки на свободе, не остановится кровопролитие в Японии, – сказал, нахмурясь, правитель.
* * *
«Прекрасная Оки, настаивая, чтобы испытали мечи мастеров в сражении, сказала отцу:
– Поскольку это касается меня напрямую, дозвольте мне самой выбрать опытных воинов для боя. Я хочу позвать тех, кому доверяю.
Дайме удивился, но подумал, что такая небольшая уступка желанию дочери никак не повредит состязанию и не уронит его чести. Он дал Оки свое позволение.
На следующий день во дворе замка утоптали поле, и два воина, с ног до головы закованные в стальные доспехи, вышли сразиться друг против друга.
У одного из них был в руках танто Масамунэ, у другого – танто Мурамасы.
Воины скрестили клинки, и клинки замелькали как вода, запели и зазвенели от напряжения. Ни один меч по крепости и гибкости не уступал другому.
Но преимущество оказалось за тем из бойцов, кто держал в руках прекрасное создание Масамунэ: чистая шлифовка этого меча ослепляла противника, отчего тот не мог вовремя заметить направление удара, чтобы отразить его.
Судьи и дайме уже были готовы присудить победу мастеру Масамунэ – ведь его воин побеждал.
Но Мурамасу это не устраивало. Он разозлился и затаил обиду.
Едва дайме остановил бой, страшный гнев закипел в сердце Мурамасы. Злоба переполнила его: он подскочил к проигравшему воину, выхватил из его рук свой танто и с криком „Вот как надо побеждать!“ бросился на другого бойца. Никто не успел вздохнуть, а он уже перерубил доспех из стальных пластин и, торжествуя, вогнал острие меча прямо в сердце противника.
С головы павшего скатился шлем, и собравшиеся в замке дайме увидели, чью голову он укрывал. Это была сама прекрасная Оки.
Ужаснулись все, кто видел ее смерть. Кроме Мурамасы.
– Я создаю мечи для настоящих воинов, которые никогда не смирятся с поражением! – закричал он в гневе и, разъярившись, изо всех сил рубанул по мечу ненавистного Масамунэ.
Удар был таким, что оба клинка не выдержали и разлетелись на части. По силе и крепости они были равны.
– Будьте вы прокляты, сильные клинки Мурамасы! Злая душа бессердечного создателя живет внутри вас, – сказал дайме, глядя на мертвую дочь».
– Зато они всегда побеждают! – вскричал Хидэёси, едва наставник Мацусита закончил рассказ.
Хидэёси держал в руках легендарное оружие мастера Мурамасы и смотрел на него с восторгом. Алое закатное солнце над повисшей в облаках вершиной горы Като отражалось в клинке и кровавыми искрами отблескивало в глазах молодого самурая.
Принц Токугава взглянул – и в душе его впервые шевельнулось отвращение.
* * *
Спекулянт продал клинок, предположительно, Мурамасы, Быкову. Эксперт Саша взялся за работу и несколько месяцев усердно трудился над полировкой клинка. Параллельно у другого мастера мы заказали к мечу новую гарду и ножны из черного лакированного дерева.
Вакидзаси получился дивной красоты.
Когда все было готово, мы все пришли полюбоваться восхитительным оружием, которое предназначалось для подарка шефу.
Меч самурайской чести походил на застывшего в прыжке благородного хищника-леопарда – чувствовались в нем одновременно и опасность, и дикая красота, от которой не хотелось отводить взгляда.
Саша тоже присутствовал. Он был мрачен и хмур.
Уже получив неплохое вознаграждение за свою работу, сказал вдруг, что чего-то там не доделал, не довел до ума, и, может, еще рано возвращать нам меч.
Когда Быков посмеялся над таким стремлением к сверхсовершенству, Саша насупился и начал пугать нас странными байками о «живом» клинке.
Дескать, если клинок Мурамасы вынуть из ножен, он не уймется, пока не лишит кого-нибудь жизни. Не зря, мол, оружие этого мастера запрещали в Японии, подвергая гонениям во время всего периода Эдо.
– Не надо его дарить никому, – заключил Саша свою пламенную речь. Он весь горел, будто в жару, и смотрел на нас жалкими глазами, непохожий на самого себя.
Быков добродушно похлопал Сашу по плечу:
– Я понимаю, брат, трудно тебе с такой штукой расставаться. Ты же специалист, профессионал-уникум. Но мы тебя утешим. Выпишем дополнительную премию за труды. Как, годится? Что скажешь?
Мы посмеялись.
* * *
В памятный день мы всем коллективом преподнесли драгоценный меч шефу.
Юрий Константинович обрадовался чрезвычайно. Этим вакидзаси он гордился как своим особым достижением в жизни. Жена его, Кацуми, сказала, что тоже рада.
Она объяснила, что этот меч отвечает всем японским понятиям о высокой ценности: он красив и функционален в соответствии с принципом «ваби»; это старинная вещь – по принципу «саби», и, кроме того, он обладает «югэн» – невыразимой красотой, и, следовательно, как считают японцы, красотой истинной.
Шеф поместил подаренный меч на специально изготовленной эбеновой подставке у себя дома и часто демонстрировал гостям.
Он был совершенно счастлив.
А спустя три месяца мы узнали новость: маленький сынишка нашего Юрия Константиновича, завороженный игрой бликов на лезвии выложенного «подышать» меча, потянулся, чтобы потрогать его. Неосторожно задев, опрокинул подставку, и меч полетел лезвием вниз. По счастью, Кацуми присутствовала при этом – она успела протянуть руку и защитить голову сына от удара. Меч не поранил ребенка – он отсек руку самой Кацуми.
Отдавая ей должное, мы все как один отметили, что она перенесла несчастье с поистине самурайским мужеством – лишившись кисти, никогда ни о чем не жалела и не жаловалась на судьбу.
Однако шеф не захотел больше держать в доме зловещее оружие. Что он с ним сделал – продал кому, выкинул или вернул былую потерю в музей – никогда он об этом и слова не проронил. И где обретается клинок теперь – неизвестно.
К сожалению, не в силах человека – проследить всю цепочку событий от первопричины до следствия. Все в мире взаимосвязано, но нет смысла искать этому доказательства.
Все равно что пытаться проследить путь кругов на воде от брошенного камня, или звук эха, отраженного скалами, или каплю на стекле от растаявшей снежинки, или высохшую слезу на щеке.
РЕИНКАРНАЦИЯ
Наб. Мойки, 126,
психиатрическая больница по прозванию «Пряжка»
Там, где лихо повстречается с бедой
Позатянет все крапивой-лебедой,
А если смерть с косою где пройдет —
Кровяникою тропинка зарастет.
Я не сразу осознал, что в коридоре кто-то напевает. Я собирал в ординаторской справки для отчета главврачу и очень торопился. Звуки из коридора добирались до меня, как до водолаза на дне бассейна: искаженно, с задержкой, глухим фоном.
И момента, когда в отделении поднялась возня, я тоже вовремя не уловил. Я не вдумывался в значение того, что слышали мои уши. Кто-то ходил, швабра щелкала по плинтусам, громыхало ведро с водой. А потом – будто радио громкости прибавило: резкий возглас, стук падения, встревоженные голоса…
Выскочив из ординаторской, я увидал неприятную картину: возле двери столпились пациенты; Семагин и санитар Шевырев оттесняют больных от входа в палату. Коридор измалеван – повсюду алые пятна, багровые подтеки, кровавые пятерни…
– Алексей Васильевич? – Ординатор Семагин выглядит по-детски растерянным, и это резко контрастирует с его внешностью греческого атлета. – Тут вот… Миша.
Шевырев угрюмо прячет глаза.
Миша, всегда тихий, спокойный двадцатидвухлетний парнишка, лежал, обессиленный, на спине у порога палаты и блаженно улыбался. Изрезанные руки его, вытянутые вдоль тела ладонями вверх, слегка подергивались. Рядом валялся осколок стекла, весь в крови. Должно быть, на прогулке Миша подобрал его и каким-то образом пронес в отделение.
Хмурый Шевырев вошел в палату и тут же выглянул, чтобы подозвать меня.
– Алексей Васильевич! – Я подошел, и он, вытянув палец, указал им на стену. Кто-то содрал слой штукатурки, и под ней обнажилась надпись в две строчки: «Смерть красавицам!» Рядом, во всю стену, на спокойном голубом фоне тот же диковинный призыв пламенел, повторенный еще раз шесть-семь. Писали, обмакнув палец в кровь.
Бросилось в глаза различие почерков. Та надпись, что на штукатурке, – с угловатым наклоном букв, давно высохшая, а настенные автографы – вытянутые, вкривь и вкось, яркие, как томатный сок, – и свежие.
С блаженным сиянием Мишиного лица подобная дичь никак не сочеталась. Но руки пациента, перемазанные кровью, сомнений не оставляли.
– Господа медики! – злым шепотом окликнул я своих сотрудников. – Что пялимся, как бараны?! Живо его в перевязочную!
Что же это за чертовщина тут сотворилась?
* * *
День – пятница.
Помнится мне песенка из далекого детства. Странная, про кровянику. Что за кровяника?
Чудное слово:« кровяника». В старину называли так ягоду, которая вызревает в сумрачных, влажных лесах этакой кровавой гроздью в розетке листьев. Внутри у нее крупная кость, и оттого есть ее неприятно: ни вкуса, ни сока в ней нет. В обычные годы считалась она бросовой, несъедобной. Но если вдруг недород приключится в лесу – тогда и кровянику берут.
Только зачем я о ней вспомнил?
Не знаю, кто пел мне эту песенку и для чего.
Думаю, что бабка. Отец умер рано, мать работала швеей, чтобы прокормить меня и младшую сестру мою, Соню. А воспитывала нас она, Аделаида Федоровна.
К Соне бабка добра была и ласкова, а меня невзлюбила. За что – тогда я не понимал. Думал – за озорство.
Ребенком я рос строптивым, шустрым, как все мальчишки. Бабка Аделаида не прощала мне шумных игр со сверстниками, беготни и резвости – то и дело жаловалась на меня матери.
До сих пор помню, как темнело от огорчения мамино лицо. Она приходила усталая с работы, а бабка вываливала на нее с порога все страшные ябеды про меня: кошку гонял, зашиб сопливого соседкиного сына, брал без спросу столовый нож, уроки не учил, шлялся с мальчишками допоздна. Обзывался.
Мама морщилась, словно от боли, и укоризненно качала головой. А бабка наседала, требуя мне наказания посуровее: поставить в угол на горох. Ужином не кормить.
Я видел, как не хотелось матери идти на поводу у жестокой старухи, но она всегда соглашалась. Все детство я не мог разгадать причины странного материнского послушания. И только повзрослев, понял: дом, где мы в городе жили, принадлежал свекрови. Поэтому бедная моя мама, хочешь – не хочешь, а обязана была уважать мнение хозяйки. Не в деревню ж ей было возвращаться с обоими детьми под мышкой. Ее уж давно никто там не ждал.
Вот что помню из детства: каждую ночь, укладывая спать, бабка пугала меня Вадимом Кровяником. Грозилась:
– Ох ты, Вадим Кровяник, бесово семя. Гляди – настанет час, явится он по твою душу. За все тогда расплатишься!
Я трясся, сам не зная отчего. Пугало совпадение имен. Оно с самого начала казалось мне не случайным.
* * *
Мишу перевязали, сделали укол от столбняка и дали снотворное.
Но едва восстановился порядок в отделении, неприятности хлынули валом.
В кабинете главврача находилась некая дамочка. Увидав ее, я сразу все понял. Не случайно, значит, она ошивалась у нас всю прошлую неделю. И точно: главврач, ощеря лисью пасть, озвучил гадкую новость.
– Вернее сказать – старость! – толкнув меня в бок, ухмыльнулся Штерн. Я обиженно промолчал. Тоже ведь… Знал ведь, а не сказал. – Ну, а чем же еще это могло закончиться, Алешенька? – виновато бубнил Штерн. – Ведь не вознесением же в небеса. Пенсия, голубчик! Труба зовет…
Альфред Романович шутил, стараясь меня подбодрить. А я прекрасно видел, что моему заведующему отделением уже не по себе от нависшего над ним дамоклова меча «заслуженного отдыха».
Главврач, конечно же, уверил, что Штерн уходит не прямо сейчас и не совсем – будет продолжать консультировать… И тэдэ и тэпэ.
А потом, расплываясь улыбками, представил «новую метлу»:
– Борисова Юлия Александровна, доктор наук, прошу любить, так сказать…
Я с ненавистью уставился на Юлию Александровну. Молодая, породистая. С фигурой. Глядя, как дрожат ноздри Юлии Александровны в момент, когда она рассказывает о себе, о своей прежней работе и научных публикациях, подумал, что красотка наверняка стерва. Прагматичная карьеристка, отвергающая семейные ценности в погоне за материальным. Или наоборот – давно замужем. Пристроилась за каким-нибудь пузатым манагером, владельцем чистенькой иномарочки. Подстраховалась.
Прервав эти мои желчные мысли, главный поинтересовался, что за ЧП стряслось в нашем отделении. Я объяснил.
– «Смерть красавицам»? Кровью?! – переспросил главный, косясь на прекрасную Юлию. Я усмехнулся. Штерн изящно почесал кривым мизинцем нависающий над тонкими губами нос-сливу и тоже стал пялиться на Борисову. Молчаливый атлет-ординатор Семагин уставился на нее с прямо-таки неприличным вожделением.
– М-да, странная история…
Юлия Александровна, видя, как все на нее смотрят, улыбнулась кончиками губ. Она просто наслаждалась мужским вниманием.
Экая холодная лицемерка. И ладно там главврач и Семагин – Штерн-то каков! Старик, видно, уже в том возрасте, когда любая юбка вдохновляет – лишь бы молодая, половозрелая… Я сердился на Штерна, на равнодушную Юлию Александровну и раздражался на обоих. Прекрасно зная, что вся причина моего раздражения – в том, что Штерн уходит. Пока он был заведующим, я чувствовал почву под ногами. Его уход равносилен сдвигу земной коры. А он тут хорохорится перед фифой!
Главное, можно сколько угодно знать о надвигающейся неприятности, предчувствовать, готовиться, ожидать. И все равно, когда неминуемое, наконец, случается – злиться от того, что оно все-таки произошло. Причем еще именно так, как ты и навоображал себе. Бессилие перед неизбежностью, которую сам себе напророчил, – что может быть хуже?
Я тяжело вздохнул. Штерн глянул на меня и нахмурился.
– «Смерть красавицам», – повторил он задумчиво. И хлопнул по столу сухенькой лапкой. – А ведь это ж наш, можно сказать, семейный скелет в шкафу. Что вы скажете, Николай?
Он подмигнул Семагину, но тот, судя по всему, его не понял. И я не понял.
– В смысле? Поясните.
Борисова склонила голову набок и прищурилась. Даже сидя на жестком стуле в кабинете главврача психиатрической больницы, эта дамочка двигалась так, будто кто-то рядом раздевался под музыку. Все ее богатое тело дышало и волновалось. И это безумно раздражало.
Штерн замолчал. Мне показалось, что-то его озадачило. Обычно он болтает охотно и без передышки, а тут… Семагин равнодушно смотрел в окно, главврач таращился на Штерна с удивлением. Видя, что все ждут от него объяснений, старик спохватился и принялся рассказывать.
– Пряжка наша родимая – бывшая лечебница для помешанных при исправительном учреждении, – сказал он. – То есть, значит, при тюрьме… Со временем больницу из-под пенитенциарного ведомства вывели. Но все экспертизы в плане вменяемости головорезов Питера и окрестностей проводились именно у нас. О, здесь такие фрукты содержались! Закачаешься. Полюбопытствуйте, если будет время, в наших архивах, – тоном гурмана, рекомендующего редкое блюдо, пояснил старик. Обращался он главным образом почему-то к Борисовой. – Мне эта фраза – «Смерть красавицам» – сразу показалась знакомой. И вот, представьте, вспомнил! Ведь это ж было, как бы это выразиться… Личное кредо первого российского маньяка, Николая Радкевича.
– Кто такой? – ревнивым тоном спросил главврач.
Штерн с удовольствием разъяснил:
– Радкевич в начале XX века зверски зарезал нескольких девиц легкого поведения… Когда душегуба поймали – содержали у нас, в лечебнице при тюрьме. Стремился он, видите ли, очистить мир от греха.
– Как английский Джек Рипер? – спросила Борисова.
– Вот! – воскликнул Штерн. – Так его и называли в Питере – второй Потрошитель. У нас он и умер. Убили другие заключенные. После того, как суд назначил ему восемь лет каторги… Кажется…
– Когда ж это все было? – спросила Юлия Александровна. Штерн задрал голову к потолку, усиленно вспоминая.
– М-м-м… Дай Бог памяти… Ага! Лондонский Потрошитель закончил свою «карьеру» в 1888 году. А Радкевич принялся убивать… точно не помню, но, кажется… Нет, никак не раньше 1908-го! То есть спустя двадцать лет. Зверствовал около года. Его довольно быстро отловили и заточили до суда в нашей больнице.
– То есть надпись эта… – хотел спросить главный, но Борисова его перебила:
– Насколько я помню, Джека Потрошителя так и не поймали?
Левая ее бровь поднялась вверх, выгнувшись, как разъяренная кошка, дугой.
– Да, верно! Но сами убийства внезапно прекратились, – сказал Штерн.
– Думаете, есть какая-то связь? – вмешался Семагин, поедая глазами аппетитную Юлию Александровну.
– А что – нет?
– Николай Радкевич был желторотым юнцом, когда вдруг вскочила ему в голову идея убивать, – объяснил Штерн. – Первое нападение совершил в пятнадцать лет. На некую красивую вдовицу, которая от скуки совратила мальчика, а потом бросила. На память о себе оставила юному любовнику дурную болезнь. Увидав бывшую пассию в обществе нового дружка, Радкевич затеял убить изменницу – то ли ножом, то ли душить бросился… Эти подробности я не помню. Но знаю, что именно за этот проступок, совершенный в публичном месте принародно, его исключили из Аракчеевского кадетского корпуса в Нижнем Новгороде.
– Завидую вашей памяти, – сказала Борисова Штерну, оглядываясь с улыбкой на нас с главным. – Жутко интересно, правда?
– Еще как жутко! – подтвердил я.
Семагин неопределенно хмыкнул.
– Да, но только какое отношение может иметь этот самый Радкевич к вашему, простите, Мише Новикову? Мальчик из детдомовского интерната, с двенадцати лет по больницам. Последние два года бессменно у нас.
Главный, слюнявя пальцы, быстро листал страницы личного дела пациента Новикова; Борисова, заскучав, уставилась в окно. Мы со Штерном переглянулись.
– Реинкарнация?
Я, в общем, надеялся пошутить, но главный почему-то обиделся.
– Не пытайтесь меня подкалывать, Одинцов! – отрезал он. – И не считайте себя умнее других.
Я начал оправдываться; а Штерн вдруг забубнил, что надпись под штукатуркой, возможно, была сделана в действительности самим Радкевичем. Бедный Миша, впечатлившись, просто повторил ее. Борисова глядела на всех нас с усмешкой.
– Да! Вот еще что! – вспомнил Альфред Романович. – Он любил представляться жертвам своим как Вадим Кровяник. Это, собственно, прозвище, под которым он был известен.
Холодный червяк прополз у меня между лопатками. При слове «Кровяник» мне вспомнилось утро и звуки, доносившиеся из коридора. Назойливые чьи-то то ли всхлипы, то ли причитание… Песенка о кровянике. Но кто же ее пел?
Миша? А вдруг не он? Я посмотрел на глуповатое лицо атлета Семагина и вздохнул.
Ах, как обидно и не вовремя Штерн уходит!
* * *
День – среда.
Я вынужден пребывать здесь. Место отвратительное, но я не жалуюсь. Главное, что плохо: попадаются красивые женщины.
А мне это видеть неприятно. Тошнота подкатывает, Возмущение взметнется в душе… Как перед тараканом или крысой какой – так и тянутся руки замахнуться, прибить… Ведь вот мерзота какая!
Сказано в Писании – «сосуд греха». Нет, она не просто сосуд… Она приманка! Как для ос блюдечко с вареньем ставят. И это ведь не всякая. Есть простушки: щуплые, невзрачные – те не в счет. А которые мало что мягки и округлы на вид, как немецкие мясные колбаски, так еще и лица себе подмалюют и увесятся блестками – ну, точно в праздник витрина съестной лавки. Те, конечно, самая мразота бесовская и есть. Обман. И – какой обман!
В похоронных конторах так трупы подмалевывают – чтобы погребающих не смущать чудовищным видом смерти. А суть этих женщин – та же. Они в себе смерть несут. Грязь кладбищенскую, могильных червей и прах.
Обидно, что поначалу ничего этого я не понимал. Вспомнить страшно, каким жалким юнцом я был, впервые угодив в подобную ловушку. Если и делал я тогда попытки освободиться, то разве от отчаянья только, как муха, попавшая в паутину, впервые ощутив скованность лапок, да вдруг пугается этого и начинает дергаться. Осложняя тем самым свое положение, все сильнее запутываясь и приближая погибель.
Настоящее осознание пришло гораздо позже. После первого акта очищения, который я совершил чуть ли не по случайности.
В тот день, 10 июня, помнится, я как раз заходил в лавку Бажо на Александровском рынке. Надо было мне купить хороший нож для домашнего пользования. Никогда в гостиницах и пансионах не встречалось мне ни разу удобного ножа.
Шваль догнала меня на пустынной улице вечером, когда я возвращался уже на квартиру. И пристала, надеясь подзаработать. Нет более хищных тварей на свете, чем проститутки. Я отказался, выразив ей свое презрение, и ускорил шаг.
Тогда эта мразь, отребье, выродок рода человеческого, оскорбившись, что я пренебрег ее телом, стала насмехаться надо мной. Мое черное длинное пальто она назвала рясой, а меня – монашком. Сказала, что я, видать, беднее ее, раз не имею лишнего рубля на «мужские удовольствия». Глядя, как я молчу, тихо и безответно, гнусная тварь разлакомилась, вошла в азарт. Настойчиво желая причинить мне душевную боль, заявила, что я и не мужчина вовсе, раз отказываюсь от ее услуг. «Такие, как ты, только по виду мужики, а на деле – пшик!» – смеялась она. Кривлялась, делала непристойные жесты и даже тыкала в меня пальцем, чего я совершенно не выношу. Я не выношу, когда ко мне прикасаются.
Но и это все вытерпел я со смиренностью агнца, и только ускорял шаг, чтобы скрыться от нее. И тут она заметила мою походку.
Я высок и оттого сутуловат: когда тороплюсь, размахиваю руками, а руки у меня худы и кажутся длиннее, чем это должно быть, исходя из соразмерности.
«Э, да ты обезьяна! Чисто обезьяна, – закричала тварь. – Руки ниже колен, как у гамадрила. Небось на четырех лапах быстрее бегаешь? Ну, беги-беги. Тебя в зоосаде-то давно спохватились!»
И так, всячески оплевав и опозорив меня, ничем перед ней не виноватого человека, эта дрянь потеряла ко мне интерес и повернулась спиной, чтоб спокойнехонько себе удалиться.
Этого-то я и не снес: ее спокойствия и уверенности. Она полагала, что может творить любые мерзости, и невинные жертвы ее грязного промысла смиренно снесут ее злобные выходки, проглотят обиды.
Я опустил руку в карман и наткнулся на нож, который лежал там завернутым в плотную бумагу. Рукоятка, сделанная из рога оленя, массивная, слегка выдавалась из свертка. Я непроизвольно сжал ее, ощутив, как удобно и ловко располагается она в руке, как она жестка, тверда и основательна. Ее твердость и придала мне сил.
Меня озарило. Мгновенно я выхватил из свертка нож, в три прыжка догнал злобную гадину, упыря в сладкой личине женщины, и с размаху всадил сталь в ее мягкое тельце. Потом еще раз. И еще. И снова. Гнусная кровь ее брызнула мне в лицо; гадина стонала, обмякшее тело подпрыгивало при каждом новом ударе, дергалось, но я крепко вцепился своими «обезьяньими лапами», не давая ей упасть.
Чувствовал я при этом бешеный восторг. Очищающая судорога прожгла меня насквозь. Под упругими ударами теплой волны я ощущал такую сладость освобождения, что это даже походило на боль. Я пребывал вне разума, как новорожденный младенец, – разум мой в этот миг был абсолютно свободен; никакие ужасные мысли не обременяли его. Даже сознание смерти, которое всегда присутствует и подавляет любого человека – незримо, но угнетающе воздействуя на психику, – даже оно отступило. Я погрузился в теплую вечность тьмы. Сама мерность и материальность человеческого мира, казалось, отступили от меня.
В это мгновение мне открылось, чего я хотел достичь первоначальным своими детским порывом. Что поможет мне искупить все предыдущие грехи в этом мире. Думаю, в этом состоит мое призвание и для этого-то я и пришел в мир. Да, для всех остальных людей сделаюсь убийцей, чудовищем вне закона. Но в глазах Божьих я, страдающий агнец, вознесен быть мечом Его, мечом карающим и очищающим!..
В общей сложности я нанес той девице десять или двенадцать ранений. Когда жизнь ее покинула и мои судороги прекратились, я увидел себя держащим на руках размалеванную куклу, отброшенную актерами после представления. Демон, обитавший внутри этой твари, ушел. Пошлые голубые глазки остеклянело пялились на меня в изумлении; подбородочек, почти детский, с симпатичной ямочкой, выглядел особенно чистеньким и белым по сравнению с окровавленной, развороченной, как туша на бойне, грудью. Небольшой пухлый ротик, измазанный кармином, открылся безвредно, как пустой мешочек, из которого уже вытряхнули все опасное, что могло в нем содержаться. Это была оболочка гадины – пустая и никчемная.
Я выкинул ее в Неву.
Но сначала отнял у мертвой ее деньги – ведь они ей уже никогда не пригодятся. Обтер ее юбкой свое лицо, руки и нож. Нож я завернул опять в бумагу и убрал в карман. Все заняло не более семи минут. Во все это время улица оставалась пустынна, никто не видел меня.
Домой я вернулся засветло и очень счастливым.
* * *
Я решил расспросить потихоньку Мишу. Надо же все-таки разобраться, что подвигло его исписать стены призывами к убийству и какое отношение он имел к песенке про кровянику. Если, конечно, была тут вообще какая-то связь.
Оказалось, Миша и сам уже просится поговорить со мной. Я позвал его в кабинет.








