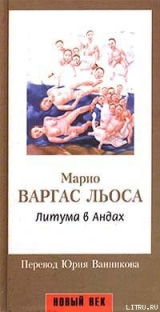
Текст книги "Литума в Андах"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Нас преследуют, нас ищут, – всхлипывала Мерседес, не утирая градом катившихся слез. – Это не может быть случайностью: сначала банк, а теперь квартира. Нас ищут люди Борова, они нас убьют.
Но они не нашли его тайник – замаскированное несколькими кирпичами укромное местечко в уборной, где он хранил свою скромную пачку долларов.
– Долларов? – встрепенулся Литума. – У тебя были сбережения?
– Хотите верьте, хотите нет, но у меня было около четырех тысяч. Конечно, не из жалкой зарплаты полицейского, а из того, что мне давал подработать мой крестный: то пару дней охранять кого-нибудь, то доставить пакет или посторожить дом, в общем, всякие мелкие поручения. Каждый грош, что я от него получал, я обменивал на доллары в квартале Оконья и тут же – в тайник. Я думал о будущем. А моим будущим стала Мерседес.
– Вот это я понимаю! Твой крестный прямо как Господь Бог. Если выберемся из Наккоса живыми, приведи меня к нему. Хотел бы я до того, как умру, увидеть живьем великого человека. До сих пор мне приходилось видеть таких людей только в газетах и фильмах.
– С этим мы не доберемся до Соединенных Штатов, – сказала Мерседес, прикинув расходы.
– Я достану все, чего нам не хватает, дорогая, поверь мне. Я вытащу тебя отсюда и в целости и сохранности доставлю в Майами, увидишь. А когда мы уже будем там, среди небоскребов, золотых пляжей и шикарных машин, ты ведь скажешь мне: «Я люблю тебя всем сердцем, Карреньито»?
– Сейчас не до шуток. Не будь таким легкомысленным. Ты что, не видишь: нас ищут, хотят отомстить.
– Зато я тебя рассмешил, – улыбнулся юноша. – Ты мне так нравишься, когда смеешься, у тебя такие ямочки на щеках, что у меня учащается пульс. Как только моя старушка передаст мне доллары, мы пойдем и купим тебе какое-нибудь платье, о'кей?
– Нельзя в первый раз трахаться в двадцать три года, Томасито, слишком поздно, – философствовал Литума. – Извини, но я скажу. Просто ты узнал женщину, ну и тебе моча ударила в голову.
– Вы ее не знаете, вы не представляете, что значит обнимать такую куколку, как моя Мерседес, – вздохнул Карреньо. – Каждый день уже с утра я не мог дождаться, когда наступит ночь, чтобы отправиться в рай со своей любимой.
– Когда ты говоришь все это, мне кажется, ты шутишь или насмехаешься надо мной, – сказала Мерседес.
– Что мне сделать, чтобы ты поверила?
– Не знаю, Карреньито. Я как-то теряюсь, когда то и дело слышу такие вещи. Когда ты возбужден и ласкаешь меня, это нормально. Но ты ведь говоришь так целый день.
– Ну и размазня ты, парень, – прокомментировал Литума.
Томас договорился встретиться с матерью, когда стемнеет, на улице Аламеда-де-лос-Дескальсос. Он взял с собой Мерседес. Такси он остановил, не доезжая до Аламеды, на улице Пласа-де-Ачо, и дальше они пошли пешком. Сделав несколько кругов, подошли к церкви, где их ожидала мать Томаса, низенькая сутулая женщина в длинном черном платье. Она молча обняла и поцеловала сына, а когда он представил ей Мерседес, так же молча протянула ей маленькую холодную ладошку. Они уселись на шаткую скамью в темном закоулке – ближайший фонарь был разбит – и только тогда начали разговор. Откуда-то из-под юбок женщина извлекла завернутую в газету пачку долларов и вручила ее Карреньо. Она ни о чем не спросила Мерседес, даже не взглянула на нее. Юноша вытащил из свертка часть долларов и, не говоря ни слова, сунул их в сумку матери. Ее лицо не выразило ни удивления, ни радости.
– Удалось узнать что-нибудь о крестном? – спросил Томас.
Она кивнула. И слегка наклонилась вперед, чтобы видеть его глаза. Она говорила почти шепотом на хорошем испанском языке, но с сильным горским акцентом:
– Я собиралась передать ему весточку от тебя, но он пришел сам. Был такой хмурый, что я подумала, сейчас скажет, что с тобой случилось что-то ужасное, что тебя убили, а он сказал, чтобы ты связался с ним как можно скорее.
– Я ему звоню по нескольку раз в день, но его домашний телефон всегда занят.
– Он не хочет, чтобы ты звонил ему домой. Звони ему на службу, лучше до десяти, называйся Чино.
– Когда я это услышал, у меня немного отлегло от сердца, – сказал Томас. – Если он сам пришел к моей маме, если хочет, чтобы я ему позвонил, значит, еще не совсем от меня отвернулся. Правда, мне пришлось ловить его десять дней. Мерседес очень переживала из-за этого, я же, напротив, был только рад, ведь задержка продлевала наш медовый месяц. И вообще, хотя мы тогда боялись, не знали, что нас ждет, все равно у меня это были самые счастливые дни в жизни, господин капрал.
Когда они попрощались с матерью Томасито и вернулись в дом тети Алисии в Барриос Альтос, Мерседес засыпала его вопросами:
– Не понимаю, почему твоя мать принимает все так спокойно? Ее не удивляет, что ты скрываешься, что пришел со мной, что ограбили твою комнату? Разве все, что с тобой происходит, нормально?
– Она знает, как опасно жить в Перу, дорогая. На вид она такая невзрачная, а на самом деле – железная женщина. На какие только ухищрения ей не приходилось идти, чтобы прокормить меня. В Сикуани, в Куско и в Лиме.
Получив доллары, Карреньо пребывал в прекрасном настроении и подшучивал над Мерседес, хранившей деньги в банке:
– В нашей стране опасно доверять деньги банкам, самое подходящее место для них – под матрасом. Вспомни-ка этого метиса на площади Виктории: едва тебя не прикончил. Правда, я доволен, что он порвал твое избирательское удостоверение, теперь ты зависишь от меня. Давай отметим это, приглашаю тебя потанцевать. Ты мне покажешь какие-нибудь фигуры из твоего шоу в «Василоне»?
– Как ты можешь думать сейчас о развлечениях? – запротестовала Мерседес. – У тебя одни забавы на уме.
– Это оттого, что я влюблен в тебя, дорогая, и умираю от желания танцевать с тобой cheek to cheek.[28]28
Щека к щеке (англ.)
[Закрыть]
В конце концов Мерседес уступила, и они отправились в «Уголок воспоминаний» на Пасео-де-ла-Република, там никто не смог бы хорошо рассмотреть их лица: романтический уголок почти не был освещен. Там крутили старые пластинки – танго Гарделя, болеро Лео Марини, Аугустина Лары и Лос-Панчос. Они заказали коктейль «Куба либре», им тут же наполнили стаканы. Карреньо говорил без умолку о том, как они будут жить в Майами: он вложит деньги в какое-нибудь транспортное предприятие, лучше по перевозке ценных вещей, разбогатеет, они поженятся, пойдут дети. Танцуя, он сильно прижимал Мерседес к себе, жадно целовал ее лицо, шею.
– Пока ты со мной, все у тебя будет в порядке, можешь поверить. Вот погоди, вернется толстяк Искариоте, я поговорю с крестным – и жизнь нам улыбнется. Мне-то она уже улыбнулась – подарила тебя.
– Какое замечательное название – «Уголок воспоминаний», – вздохнул Литума. – Знаешь, от твоего рассказа я затосковал по таким вещам: полумрак, тихая музыка, отличная выпивка, ты танцуешь с симпатичной крошкой, и она льнет к тебе всем телом.
– Эта была прекрасная ночь, – сказал Карреньо. – Она тоже меня целовала, сама, первая. И я тешил себя мыслью, что в ней просыпается любовь.
– Твои поцелуи и ласки возбудили меня, Карреньито, – шептала Мерседес, покусывая его ухо. – Идем скорее в постель, завершим достойно нашу дурацкую вылазку.
Они вышли оттуда около трех часов ночи, оба сильно навеселе. Но винные пары сразу улетучились, когда, подходя к пансиону тети Алисии, они увидели патрульную машину, несколько пожарных машин и толпу зевак. Выскочившие в чем попало на улицу соседи объяснили, что в доме прогремел взрыв.
– Они подъехали на грузовичке и спокойно, не торопясь, установили взрывное устройство около деревянного домика шагах в двадцати от пансиона тети Алисии. Это была уже третья попытка. По-вашему, это тоже случайное совпадение, господин капрал?
– Томасито, больше я не верю ни одному твоему слову. Насчет бомбы ты здорово загнул. Если бы наркос[29]29
Множественное число от «нарко» – перевозчик и продавец наркотиков (исп.).
[Закрыть] хотели тебя убить, они бы сделали это, не заливай мне мозги.
Взрывом выбило окна ближайших домов, заполыхал мусоросборник на задворках. Среди соседей, кутаясь в шаль, стояла тетя Алисия. Встречаясь взглядом с Карреньо и Мерседес, она делала вид, что не знает их. Остаток ночи они провели на крыльце особняка неподалеку и вернулись, когда около пансиона не было уже ни патруля, ни пожарных. Тетя Алисия торопливо захлопнула за ними дверь. В ее доме все было в полном порядке, и сама она не казалась испуганной, ей не приходило в голову, что бомба могла иметь какое-то отношение к Карреньо; как и соседи, она считала, что это было покушение на чиновника префектуры, жившего на той же улице. Грузовичок проехал мимо ее дома, когда она как раз открывала окно, чтобы проветрить комнату, было слышно, как разговаривают в кабине; высунувшись из окна, она увидела, что машина остановилась на углу и из нее вышли эти бандиты. Они, верно, ошиблись и подложили бомбу под пустующий дом. А может, они и не собирались никого убивать, а только хотели попугать этого типа из префектуры.
– Мерседес ни на минуту не поверила в эти разговоры о чиновнике из префектуры, она была уверена, что искали нас. При тете Алисии она помалкивала, но стоило нам остаться одним, она накинулась на меня:
– Эта бомба была для нас с тобой, для нас! Какой еще чиновник из префектуры? Чушь собачья! Нас выследили! Они и не думали никого предупреждать, они готовили убийство, пока мы с тобой отплясывали в «Уголке воспоминаний». Теперь ты доволен, псих несчастный?
Голос у нее дрожал и прерывался, она так стиснула руки, что пальцы побелели, и Карреньо пришлось силой разъединять их: он испугался, что она причинит себе вред. Он никак не мог ее успокоить, она совсем потеряла голову: плакала навзрыд, кричала, что не хочет умирать, осыпала его бранью, бросалась на кровать и билась в истерике.
– Я думал, с ней случится что-то ужасное – хватит удар или того хуже, – сказал Томас. – Я-то ничего не боялся, но видеть ее такой не мог и совсем растерялся, не знал, как ее утешить, что сказать, что пообещать, чтобы она только перестала плакать. Все мои слова, объяснения, клятвы – все было ни к чему.
– И что же ты сделал? – спросил Литума.
Он пошел в уборную, достал спрятанный сверток с долларами и, присев на край кровати, стал уговаривать Мерседес взять их. Целовал ее глаза, гладил волосы, губами расправлял морщинки на лбу.
– Они твои, любовь моя, останешься ты со мной или бросишь меня – они твои. Я тебе их дарю. Сохрани их, спрячь получше, чтобы даже я не знал, где они лежат. Ты почувствуешь себя уверенней, спокойно будешь ждать, пока я смогу поговорить с крестным, тебе не будет казаться, что земля уходит из-под ног. Так ты не будешь привязанной ко мне и, если захочешь, сможешь уйти. Не плачь же, прошу тебя.
– Ты это сделал, Томасито? Ты подарил ей все свои доллары?
– Зато она перестала плакать, господин капрал.
– Это же еще хуже, чем убить Борова за то, что он ее бил, – подпрыгнул на своей раскладушке Литума. – Дерьмо ты, Карреньо, вот что!
VIII
– Так вас настиг уайко, но вы остались живы и здоровы? – Трактирщик похлопал Литуму по плечу. – Поздравляю, капрал!
В погребке царило похоронное настроение, один только Дионисио пребывал в прекрасном расположении духа. Зал был переполнен. Пеоны, разбившись на группы, со стаканами в руках, беспрерывно курили и говорили все сразу, их голоса сливались в какое-то пчелиное гудение. Вид у них был мрачный, а в глазах, как показалось Литуме, застыл животный страх. После разрушений, причиненных уайко, никто уже не мог надеяться на возобновление работ. Так что им, этим горцам, и впрямь было из-за чего прийти в отчаяние.
– Можно считать, я родился во второй раз там, наверху, – признался Литума. – Никому не пожелаю пройти через это. В ушах до сих пор стоит грохот этих камней, едрена мать, они неслись на меня отовсюду.
– А ну-ка, ребята, выпьем за капрала! – поднял рюмку Дионисио. – И поблагодарим наккосских апу: они спасли ему жизнь!
«А ведь эта жаба подкалывает меня», – подумал Литума. Но поднял рюмку, с улыбкой поблагодарил Дионисио и несколько раз кивнул пившим за него пеонам. Томас Карреньо, выходивший помочиться, вернулся в зал, потирая руки.
– Вы единственный, кто смог остаться в живых, угодив в уайко! – воскликнул он с тем же простодушным восхищением, с каким уже слушал раньше рассказ своего начальника. – Надо, чтобы о вас напечатали в газетах.
– Что правда, то правда, – сказал пеон с изрытым оспой лицом. – После истории с Касимиро Уаркаей здесь никогда больше не слышали ни о чем подобном. Попасть в уайко – и уцелеть!
– Касимиро Уаркая, Альбинос? – встрепенулся Литума. – Тот, что исчез? Тот, что выдавал себя за пиштако?
Альбинос пришел поздно, когда, как всегда по субботам, в погребке дым стоял коромыслом – все уже были сильно навеселе. Он тоже был под градусом. Взгляд его красноватых выпученных глаз, опушенных белесыми ресницами, приводил людей в смущение. Он, как обычно, возвестил о себе с порога пьяным задиристым голосом: «А вот и потрошитель – пиштако! Все слышали? А если, черт подери, не верите, я вам кое-что покажу». С этими словами он вынул из заднего кармана небольшой нож и, ухмыляясь, помахал им в воздухе. Потом, покачиваясь и паясничая, подошел к стойке, где донья Адриана и ее муж обслуживали посетителей, и, стукнув кулаком, потребовал чего-нибудь покрепче. В это мгновенье Литума понял, что произойдет дальше.
– Конечно, он, а кто же еще, – ответил тот, с оспой. – Вы разве не знали, что терруки его казнили, а он воскрес, как Иисус Христос?
– Нет, не знал, здесь я вообще узнаю обо всем последний, – вздохнул Литума. – Так его казнили, а он воскрес?
– Да нет, Пичинчо немного загибает, – вмешался в разговор смуглый пеон с волосами, как у дикобраза. – Я думаю, его казнили понарошку. Разве такое возможно, что в него выстрелили по-настоящему, а он потом встал как ни в чем не бывало, даже без раны?
– Я вижу, все тут знают назубок историю Касимиро Уаркаи, – вмешался Карреньо. – Так почему же, интересно, когда он исчез, все вы говорили нам, капралу и мне, что вам ничего о нем не известно?
Наступило тягостное молчание, лица окружавших их пеонов, угловатые, с приплюснутыми носами, толстыми губами, маленькими недоверчивыми глазками, застыли в какой-то потусторонней непроницаемости, а Литума ощутил себя существом из другого мира, кем-то вроде марсианина, неожиданно упавшего сюда с неба. Но вот шевельнулся горец с рябым лицом, его рот растянулся в широкой улыбке, открыв белоснежную полоску зубов:
– Потому что тогда мы не доверяли капралу.
Раздался одобрительный гул, и Дионисио поспешил наполнить рюмку Альбиноса, поглядывая на него со своей всегдашней насмешливо-настороженной улыбкой. Лицо его отекло более обычного, студенистые щеки розово блестели сквозь небритую щетину. В плавающем табачном дыму он казался выше и толще, чем был на самом деле. И хотя он двигался разболтанно, будто у него были вывихнуты руки и ноги, Литума знал, что трактирщик обладает недюжинной силой, он видел однажды, как тот поднял на руки пьяного пеона, донес его до двери и вышвырнул на улицу. Кстати, не потому, что тот буянил, а потому, что начал плакать; тем же, кто затевал ссоры и лез в драку, Дионисио позволял оставаться в погребке, он иногда даже стравливал своих завсегдатаев, похоже, пьяные скандалы доставляли ему удовольствие. Альбинос выпил свою рюмку, и Литума весь превратился во внимание, он сидел как на углях, с нетерпением ожидая, когда тот заговорит. И тот заговорил, обернувшись к одуревшим от шума и выпивки посетителям:
– Ну что, даст кто-нибудь закурить потрошителю? Скопидомы! Жлобы!
Никто не обратил внимания на его слова, даже не взглянул на него. Лицо Альбиноса исказилось, будто его захлестнул приступ злобы или вдруг схватило живот. Волосы, брови, ресницы Касимиро Уаркаи были совсем белыми, но больше всего бросались в глаза белый пушок на коже и белая щетина на щеках. На нем был комбинезон и расстегнутая прорезиненная куртка с капюшоном, открывавшая поросшую седыми волосами грудь.
– На, возьми, Касимиро, – протянул ему сигарету хозяин погребка. – Сейчас снова будет музыка, и ты сможешь потанцевать.
– Что ж, неплохо, – сказал Литума. – То есть, я хочу сказать, неплохо, если теперь вы будете относиться ко мне как к горцу, а не как к горному стервятнику. Это стоит обмыть. Дионисио, достань-ка вон ту бутылку и пусти ее по кругу за мой счет. Пейте, друзья.
Пеоны благодарно зашумели, Дионисио принялся открывать бутылку, донья Адриана раздавала рюмки тем, у кого их не было, а капрал и его помощник разговаривали с завсегдатаями. Они подошли к стойке, пеоны окружили их тесным кольцом, как во время партии в кости, когда на кону уже выросла высокая кипа денег.
– Стало быть, терруки стреляли в Уаркаю, а он остался невредим? – переспросил Литума. – Расскажите подробнее, как это было.
– Он сам рассказывал об этом, когда в него вселялся бес, или, проще говоря, вино ударяло в голову, – сказал пеон, похожий на дикобраза. – Он колесил по всей сьерре, искал девчонку, которая родила ему сына. И вот однажды вечером приехал он в одну деревню в провинции Ла-Мар, а его там приняли за пиштако и чуть не убили. Но его спасли терруки, они как раз в этот момент вошли в деревню. И кто же, вы думаете, командовал ими? Та самая девчонка, которую он искал!
– Как это спасли? – перебил его Карреньо. – Разве не они его казнили?
– Помолчи, – приказал Литума. – Не мешай, пусть рассказывает.
– Терруки спасли его от самосуда жителей, но потом сами устроили над ним народный суд и приговорили к смерти, – продолжал дикобраз. – Казнить его поручили его же девчонке. А та и бровью не повела, застрелила его.
– Ну и ну, – поразился Литума. – Но как же он после смерти пришел в Наккос?
Альбинос не произносил ни слова. Он долго возился с сигаретой, пытаясь раскурить ее, он был уже так пьян, что никак не мог удержать пламя спички у кончика сигареты. Взглянув на чумазое, лоснящееся лицо Дионисио, Литума перехватил его взгляд – быстрый, насмешливый, ожидающий взгляд человека, который знает, что сейчас произойдет, предвкушает развлечение и радуется ему. Он тоже знал, что сейчас случится, но его от этого бросало в дрожь. Остальные же, казалось, ничего не замечали, одни сидели на ящиках, другие – большинство – стояли группками по два-три человека с бутылками пива, писко, анисовой в руках, пили из горлышка, передавали бутылки друг другу. Из радиоприемника, подвешенного высоко над стойкой, сквозь треск электрических разрядов неслись песни района Анд и тропиков – субботняя программа радио Хунина. Самолюбие Альбиноса, по-видимому, было уязвлено тем, что на его слова не обращают внимания; он повернулся спиной к хозяину и с вызовом уставился на толпу своими выпученными, как у вытащенной из воды рыбы, глазами.
– Вы слышали, что я потрошитель? Пиштако, или нака, как говорят в Аякучо. Нарезаю людей ломтиками.
Он снова помахал в воздухе ножом и состроил гримасу, явно ожидая, что его заметят, обрадуются, посмеются над ним или похлопают ему. Но и на этот раз его присутствие не привлекло внимания пеонов. Тем не менее, Литума знал: все пять чувств всех без исключения присутствующих обращены на Касимиро Уаркаю.
– Ведь так все было, по крайней мере, он так рассказывал, верно? – спросил рябой, и несколько пеонов утвердительно кивнули. – Что эта терручка казнила его, выстрелила в него из ружья с расстояния в один метр. И Уаркая умер.
– Ему показалось, что он умер, Пичинчо, – поправил его дикобраз. – А на самом деле он просто потерял сознание. От страха, ясное дело. А когда пришел в себя, на нем даже раны не оказалось, только синяки, он получил их, когда жители приняли его за пиштако и пинали ногами. Терручка же просто хотела попугать его, только и всего.
– Уаркая говорил, что видел, как ружье выстрелило прямо ему в голову, – стоял на своем рябой. – Она его убила, а он воскрес.
– Ну и ну, – повторил Литума, внимательно следя за реакцией рассказчиков и окружавших их пеонов. – Значит, он спасся от казни, пришел в Наккос, и тут его похитили. Похоже, он и на этот раз спасся?
Они пили писко и анисовую, передавали друг другу бутылки с пивом и стаканы, коротко возглашали: «За тебя, браток!»; они курили, разговаривали, насвистывали мелодии звучавших по радио песен. Кто-то, опьяневший больше других, обнял воображаемую женщину и стал танцевать, глядя на свою тень полузакрытыми глазами. Дионисио в состоянии лихорадочного возбуждения, в которое он обычно впадал в это время, раззадоривал клиентов: «Давайте, давайте, танцуйте, не важно, что нет юбок, ночью все кошки серы». Они вели себя так, будто Касимиро Уаркаи здесь не было. Лицемеры. Литума прекрасно знал, что они притворяются, что краем глаза следят за Альбиносом.
– Пиштако, который прячется под мостом и за камнями и живет в пещерах, как тот, кого убила донья Адриана, этот пиштако – я! – крикнул Уаркая громовым голосом. – Вы понимаете, о чем я говорю, донья Адриана, правда? Ну-ка попробуйте убить меня тоже, как вы с вашим носатым мужем убили Сальседо. Даже терруки не смогли угробить меня, хотя и пытались. Я бессмертный!
Лицо его искривилось, будто снова спазм стиснул желудок, но в следующее мгновенье расправилось, он весь подобрался, выпрямился, схватил рюмку. Не замечая, что рюмка пуста, Касимиро жадно глотал воздух, облизывал ее края, вертел ее, пока она не выпала у него из рук, покатилась по стойке и упала на пол. После этого он наконец успокоился, крепко потер руками лицо и вперился выпученными лягушачьими глазами в надписи, пятна, следы сигарет на досках стойки. «Главное, не уходи, – прошептал Литума, зная, что Альбинос не может его услышать. – Не вздумай податься куда-нибудь отсюда. Останься здесь до конца, пока все не уйдут или не напьются до бесчувствия». Литуме вдруг почудилось, что Дионисио ехидно улыбается. Он присмотрелся: да, действительно, хотя тот делал вид, что поглощен посетителями, которых все еще приглашал жестами танцевать, его толстощекое лицо улыбалось так злорадно, что у Литумы не осталось сомнений: Дионисио издевается над его попыткой изменить ход вещей, не дать случиться тому, что все равно случится.
– Вполне возможно, что он спасся и на этот раз, – сказал Пичинчо, ощупывая оспины, будто они у него зудели. – После той истории с терруками он немного тронулся. Вам не рассказывали, какие номера он тут выкидывал, чтобы его приняли за пиштако? Может быть, его и не похищали вовсе, а просто ему в голову пришла новая блажь – незаметно улизнуть из Наккоса.
Рябой явно лицемерил, и Литуме захотелось спросить, уж не думает ли тот, что он и его помощник такие лопухи, что смогут поверить в подобную чушь. Но его опередил Томасито:
– Улизнуть, не получив зарплату? Вот лучшее доказательство того, что Альбинос исчез не по своему желанию и не по своей воле. Он не получил деньги за последние шесть дней работы. Кто же добровольно подарит компании свою недельную зарплату?
– Никто, конечно, если он нормальный человек, а не чокнутый, – ответил Пичинчо, сам явно не веря в то, что говорит. – Но у Касимиро Уаркаи после истории с терруками поехала крыша.
– А в конце концов, что из того, что он исчез? – сказал другой пеон, до сих пор не произносивший ни слова, – маленький горбун с запавшими глазами и позеленевшими от коки зубами. – Разве мы все не исчезнем когда-нибудь?
– А после этого проклятого уайко даже скорей, чем ты думаешь, – гортанно воскликнул кто-то, Литума не рассмотрел, кто.
И тут же увидел, как Альбинос, пошатываясь, идет к двери. Люди, не глядя на него, расступались, давая дорогу, но делали вид, что Касимиро Уаркаи нет среди них, что его не существует. Прежде чем открыть дверь и раствориться в холодной темноте, Альбинос в последний раз запальчиво крикнул осипшим от злости и усталости голосом:
– Кое-кого из вас я обязательно выпотрошу! И на вашем же жире буду жарить ломти вашего мяса и есть их! Отличный будет праздник у потрошителя. А вы все подохнете, засранцы!
– Да что ты все плачешься, ведь уайко же никого не убил, – сказала донья Адриана горбуну с другого конца стойки. – Даже не ранил. Вот и капрал попал в самый камнепад и остался цел. Лучше скажи спасибо, что мы уцелели, и радуйся, вместо того, чтобы жаловаться, нытик несчастный.
Уаркая переступил порог и двинулся к баракам, слабо освещенным несколькими голыми лампочками, которые по субботам компания выключала в одиннадцать часов, на час позже, чем в остальные дни. Сделав несколько шагов, он споткнулся и как подкошенный рухнул на землю. Бестолково копошась и чертыхаясь, попытался подняться, что удалось ему только после долгих усилий: кое-как поставил одну ногу, оперся на колено другой, пал на четвереньки и, сильно оттолкнувшись руками, с трудом выпрямился. Чтобы не упасть снова, он согнулся, как обезьяна, и широко расставил руки, стараясь сохранить равновесие. Это бараки? Желтые огоньки лампочек порхали, будто светлячки, но он знал, что это не светлячки, разве они водятся так высоко в Кордильере? Он засмеялся и стал ловить их руками. Глядя на эту шутовскую пляску, Литума тоже засмеялся, но невесело, его прошиб холодный пот, начинало знобить. Дойдет ли Альбинос когда-нибудь до своего барака, где его ждет деревянный топчан, набитый сеном матрас и одеяло? Он поворачивал то вправо, то влево, возвращался назад, кружил на месте; шел на эти убегающие огоньки, терял их, путался, и в нем опять закипала злоба. Хотел выругаться, отвести душу, но так устал, что не смог. Наконец он добрался до барака, там его снова занесло, и он уже на четвереньках подполз к своему топчану, вскарабкался на него, ударившись лицом о перекладину и расцарапав лоб и руки. И теперь, лежа ничком с закрытыми глазами, прислушивался, как в нем волной поднимается тошнота. Он попытался вызвать рвоту, но не удалось. Хотел перекреститься и прочитать молитву, но не было сил поднять руку, а молитвы он, оказывается, не помнил ни одной, ни «Отче наш», ни «Дева Мария, радуйся». Он впал в тяжелое полузабытье, время от времени вздрагивал, началась отрыжка, приступы боли стискивали желудок, грудь, горло. Догадывался ли он, что скоро за ним придут?
– А что толку, что мы уцелели, если уайко оставил нас без работы, – возразил горбун донье Адриане. – Не знаешь разве, что он разбил экскаваторы, катки, трактора?
– Этому, что ли, мы должны радоваться, донья Адриана? – поддержал его дикобраз. – Объясните мне кто-нибудь, я не понимаю.
– Разве он не оставил нас без крыши над головой? Не засыпал сто метров дороги, уже подготовленной, чтобы класть асфальт? – подхватил, как эхо, другой пеон из глубины зала. – А ведь это все предлог, чтобы остановить строительство. Нет денег – и баста! Затяните ремни и подыхайте!
– Могло быть еще хуже, так что не скулите, – парировала донья Адриана. – Могли вообще остаться без ног, без рук, с переломанными костями и ползали бы остаток жизни, как черви. А вы, точно безмозглые бараны, не понимаете этого и распускаете нюни.
– Будем пить и веселиться! – гаркнул Дионисио. – Будем танцевать!
Он стоял в центре зала, подталкивая пеонов друг к другу, сцеплял их в вереницу, притопывал и поворачивался в такт льющейся из репродуктора мелодии. Но Литума видел, что даже самые захмелевшие пеоны не хотят танцевать. Алкоголь не только не помог им отвлечься от безрадостных мыслей о будущем, но, наоборот, еще больше их омрачил. От прыжков и криков Дионисио у Литумы закружилась голова.
– Вы себя плохо чувствуете, господин капрал? – сжал его руку Томас.
– Немного перебрал, – пробормотал Литума. – Сейчас пройдет.
В поселке уже остановили движок, до рассвета оставалось несколько часов. Но у них были ручные фонари, и они шагали уверенно, раздвигая темноту желтыми лучами. Их было так много, что они едва умещались в узком проходе, однако они не толкались, не натыкались друг на друга, двигались спокойно, не торопясь. Они не казались ни испуганными, ни озлобленными, в них не чувствовалось ни растерянности, ни нерешительности, и самое странное, подумал Литума, нельзя было уловить ни малейшего запаха алкоголя в холодном воздухе, который они принесли с собой снаружи. Во всем их поведении ощущалась осознанная решимость людей, которые знают, что делают и что им предстоит сделать дальше.
– Надо, чтобы вас вырвало. Хотите, я вам помогу? – спросил Томас.
– Нет, – ответил Литума. – А вот если меня потянет плясать, как этих остолопов, держи меня покрепче и не отпускай.
Кто-то потряс за плечо Альбиноса, сделал он это без всякой враждебности, даже деликатно:
– Эй, Уаркая, эй. Давай-ка вставай.
– Так ведь еще темно, – тихо откликнулся тот, а потом, растерявшись, вообще сморозил глупость, по мнению Литумы: – Сегодня же воскресенье, а по воскресеньям мы не работаем.
Никто не засмеялся. Они стояли молча, не проявляя нетерпения, и капрал со страхом подумал, что они могут услышать, как колотится его сердце.
– Эй, Уаркая, – скомандовал – кто? – дикобраз? рябой? горбун? – Не будь бабой, вставай!
Несколько рук протянулись из темноты к топчану, помогли Альбиносу подняться. Он едва стоял на ногах и, если бы его не поддерживали, упал бы на пол, как тряпичная кукла.
– Ноги не держат, – пожаловался он и тут же беззлобно, как бы по обязанности, выругался: – Говнюки вы поганые!
– Тебя просто мутит, Уаркая, – искренне посочувствовал кто-то.
– Не могу идти, черт подери, – все еще отнекивался Альбинос. Его грустный голос совсем не походил на тот, каким он кричал в погребке. Он, наверно, говорит как человек, который знает свою судьбу и смирился с ней, подумал Литума.
– Тебя просто мутит, – ободряюще повторил кто-то. – Не беспокойся, Уаркая, мы тебе поможем.
– Я тоже набрался, господин капрал, – подхватил Томас, все еще сжимая его руку. – Только по мне незаметно, у меня хмель играет внутри. Да и мудрено было не набраться, ведь мы выпили по пять рюмок писко.
– Ты убедился, что я был прав? – Литума поискал глазами своего помощника и обнаружил, что тот сидит страшно далеко от него, хотя при этом сжимает его руку. – Эти паршивые горцы знали об Альбиносе все, а нас просто водили за нос. Могу поспорить, они знают и где он сейчас.
– Этой ночью я столько выпил, что не смогу даже думать о тебе, – сказал Томасито. – Нет, я ничего не праздную, это господин капрал, он тут попал в уайко, но уцелел. Ты только представь себе, Мерседес, дорогая, что было бы со мной, если бы я остался на посту один и мне некому было бы рассказывать о тебе. Уже из-за одного этого сегодня стоило напиться, любимая.
Его взяли под руки и вели к дверям барака, почти несли на весу, но никто не подталкивал, не торопил его, хотя их было так много, что под напором тел скрипели и трещали деревянные топчаны по обеим сторонам прохода. Прыгающие лучи фонарей на мгновенье выхватывали из темноты лица, наполовину скрытые шарфами, низко натянутыми шерстяными шапочками, железными касками. Литума узнавал их и тут же забывал.








