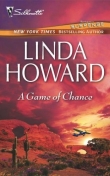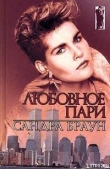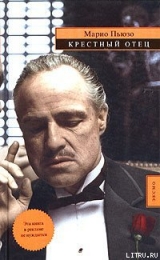
Текст книги "Крестный отец"
Автор книги: Марио Пьюзо
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Он снова растянулся на диване. Его одолевала усталость. Джинни сказала:
– Может, тебе не ездить сегодня домой, ляжешь в комнате для гостей? Утром позавтракаешь с девочками – куда катить в такую поздноту. И вообще, не представляю себе, как ты там существуешь, один-одинешенек во всем доме. Неужели тоска не берет?
– Да я дома-то почти не бываю, – сказал Джонни.
Она рассмеялась.
– Ну, значит, не переменился. – Она задумалась на мгновенье. – Так постелить тебе в свободной спальне?
Джонни сказал:
– А в твоей нельзя?
Она вспыхнула:
– Нет. – Но все-таки улыбнулась ему, и он ответил ей улыбкой. Ну, хоть друзья, и на том спасибо…
Наутро Джонни проснулся поздно: прямо в задернутые шторы било солнце. Раньше двенадцати оно сюда не заглядывало. Он крикнул:
– Эй, Джинни, завтрак мне еще причитается?
Издалека ее голос отозвался:
– Сейчас, одну минуту!
Ей и вправду хватило одной минуты. Вероятно, держала все наготове, еду – в горячей духовке, поднос – под рукой, потому что Джонни не успел еще закурить натощак первую сигарету, как дверь отворилась, и его дочери вкатили в комнату столик на колесах.
Они были такие прелестные, что у него защемило сердце. Их умытые мордашки сияли свежестью, живые глаза сверкали любопытством и нетерпением, – видно, их так и подмывало кинуться к отцу. Длинные волосы были чинно заплетены в косички, пышные платьица чинно застегнуты, ноги обуты в белые лаковые туфельки. Они замерли у столика с завтраком, глядя, как он гасит окурок, дожидаясь, когда он раскинет руки в стороны, призывая их к себе. Они налетели на него одновременно. Душистые, нежные щечки прижались к его лицу, он потер их небритым подбородком, поднялся визг. В дверях показалась Вирджиния и подкатила столик ближе, чтобы Джонни мог завтракать не вставая. Она присела на край кровати, подливала ему кофе, намазывала маслом гренки. Девочки уселись на кушетку напротив, охорашиваясь, приглаживая растрепанные волосы. Как они выросли – с такими уж не затеешь сражение подушками или возню на ковре. Ах, черт, думал он, скоро станут совсем большие – скоро за ними уже начнет ухлестывать голливудская шпана…
Он ел, отламывая для них от своих гренков, делясь кусочками бекона, давая отхлебывать кофе из своей чашки. Этот обычай сохранился с тех дней, когда он пел в джазе и редко садился за стол в одно с ними время, так что они пристрастились делить с ним трапезу в неположенные часы, когда он завтракал пополудни, ужинал поутру. Еда шиворот-навыворот приводила их в восхищение – бифштекс с жареной картошкой в семь утра, яичница с ветчиной – в середине дня.
Только Джинни да немногие близкие друзья знали, как он боготворит своих девочек. Когда он разводился и уходил из дома, тяжелей всего было из-за них. Он тогда отстаивал одно, одно оберегал: свои отцовские права. Обдуманно и недвусмысленно он дал Джинни понять, что будет недоволен, если она второй раз выйдет замуж, – но не ее он ревновал к будущему мужу, а девочек к отчиму. Назначая ей содержание, он позаботился о том, чтобы ей оказалось несравненно выгоднее не вступать в новый брак. Подразумевалось, что она вольна иметь любовников – лишь бы не приводила их в дом. Впрочем, на этот счет он вполне на нее полагался. Она всегда была на редкость застенчива и старомодна в интимных вопросах. Голливудские альфонсы сильно просчитались, когда кинулись увиваться за ней, точа зубы на деньги и блага, которые перепадут им от ее знаменитого мужа.
Он не опасался, что она будет рассчитывать на примирение после его вчерашнего поползновения с нею переспать. Она, как и он, не стремилась восстановить их распавшийся брак. Ей было понятно его влечение к красоте, неодолимая тяга к юным женщинам, с которыми она и думать не могла сравниться. Все знали, что он хоть раз да непременно переспит с актрисой, которая снимается с ним в главной роли. Его мальчишеское обаяние действовало на них столь же неотразимо, как на него – их красота.
– Давай-ка одевайся, да поживей, – сказала Джинни. – А то уже вот-вот Том прилетит.
Она выпроводила девочек из комнаты.
– И то правда, – сказал Джонни. – Между прочим, Джинни, я развожусь – ты не знала? Стану опять вольной птицей.
Она глядела, как он одевается. С тех пор как у них после свадьбы дочери дона Корлеоне установились новые отношения, он взял себе за правило всегда держать в ее доме свежую перемену платья.
– До Рождества всего две недели, – сказала она. – Ты его с нами проведешь – какие у тебя планы?
Вот те на, праздники на носу, а он и думать забыл. Раньше, до того как у него разладилось с голосом, в праздники начиналась самая горячая, самая денежная работа, но и тогда Рождество – это было святое. Если сейчас пропустить, значит, будет уже второй раз. В прошлом году он в эту пору был в Испании, ухаживал за будущей второй женой, стараясь склонить ее к замужеству.
– Обязательно, – сказал он. – И Сочельник отпраздную с вами, и Рождество. – Он не случайно умолчал о встрече Нового года. Под Новый год он на всю ночь закатится гулять с приятелями, без этого время от времени он не мог, а ей на таком кутеже было не место. Тут он не чувствовал угрызений совести.
Она подала ему пиджак, смахнула приставшую пушинку.
Джонни всегда был аккуратен до педантичности. Она заметила, как он нахмурился, увидев, что рубашка отглажена не по его вкусу, запонки – он их давно не надевал – немного аляповаты, таких уже не носят. Она беззлобно фыркнула:
– Ничего, Том все равно не обратит внимания.
Проводить до машины вышли всем семейством. Девочки с двух сторон держали его за руки. Их мать шла чуть поодаль. Джонни сиял, на него было весело смотреть. У машины он по очереди покружил каждую дочку, подкинул высоко в воздух и, возвращая на землю, расцеловал. Потом поцеловался с бывшей женой и сел в машину.
Он не любил затягивать минуты прощания.
Его помощник и агент по рекламе все исполнил в точности. Когда Джонни подъезжал к своему дому, там уже дожидалась взятая напрокат машина с шофером. В ней сидели агент по рекламе и еще один из приближенных. Джонни поставил свою машину, проворно вскочил к ним – и мгновение спустя они уже неслись в аэропорт. Хейгена пошел встречать помощник; Джонни ждал в машине. Через несколько минут Том сел рядом, пожал ему руку, и они двинулись назад, к его дому…
Наконец они с Томом остались в гостиной вдвоем. Оба держались натянуто. Джонни так и не простил Тома с тех памятных дней накануне свадьбы Конни, когда он впал в немилость у дона и не мог к нему пробиться, потому что между ними глухой стеной стоял Том Хейген. Хейген не пробовал оправдаться. Да и не мог. Ему по долгу службы полагалось играть роль громоотвода – когда у людей были основания, но не хватало духу обидеться на дона, они обижались на consigliori.
– Твой крестный послал меня сюда пособить тебе кое в чем, – сказал Хейген. – И я хотел с этой заботой покончить до Рождества.
Джонни Фонтейн пожал плечами.
– Что тебе сказать. Картина отснята. Режиссер оказался порядочным человеком – во всяком случае, со мной обошелся вполне прилично. Сцены, в которых я занят, настолько важны, что, если бы Вольц и вздумал похоронить их в монтажной – а тем самым и меня, – из этого ничего не выйдет. Кто же позволит себе загубить фильм, который обошелся в десять миллионов долларов… Значит, теперь все зависит от того, что скажут критики, когда картина выйдет на экраны.
Хейген осторожно спросил:
– А что, эта награда, которую присуждает Академия, – она и правда много значит в актерской судьбе или же это обычная рекламная побрякушка, которая, по сути, ничего не дает? – Он спохватился и торопливо поправился: – Не считая славы, естественно, – до славы всякий охоч.
Джонни Фонтейн усмехнулся.
– Кроме моего крестного. И тебя… Нет, Том, это не побрякушка. С премией Киноакадемии актеру лет на десять вперед обеспечен успех. Ему будут предлагать на выбор самые завидные роли. Зритель будет ходить на картины с его участием. Конечно, премия – это еще не все, но для карьеры киноактера нет ничего важней. И, в общем, я рассчитываю ее получить. Не оттого, что я такой уж выдающийся артист, но, во-первых, меня уже знают как певца, а во-вторых – сама роль очень выигрышная. Ну, и сыграл я ее недурно.
Том Хейген покачал головой:
– А вот твой крестный утверждает, что на сегодняшний день надежды получить премию у тебя нет.
Джонни Фонтейн вспылил:
– Да что ты мелешь, сообрази! Ленту еще не монтировали, ни для кого ни разу не прокручивали. Притом дон даже не связан с кинобизнесом. На черта ты тогда летел за три тысячи миль – неужели только мне пакости говорить? – Он чуть не плакал от злости и досады.
Хейген озабоченно сказал:
– Джонни, для меня ваша киношная кухня – темный лес. Не забывай, я – вестовой дона, больше ничего. Но твое положение мы с ним обсуждали со всех сторон и много раз. Дон тревожится за тебя, за твое будущее. Считает, что тебе пока еще не обойтись без его помощи, и хочет решить твои проблемы раз и навсегда. Вот за этим я здесь – начать, наладить, чтобы дальше у тебя само пошло. Только пора тебе повзрослеть, Джонни, хватит смотреть на себя как на певца или актера. Пора наращивать мускулы, ворочать крупными делами.
Джонни Фонтейн рассмеялся и налил себе виски.
– Если мне не дадут «Оскара», то мускулы у меня будут примерно той же силы, как у моих дочек. Голос я потерял – если б вернулся голос, тогда бы еще можно было что-то предпринять, а так… Проклятье! Ну откуда крестному известно, что мне не достанется «Оскар»? Хотя – известно, должно быть. Он еще никогда не ошибался.
Хейген закурил тонкую сигару.
– У нас есть сведения, что Джек Вольц не выделит ни гроша из фондов киностудии на то, чтобы поддержать твою кандидатуру. Мало того, он дал понять всем, кто участвует в голосовании, что не жаждет видеть тебя в числе награжденных. А поскольку средства на рекламу и прочее он зажал, ты, вполне вероятно, останешься в тени. В то же время он старается всеми способами обеспечить как можно больше голосов одному из твоих соперников. Подкупает нужных людей напропалую, одних выгодным местом, других чистоганом, третьих девочками – все пустил в ход. И при этом действует так, чтобы по мере возможности не повредить своей картине.
Джонни Фонтейн поднял плечи. Он вновь налил себе виски и опрокинул стакан.
– Тогда мне крышка.
Хейген наблюдал за ним, с неудовольствием поджав губы.
– От спиртного голос лучше не станет.
– Слушай, катился бы ты к такой-то матери, – сказал Джонни.
Лицо Хейгена моментально утратило всякое выражение, кроме холодной учтивости.
– Хорошо, буду держаться в сугубо деловых рамках.
Джонни опустил стакан, подошел к Хейгену, стал перед ним.
– Извини, что я так сказал, Том. Прости меня, Христа ради. Это я зло срываю на тебе, что не могу удавить эту суку Джека Вольца, что крестному боюсь слово поперек сказать. И вот отыгрываюсь на тебе. – У него слезы навернулись на глаза. Он запустил пустым стаканом из-под виски в стенку, но такой немощной рукой, что тяжелый, переливчатого стекла стакан даже не разбился, а откатился по полу назад, и Джонни тупо воззрился на него в бессильной ярости. Перевел дух, засмеялся. – Фу-ты, господи помилуй.
Он прошелся по комнате и сел напротив Хейгена.
– Знаешь, мне очень долго судьба преподносила одни удачи. Потом я развелся с Джинни, и с тех пор все пошло вкривь и вкось. Сначала я потерял голос. Упал спрос на мои пластинки. Не стало больше приглашений сниматься в кино. И в довершение всего от меня отвернулся мой крестный, звоню – не подходит к телефону, прилетаю в Нью-Йорк – не принимает. Всякий раз на моем пути к нему вставал ты, и я злился на тебя, хотя и знал, что ты действуешь по его указанию. На него самого не очень-то позлишься. Это все равно что иметь зуб на господа бога. Вот я и послал тебя. Хотя ты был абсолютно прав. И в доказательство, что это не пустые слова, я последую твоему совету. До тех пор, покуда не вернется голос, больше не пью. Ну, как?
Извинение звучало искренне. В эту минуту Хейген забыл о своей неприязни к нему. Видимо, все же что-то есть в этом тридцатипятилетнем мальчике, иначе дон так не любил бы его.
– Да ладно, Джонни, забудь. – Его тяготила откровенность этого излияния, тяготило и подозрение, что оно, может статься, вызвано страхом – страхом, как бы против него не настроили дона. Другое дело, что дона, разумеется, настроить так или иначе невозможно по определению. Любые перемены в его пристрастиях исходят лишь от него самого. – Зря ты отчаиваешься раньше времени, – продолжал он. – Дон говорит, что козни Вольца он сумеет нейтрализовать. И премию ты почти наверняка получишь. Но он считает, что для тебя это еще не решение проблемы. Он хочет знать, хватит ли тебе ума и духу самому стать продюсером – взять производство картин, от начала и до конца, в свои руки.
– Как это он, интересно, надеется добыть для меня «Оскара»? – недоверчиво спросил Джонни.
Хейген резко отозвался:
– Отчего ты с такой легкостью готов поверить, что Вольцу это под силу обстряпать, а твоему крестному – нет? Так вот, раз уж нам с тобой так или иначе предстоит решать вопросы, а для этого необходимо твое доверие, – я тебя просвещу. Только держи это при себе. Видишь ли, твой крестный – неизмеримо более могущественный человек, чем Джек Вольц. Причем могущественный – в неизмеримо более существенных областях. Ты хочешь знать, каким образом он может повлиять на присуждение премии? У него – или, точнее, у тех, кто от него зависит, – находятся в подчинении все профсоюзы кинопромышленности и, стало быть, все – или почти все те, кто присуждает премии. Естественно, ты должен и сам по себе чего-то стоить, сам должен заслужить право оспаривать у других награду. Кроме того, твой крестный умнее Джека Вольца. Он не станет ходить по этим людям и требовать, угрожая пистолетом, – либо вы голосуете за Джонни Фонтейна, либо прощаетесь с работой. Не станет прибегать к силовым мерам там, где силовые меры не действуют или излишне накаляют обстановку. У него эти люди проголосуют за тебя, потому что им так хочется. Иной вопрос, что им не захочется, если дон не проявит определенного интереса. В общем, поверь мне на слово, ему по силам устроить тебе премию. И без него тебе ее не видать.
– Допустим, я поверю, – сказал Джонни. – Допустим также, что мне хватит и ума, и духу, чтобы стать продюсером, – все равно у меня на это нет денег. Ни один банк не возьмется меня финансировать. На то, чтобы сделать фильм, нужны миллионы.
Хейген сухо сказал:
– Когда получишь своего «Оскара», приступай – с таким расчетом, чтобы выпустить для начала три картины. Нанимай самых лучших, кто есть в вашей профессии, – лучших операторов, и так далее, лучших актеров, словом, всех сверху донизу. С тем чтоб тебе запустить в производство от трех до пяти картин.
– Ты в уме? – сказал Джонни. – На это знаешь сколько надо? Миллионов двадцать…
– Когда потребуются деньги, – сказал Хейген, – свяжись со мной. Я назову тебе банк здесь, в Калифорнии, куда надо обратиться за средствами. Не беспокойся, банки сплошь да рядом финансируют кинопроизводство. Общепринятым порядком попросишь предоставить тебе ссуду, подведешь обоснование – короче, вступишь в обычные деловые переговоры. Ответ будет положительный. Только сначала повидаешься со мной, покажешь мне все расчеты, изложишь свои наметки. Ну как?
Джонни долго молчал. Наконец спросил негромко:
– Хорошо, а условия?
Хейген улыбнулся:
– В смысле, понадобятся ли от тебя какие-нибудь услуги взамен двадцати миллионов ссуды? Еще бы. – Он подождал, но Джонни не отозвался на это. – Хоть, впрочем, не обременительнее тех услуг, какие ты и так оказал бы дону, если бы он тебя попросил.
Джонни сказал:
– Но понимаешь, если услуга нешуточная, то попросить о ней должен сам дон, лично. То есть указаний от тебя или от Санни будет недостаточно.
Подобного здравомыслия Хейген от него не ожидал. Оказывается, у Фонтейна есть все же голова на плечах. Соображает, что дон, при его осмотрительности и его любви к крестнику, никогда не потребует от него неразумно рискованных поступков, а Санни – может. Он сказал:
– На этот счет могу тебя успокоить. У нас с Санни есть от дона строгий приказ не впутывать тебя в дела, которые могли бы повредить твоей репутации в случае огласки. Сам он тем более никогда себе этого не позволит. Речь идет об услугах такого рода, что, ручаюсь, он тебя даже попросить не успеет – ты же первый вызовешься, добровольно. Ну как, устраивает?
Джонни улыбнулся:
– Устраивает.
Хейген сказал:
– И еще вот что – он в тебя верит. Считает, что ты толковый мужик, и банк, вероятней всего, на тебе неплохо заработает, а значит, неплохо заработает и он. Так что у него тут есть свой расчет, и ты не забывай об этом. Деньгами не сори напрасно. Пускай ты у него любимый крестник, но двадцать миллионов – это сумма. Дону придется высунуть голову наружу, чтобы тебе ее добыть.
– Он может быть покоен, – сказал Джонни. – Если фрукт вроде Джека Вольца ходит в титанах мирового кино, то уж как-нибудь и мы не оплошаем.
– Вот и крестный твой так рассуждает, – сказал Хейген. – А теперь ты не распорядишься, чтобы меня отвезли в аэропорт? Все, что надо было сказать, сказано. Когда придет время составлять контракты, найми себе адвокатов, я в этом участия принимать не буду. Только, если не возражаешь, – до того, как подписывать, все покажи мне. Кстати, имей в виду, никаких трений с профсоюзами ты знать не будешь. В известной мере это сократит расходы на каждую картину, так что, когда бухгалтер заложит такую статью тебе в смету, ты эту цифру не учитывай.
Джонни осторожно спросил:
– А на другое мне обязательно получать от тебя «добро» – ну, там, сценарий, кого из звезд брать на главные роли и прочее?
Хейген покачал головой:
– Нет. То есть не исключаю, что у дона когда-то и возникнут возражения, но в таких случаях он будет излагать их непосредственно тебе. Правда, не представляю себе, какой может быть повод. Кино его не трогает ни в малейшей степени, так что ему это должно быть все равно. К тому же вмешиваться – не в его правилах, это я тебе заявляю по опыту.
– Понял… – сказал Джонни. – А в аэропорт я тебя подкину сам. И передай от меня спасибо крестному. Я позвонил бы поблагодарить, но ведь он не подходит к телефону. Отчего это, между прочим?
Хейген пожал плечами.
– Он почти не пользуется телефоном. Не хочет, чтобы его голос записали на пленку – пусть даже самый невинный разговор. Могут потом так подогнать слова, что будет звучать совсем другое. Думаю, в этом дело. Во всяком случае, единственное, чего он постоянно опасается, – это как бы власти рано или поздно не состряпали против него улик. Вот и старается не искушать судьбу.
Они сели в машину, и Джонни повел ее в аэропорт. Хейген сидел и думал, что до сих пор недооценивал Фонтейна, а малый оказался стоящий. Усваивает науку на лету – взять хотя бы то, что сам везет его к самолету. Внимание к человеку – не зря дон всегда придает этому такое значение. И – его извинение. Оно шло от чистого сердца. Он слишком давно знал Джонни – нет, извиняться из страха он бы не стал. Джонни был человек с характером. Отсюда и вечные его неприятности, то с кинозаправилами, то с женским полом. Он был как раз из тех немногих, кто не боялся дона. Он да еще Майкл – других, о ком это можно сказать, Хейген, пожалуй, не знал. Словом, извинение было искренним, так к нему и следует относиться. Им с Джонни предстоит достаточно тесно общаться в ближайшие годы. А Джонни предстоит выдержать еще один экзамен – на догадливость. Ему нужно будет оказать дону услугу, но какую – дон никогда не намекнет, не заикнется о ней как об одном из условий сегодняшнего соглашения. Любопытно, хватит ли у Джонни Фонтейна сметливости додуматься без подсказки, в чем состоит это условие.
Высадив Хейгена у входа в аэропорт (от предложения побыть с ним, пока не объявят посадку, Хейген наотрез отказался), Джонни повернул снова к дому Джинни. Она удивилась, что он вернулся. Но Джонни хотелось некоторое время побыть у нее, обдумать положение вещей, наметить для себя план действий. Он понимал: то, что сообщил ему Хейген, невероятно важно и кардинальным образом меняет все в его судьбе. Он пережил дни громкой славы – сегодня, в тридцать пять лет, то есть в молодые еще годы, эти дни для него миновали. Он не обманывался на сей счет. Допустим даже, ему присудят «Оскара» как лучшему актеру – ну и что? Да ни черта, если только к нему не вернется голос. Второразрядная фигура, ни веса, ни влияния. Взять то хотя бы, как отвергла его вчера эта девчонка – да, очень мило и тонко и вроде бы по-хорошему, – но разве держалась бы она с такой небрежной уверенностью, будь он действительно на самом верху? Теперь же, с финансовой поддержкой, которую предлагает дон, что помешает ему сделаться первой из величин Голливуда? Хоть королем. Джонни весело прищурился. А что? Хотя бы и доном!..
Недурно было бы первое время пожить опять у Джинни – недельки две-три, может, и дольше. Каждый день водить девочек гулять, позвать в гости кой-кого из друзей. Всерьез заняться собой – не притрагиваться к спиртному, не курить. Тогда, может быть, и голос опять окрепнет. С голосом да с такими-то деньгами от дона Корлеоне он будет несокрушим. И впрямь как какой-нибудь император или король былых времен, с поправкой на современную Америку. И уж это могущество не будет зависеть от того, насколько надежны его голосовые связки и симпатии его публики. Деньги и власть – власть особого рода, самая вожделенная, – вот на чем будет зиждиться его мощь.
Тем временем привели в порядок комнату для гостей. Это, с обоюдного молчаливого согласия, означало, что даже под одной крышей они с Джинни будут жить врозь. Возврата к прежним, супружеским отношениям быть не могло. И пусть в окружающем мире и журналисты, авторы светской хроники, и кинофанатики сходились во мнении, что этот брак потерпел неудачу исключительно по его вине, сами-то они оба втайне знали, что еще больше виновата в их разводе она.
Когда Джонни Фонтейн достиг неслыханной популярности как певец, а снявшись в нескольких мюзиклах, – и как киноактер, ему и в голову не приходило бросать жену и детей. Он был для этого слишком итальянец, слишком еще привержен старым традициям, усвоенным с детства. Естественно, он изменял жене. При такой профессии, да когда на каждом шагу искушения, этого не избежать. К тому же, несмотря на свой внешний вид, он, сухощавый, тонкий в кости, хранил в себе стойкий заряд эротической энергии, столь часто свойственный южным мужчинам субтильного телосложения. Особенно пленяло его в женщинах непредсказуемое. Когда выводишь на люди тихую скромницу с невинным взглядом, а после, наедине, спустив бретельку с ее плеча, освобождаешь неожиданно полную грудь, всю налитую греховной тяжестью в бесстыдном несоответствии с непорочным личиком. Или когда вдруг открываешь застенчивую недотрогу в разухабистой девахе, которая, как изворотливый баскетболист, прибегает к обманным приемам, изображая из себя женщину-вамп, переспавшую с сотней мужчин, а после, наедине, часами отбивается, пока допустит до себя, и тогда обнаруживается, что она-то как раз невинна.
В мужском кругу Голливуда потешались над его пристрастием к невинным девушкам. Называли староитальянским пережитком, отсталостью – вдумайся, сколько на нее времени угрохаешь, какая морока, а в постели, как выясняется, ей чаше всего грош цена. Но Джонни знал, тут все решает подход. Надо уметь так подойти к нетронутой девочке, чтобы этот первый ее раз был ей в радость, и тогда – что может сравниться с нею? М-м, что за удовольствие объезжать их, необъезженных! Что за удовольствие, когда тебя оплетают их ноги. Эти бедра, такие разные, у каждой – другие, эти непохожие попки, кожа разнообразных оттенков молока, или шоколада, или бронзы, а та черная девчушка, с которой он согрешил в Детройте, – порядочная девочка, не шлюха, дочка джазового певца из ночного клуба, где они выступали в одной программе, – что это была за прелесть! Губы – и впрямь словно теплый, чуть терпкий мед, кожа – темно-коричневый атлас, лучшего воплощения женственности господь не создавал – и она была девственницей.
В мужском кругу постоянно обсуждались те или иные способы, преимущества различных позиций – он, откровенно говоря, особенно не увлекался этими выкрутасами. Если и пробовал их, то сразу охладевал к женщине, просто не получал настоящего удовлетворения. Он и со своей второй женой в конечном счете оттого не смог ужиться, что она чересчур пристрастилась к позиции валетом и не признавала никакой иной, отсюда и вечные скандалы, когда он пытался жить с ней обычным способом. Она взяла себе моду высмеивать его, называть жалким примитивом, пошел слушок, что в своих представлениях о любви он так и не вышел из подросткового возраста. Не потому ли, кстати, и вчерашняя девица его отвергла? Да ладно, пес с ней, с девицей, невелика потеря, судя по всему. Настоящую охотницу покувыркаться в постели распознаешь сразу, они-то и есть самый смак. Особенно если занимаются этим не слишком давно. Он терпеть не мог таких, которые начинают лет с двенадцати и к двадцати годам уже дочиста изнашиваются, только делают вид, что им приятно, причем как раз среди них попадаются самые хорошенькие, каким ничего не стоит тебя одурачить.
Джинни принесла кофе и печенье, поставила на длинный стол в той половине комнаты, которая служила гостиной. Ей он сказал только, не вдаваясь в подробности, что Хейген помогает ему получить ссуду на производство нескольких картин, и эта новость привела ее в волнение. Он снова станет большим человеком! Она не подозревала, как всемогущ на самом деле дон Корлеоне, и не могла оценить исключительность такого события, как приезд Хейгена из Нью-Йорка. Джонни прибавил, что Хейген, кроме того, дал ему ряд советов по юридической части.
После кофе он объявил ей, что будет весь вечер работать – звонить нужным людям, составлять план действий.
– Половина всего, что заработаю на этом, пойдет детям, – сказал он.
Джинни благодарно улыбнулась в ответ и, уходя, поцеловала его.
На письменном столе его дожидались в стеклянной шкатулке любимые сигареты с монограммой, портсигар с увлажнителем, полный черных, тонких, как карандаш, кубинских сигар. Джонни удобней устроился на стуле и взялся за телефон. Мысли роились, вихрились у него в голове. Первым делом он позвонил писателю, автору нашумевшего романа, который лег в основу только что отснятого фильма. Писатель был одних с ним лет – он прошел тернистый путь, покуда добился известности, но теперь его имя гремело в литературных кругах. Он ехал в Голливуд, рассчитывая, что его там встретят как важную персону, но натолкнулся, подобно большинству авторов, лишь на самое хамское пренебрежение. Однажды на банкете, устроенном в шикарном клубе, Джонни привелось стать свидетелем его унижения. Развлекать писателя в тот вечер – а подразумевалось, что и в ту ночь, – согласилась достаточно известная пышногрудая кинокрасотка. Однако уже за столом красотка покинула знаменитого писателя, потому что ее поманил к себе пальцем тщедушный хлюпик, подвизавшийся на комических ролях. Таким образом писатель получил ясное представление о том, кто есть кто в голливудской табели о рангах. Что за важность, если он написал книгу, которой прославился на весь мир. Кинокрасотка, не раздумывая, предпочтет ему самого невзрачного, плюгавого заморыша, который имеет связи в мире кино…
Этому-то писателю и позвонил в Нью-Йорк Джонни Фонтейн – якобы затем, чтобы поблагодарить за прекрасную роль, написанную, можно сказать, будто специально для него. Джонни безбожно льстил, разливался соловьем. Потом, словно бы невзначай, спросил, как подвигается новый роман писателя и о чем он. Пока автор расписывал ему подробности самой захватывающей главы, он закурил сигару и, улучив удобную минуту, вставил:
– Да, любопытно было бы почитать, когда закончите. Может, прислали бы экземплярчик? Если мне подойдет, то возьму на более выгодных для вас условиях, чем те, которые предложил Вольц.
По тому, с какой готовностью писатель согласился, Джонни понял, что угадал. Джек Вольц облапошил этого человека, заплатил за книгу гроши. Он прибавил, что сразу после праздников предполагает быть в Нью-Йорке, и пригласил писателя пообедать вместе в приятной компании.
– У меня есть симпатичные подружки в вашем городе, – заключил он весело.
Писатель рассмеялся и сказал, что согласен.
Потом Джонни Фонтейн позвонил режиссеру-постановщику и оператору только что отснятого фильма, поблагодарил за помощь во время работы над картиной. Обоим, попросив не передавать дальше, сказал одно и то же – он знает, что Вольц был против его участия в картине, и потому вдвойне спасибо им за содействие и хорошее отношение. Отныне он их должник – если что, пусть обращаются к нему в любое время.
Затем последовал самый тягостный звонок – Джеку Вольцу. Джонни поблагодарил его за возможность сняться в прекрасной роли, он был бы счастлив поработать у него еще. Сказал он это лишь затем, чтобы привести Вольца в замешательство. До сих пор он никогда не ловчил, не кривил душой. Через несколько дней Вольц дознается о предпринятых им шагах и будет, после такого звонка, ошарашен его вероломством – чего как раз и добивался Джонни Фонтейн.
Он посидел за письменным столом, праздно попыхивая сигарой. На столике поодаль стояла бутылка виски, но он ведь как будто дал слово и себе, и Хейгену больше не пить. Строго говоря, даже курить бы не следовало. Наивность, конечно: то, что стряслось с его голосом, вероятней всего, не поправишь воздержанием от курева и спиртного. Или если поправишь, то ненамного – но, черт возьми, раз впереди забрезжила надежда, ему грешно упускать хоть бы и мизерный шанс!
Теперь, когда дом погрузился в тишину – когда уснула его бывшая жена, уснули ненаглядные дочери, – Джонни позволил себе оглянуться назад, на ту жуткую пору его жизни, когда он их покинул. Бросил их ради дрянной блудливой шлюхи, какою оказалась его вторая жена. Но даже сейчас он при мысли о ней не мог удержаться от улыбки: все равно она во многом была совершенно сногсшибательна, а главное, единственным для него спасением явился тот день, когда он вообще навеки зарекся ненавидеть любую женщину – когда решил, что не может позволить себе вынашивать ненависть к своей первой жене и к дочерям, ко второй жене и всем последующим своим подругам, вплоть до вот этой самой Шарон Мур, которая так лихо оставила его с носом ради возможности похваляться перед целым светом, что отказала не кому-нибудь, а самому Джонни Фонтейну.