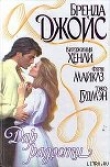Текст книги "Дата моей смерти"
Автор книги: Марина Юденич
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Получалось так, что иного выхода, кроме как немедленно выйти в чат и выяснить, кто и зачем меня там поджидает, у меня просто не было.
Палец мой лишь слегка шевельнулся на кнопке «мышки», но этого было достаточно.
Панель предупредительно подсказала, что в чате всего одни посетитель и, даже указала его имя.
Разумеется, его звали Гор.
«Введите ваше имя» – вежливо попросила она меня, и я послушно вписала в пустое окошко свое настоящее имя.
« Введите ваш псевдоним» – продолжал пытать меня виртуальный распорядитель, но я решила, что с него хватит и имени. Тем более, что в отличие от того, другого посетителя, я назвала свое.
Теперь, когда формальности были завершены, я раздумывала, как начать беседу, но умная система и его уведомила о моем появлении.
И он не стал ждать.
– Привет! Почему так долго? Боялась?
– Чего?
– Не чего, а – кого. Впрочем, кто его знает, как теперь правильно?
Меня.
– А вы, простите, кто?
– Прощаю. Я – Гор. И знаешь, давай сразу, чтобы не тратить время на долгие препирательства, определимся.
– В чем же?
– Что я – это я.
– И каким образом мы это сделаем?
– Элементарно. Задай мне пару – тройку вопросов, ну таких…
Позаковыристей. Чтобы никто, кроме меня не мог знать на них ответа. И все.
Если я отвечу, значит, ты прекращаешь свои фрустрации, и мы говорим дальше.
Если – нет. Тебе надо только кликнуть" мышью". Хотя с твоим темпераментом ты скорее разобьешь компьютер..
Фрустрации – было одно из любимых словечек Егора.
Он употреблял его не всегда к месту, но никогда не желал этого признать.
И вообще, все, что успел сказать, а вернее написать мне тот, кто называл себя Гором, было очень похоже на него.
На Егора.
Это были его обороты речи, его стиль, его манера.
Я вдруг обнаружила, что помню все, до малейших оттенков его речи. Жаль, что компьютер на мог воспроизвести интонаций.
Но сдаваться так легко я не собиралась. Хотя руки мои, бегающие по клавиатуре, дрожали и гулко билось сердце в похолодевшей груди . Однако, это была совсем иная дрожь и иной сердечный трепет, чем те, что охватили меня несколько минут назад.
Теперь трепетала я не от ужаса.
Страх вообще почти покинул мою душу, переливаясь только слабой рябью волнения на ее поверхности.
А то, что творилось со мной теперь, едва глаза мои пробежали первые слова, обращенные ко мне из виртуальной бесконечности, было состоянием, которое я, как выяснилось, так и не удосужилась забыть. Оно охватывало меня всякий раз, когда рядом со мной появлялся Егор, или хотя бы его голос, или даже его мысли, поведанные оператору пейджинговой компании. Это длилось все семь лет и острота чувств, с годами, ни сколько не шла на убыль.
Потом все ушло разом – ведь он более не появлялся подле меня.
И вот теперь…
Однако, я снова резко одернула себя.
Что ж, кто-то подражает ему, очень похоже, а ты и поверила, чукча?
Чукчей называл меня Егор. Но, тот, который теперь хотел занять его место про это, оказывается, ведал тоже – Ну что молчишь, чукча? Злобствуешь? Или трусишь? – «злобсвуешь» – снова его словечко. Молчать, и вправду, больше нельзя:
– А с чего ты взял, если даже это ты, что я захочу с тобой говорить? – теперь замолчал он. Надолго. Я даже испуганно вскидываю глаза на панель – не сбежал ли с этого виртуального свидания мой странный собеседник. Нет, на месте. И вот – ожил. По экрану монитора поползли мелкие буквы.
– Да. Ты права. Об этом я как-то не подумал. Хотя, нет. Вру. Думал, конечно. Но думал, что ты… простишь. По крайней мере, теперь… Нет? Ну, не молчи только. Скажи, нет? – долгая – долгая пауза. Я снова проверяю: здесь ли он, а он в эти минуты шепчет мне еле слышно. То есть, конечно, пишет, привычно находя буквы на клавиатуре, но мне отчетливо слышится шепот – Я тебя безумно люблю – Я тебя – тоже – одному Богу известно, как вырываются у меня эти слова. Кому я адресую их? Как можно, так безоглядно верить? Испуганной птицей бьется запоздалый страх. Ведь была уже, была, молчащая трубка, и мои глупые призывы… Но поздно – пальцы бегут по клавишам и вслед за ними бегут по синему полю белые буквы. И слезы бегут по щекам.
– Ты плачешь?
– Плачу – Знаешь, я тоже сейчас часто плачу. Все эти погода. Плакал.
– Ты? Не верю – Правда. Я очень сильно изменился, ты даже представить себе не можешь, как – А где ты сейчас?
– Не знаю, вернее это очень трудно объяснить. Я вообще не очень понимаю, что происходит со мной, вернее с тем, что осталось от меня. А ты – дома. Значит, я рассчитал правильно: на похороны ты не пошла.
– Сердишься?
– Нет. Зачем тебе туда? Там ведь – ничего. Понимаешь?
– Да.
– Оболочка. Тело. А я – вот непонятно где, но вроде и рядом с вами.
Знаешь, когда я осознал это свое новое состояние и понял, что могу как-то управлять собой, я первым делом пришел к тебе. Ты гуляла по бульварам в своем голубом пальто, том, которое мы купили в Париже. И вид у тебя был такой потерянный, словно ты забыла дорогу домой.
– А ты ее нашел…
– Да, я захотел посмотреть, как ты живешь. Откуда ты знаешь, чукча? Ты что, почувствовала что-то? Ну, говори быстро, о чем думаешь?
– О Париже – Вот мило! Я ей душу выворачиваю, а…
– А на кровати моей ты зачем валялся?
– Слушай, ты не можешь этого знать. Я же не оставляю следов. Теперь я такой, бесследный….
– Бестелесный – Ну, пусть так. Тогда откуда ты знаешь про кровать?
– Я и про подушку знаю – Ты – ведьма? Я знаю, ты решила наказать меня, и продала душу дьяволу, как доктор Фауст.
– Доктор Фауст хотел любви, а не наказания. И не поминай дьявола, тем более теперь…
– Да, теперь… Ты думаешь, это все существует?
– Что – это?
– Ну, ад, рай… Геенна огненная…
– Господи, да откуда же мне знать, это ведь ты… там – Нет, я пока еще здесь и мне… страшно. Правда, страшно…
– Не думай об этом – Пытаюсь. Но все-таки, откуда ты знаешь про подушку? Я обнял ее, она тобой пахла, слышишь ты, чукча?
– Слышу. Мне сон приснился. Что ты спишь на моей подушке. – я почему-то решаю солгать, но он верит сразу и успокаивается – Понятно. А я снам не верил никогда. Да и много, чему не верил…
– Гор?
– Да?
– Почему ты бросил меня?
– Это долго объяснить… И трудно. Особенно теперь. Но я даю тебе слово, мое слово, надеюсь, ты еще помнишь, что это такое?
– Помню.
– Ну, так вот. Я соберусь с силами, и попробую все объяснить тебе. Мне самому очень нужно, чтобы ты поняла. Только не сейчас. Сейчас мне пора, и я уйду. Но еще не насовсем, это я точно знаю.
– Ты вернешься?
– Да. Скоро. Возможно, завтра. Я дам тебе знать, только жди, пожалуйста, жди меня. Обещаешь?
– Да.
– Опять ревешь?
– Да – Не реви. Сказал же – вернусь. И вот еще что, завтра сходи, пожалуйста, на кладбище. Только не с утра. С утра потащится вся эта камарилья похмеляться после поминок. А ты с утра сходи лучше в церковь, только не туда, не к Николе, они там сегодня устроили такой шабаш – только храм опоганили, басурмане. Там у тебя возле дома есть церквушка, не помню, как называется, где-то прямо под окнами в переулке. Вот туда и сходи, и поставь свечу, как полагается за новопреставленного раба Божьего Егора, и поминание закажи. Знаешь, записочки такие пишут, я много раз видел. А на кладбище иди ближе к вечеру. Сделаешь?
– Зачем? На кладбище – зачем?
– Не знаю. Просто, чувствую, что так надо. Ты не удивляйся, я может, буду говорить странные вещи, и просьбы у меня могут быть странные, просто я сам много еще не понял, из того, что со мной происходит. Но вот одно я понял сразу. Сразу же, как очнулся в этом состоянии. Знаешь, что?
– Что?
– Что мне ничего не нужно больше в этом мире, и в том, в котором я оказался, и никто не нужен. Кроме тебя… Без тебя, я не смогу. Понимаешь?
Только не говори: ведь мог же!
– Ведь мог же! Целых полгода…
– Не мог. Но не надо, пожалуйста, не надо сейчас. Я же обещал тебе: соберусь с силами и попытаюсь объяснить. А сейчас – все.. Мне больше нельзя тут… Все. Ушел Он и вправду ушел, это немедленно подтвердила мне вежливая панель информации.
И это было тоже очень по – Егоровски, на бегу бросать – ушел! Словно это и так не было очевидно.
Раньше я злилась. Просто потому, что не любила, когда он уходил, теперь-то можно было в этом признаться.
Он ушел, а я так и не задала ему ни одного вопроса, чтобы убедиться, что это действительно Егор, хотя он и предлагал сделать это. Но об этом я беспокоилась менее всего. Сомнений в том, что это был он, в душе моей не осталось.
Почему?
Отчего так доверчива оказалась однажды уже обманутая моя душа, ведомо только Господу Богу. Но разве не он позволили другой неприкаянной душе задержаться в этом мире и найти способ быть услышанной мною?
Я верила в это.
Я хотела верить, потому что эта вера несла мне огромное облегчение и наполняла сердце надеждой.
Думать я теперь могла только об одном.
Думать и ждать.
Впрочем, некогда, в той, прошлой жизни, это было привычным моим занятием.
Близилась ночь и ее наступление страшило меня, но одновременно я ждала ее с нетерпением, потому что надеялась, что эта ночь принесет мне новые открытия, и подарит новые возможности общения с Егором. Как это может произойти, я представляла смутно, однако во всех красивых и загадочных Мусиных фильмах и романах пришельцы из иного мира имели обыкновение посещать наш – преимущественно по ночам.
И я ждала.
Часов до трех, не смыкая глаз и не зажигая света, сидела я на своем диване, обратившись в слух и напряженно вглядываясь в темноту.
Однако тишину этой ночи нарушали только привычные городские шумы, доносящиеся из-за окна.
А в густом полумраке комнаты, мне так и не удалось разглядеть ничего, кроме размытых очертаний предметов, знакомых настолько, что я могла воспроизвести их в мельчайших деталях, не открывая глаз.
Глаза, в конце концов, первые взбунтовались против такой нещадной эксплуатации и отозвались острой резью, а свинцовые веки, закрывались сами собой, не подчиняясь командам мозга.
Через некоторое время сдалось и мое сознание.
Не раздеваясь и не перебравшись на кровать, я уснула крепким глубоким сном.
Но даже сновидение, хоть как-то приоткрывающее завесу тайны, нежданно – негаданно пронзившей мою жизнь, не было ниспослано мне.
Это было первой моей мыслью утром, и лежа некоторое время без движения, чтобы не спугнуть зыбкое состояние первых минут пробуждения, я натужно пыталась вспомнить: снилось ли мне что – ни – будь нынче ночью?
Нет! Ночная память моя была чиста как первый листок в тетрадке первоклассника, даже простейших фраз или отдельных нескладных слогов не начертано было на ней.
Что ж, ночь разочаровала меня, не подарив продолжения чудес.
Но начинался день.
И я с удивлением обнаружила, что это первый день за все истекшие полгода, когда мне необходимо сделать нечто определенное в строго определенное время.
Иными словами, у меня появились некие обязанности, а вернее обязательства, но – Боже правый! – какими же странными, если не сказать больше, они были!
Храм, о котором говорил Егор, действительно находился в одном из переулков, узкими протоками убегающих в разные стороны от зеленого русла бульвара, отороченного стальной каемкой трамвайных рельсов. Выходило так, что окна моей квартиры практически смотрели на его довольно скромный купол, и колокольный звон проникал в мой дом всякий раз, когда в храме звонили колокола.
Однако, в этой церкви я была всего несколько раз в жизни, да и то, очень давно, до встречи с Егором. Потом, следуя, как и во всем его воле и его примеру, я стала почти что прихожанкой храма Николы в Хамовниках, того самого, который теперь, по словам Егора, опоганили шабашем его отпевания.
Хотя мне трудно понять, что такое должны были сотворить организаторы похорон, чтобы превратить церковный обряд в шабаш? Но Егору виднее.
В этот храм я продолжала ездить и в другой, без Егора, своей жизни, потому что привыкла к нему и были у меня там свои, «намоленные» иконы, у которых теперь подолгу стояла я, и плакала, и молила о чуде.
Душа моя и сейчас рвалась туда, к этим иконам, потому что чудо, хотя совсем не так, как я представляла его себе, но все же произошло. Однако, прежде следовало выполнить волю Егора.
Одевшись поскромнее и, после некоторых колебаний, все же покрыв голову черным вдовьим платком, я вышла из дома.
Служба уже закончилась, и суровые пожилые женщины мыли пол подле алтаря, отгородив это пространство натянутой веревкой.
Однако, еще горели свечи и лампадки у икон, а на прилавке возле церковных дверей мне продали две свечи и объяснили, как надо составить записку, чтобы имя новопреставленного было помянуто во время службы..
Ступая на цыпочках, чтобы не вызвать на себя гнев суровых церковных старушек, которые отчего-то очень любят браниться и поучать бестолковых молодых прихожан в стенах храма, я поспешила добраться до амвона, чтобы поставить свечу за упокой неприкаянной души Егора. Вторую свечку я решила взять с собой на кладбище и там зажечь у могилы.
Мне повезло, и у амвона, когда я приблизилась в нему, не оказалось не души.
Множество свечей догорало на нем, теплым свечением разливаясь у подножья распятия.
Моя свеча вспыхнула, возвышаясь над ними, словно одинокая душа Егора, вырываясь из общего сонма людских душ, устремленных к Господу, воспарив надо всеми . Я попыталась произнести слова молитвы, и обратить к Господу просьбу об упокоении новопреставленного, но мысли мои были далеки от тех слов, что привычно выговаривали губы.
" Дальше.. Что будет дальше? Сейчас я поеду на кладбище, потом – домой.
А что потом? Он придет, как и первый раз, общаясь со мной из виртуального зазеркалья? Но когда? И придет ли? "
Было очень похоже, что для меня вновь начинается пытка, в жестоких тисках которой билась я все семь лет нашей жизни с Егором. Это была пытка ожиданием. Жизнь наша была устроена так, что я никогда не знала точно, когда он окажется подле меня, и окажется ли вовсе, а, оказавшись – как долго задержится.
" Живи по своему графику. Будут точки, будем пересекаться. Куда я денусь-то? " – легко отметал он слабые мои попытки избежать истязания.
И вот теперь, откуда-то из своего небытия он снова умудрился ввергнуть меня в эту огненную лаву. Я уже чувствовала, как постепенно охватывает меня горячечный ток нетерпения, я уже смотрела на часы каждые пять минут, удивляясь тому, как нестерпимо медленно ползет время.
Однажды я все же осмелилась возразить Егору, и не его очередное предложение жить в своем режиме, заметила, что живу я в единственном режиме – и это режим ожидания.
Похоже, жизнь моя снова начинала подчиняться этому варварскому, унизительному и мучительному режиму.
Так размышляла я, глядя на золотое сияние свечей у подножья распятого Христа, и мысли эти вдруг показались мне греховными, по крайней мере, под сводами храма.
Я быстро повернулась, чтобы идти прочь, но дорогу мне преградила пожилая женщина в темном, почти до пят платье и темном, туго повязанном платке. Она была явно из тех суровых старушек, что сейчас заняты были уборкой храма, и я приготовилась терпеливо выслушать грозную проповедь, так как очевидно, чем-то помешала ей или нарушила какое – ни-будь правило.
Но женщина заговорила со мной иначе.
Тихий голос ее был ласков, а глаза, устремленные на меня выражали странную смесь умиления, мольбы и жалости.
" Нищенка? " – мелькнула в голове, первая догадка, но до сознания уже начал доходить смысл того, что говорила женщина, и глупое предположение было немедленно отметено.
– Милая! – говорила мне женщина, и в голосе ее было столько мольбы и нежности, что я невольно приблизилась к ней, чтобы расслышать каждое слово.
Говорила она очень тихо и быстро, словно боясь, что не успеет сказать что-то для нее, а быть может и для меня, очень важное – Светлая, страдалица моя. Об одном хочу молить тебя, хотя не смею обращаться к тебе грешными своими устами. Не оттолкни руку, молящую тебя, не отверни свой лик, выслушай, ведь ты милосердна и светла душою – Сумасшедшая! – с ужасом понимаю я, и еще понимаю, что отделаться от нее будет не так-то просто. Нужно сделать всего несколько шагов, чтобы спуститься со ступенек, ведущих к амвону, но женщина стоит у меня на пути, и обойти ее нет никакой возможности: с обеих сторон меня подпирают узкие перильца. Остается один выход: вступить с ней в беседу и, разговаривая, постепенно двигаться к выходу. Там можно будет просто сбежать, вряд ли она погонится за мною. – Простите, – как можно мягче и спокойнее говорю я. – Вы, наверное, с кем-то меня путаете… – Но, услышав мое возражение, она впадает в сильное волнение, и обеими руками хватает мои руки, сжимая их довольно сильно – Нет, горлица моя, нет мученица, разве ж могу я спутать тебя с кем! Ты это! Как увидела я тебя на пороге храма, так сразу и открылось мне – ты это.
Я и нынче ночью, и уж сколько ночей кряду, вижу тебя, и путь, тебе уготованный. Я и в храм ходила, молила Господа, чтобы указал он мне, где искать тебя, пока не вознеслась ты в Царствие Небесное. И видишь – Господь милосерд. Он привел тебя в храм, и явил мне, чтобы могла я через тебя передать свою просьбу, а тебе поведать свое горе – Вы говорите, что видели меня во сне?
– Тебя, милая, тебя страдалица – Но почему вы называете меня страдалицей?
– Да как же, деточка моя, ведь мне про тебя все открылось И всю жизнь твою, и твои страдания явил мне Господь.
– Какие же страдания?
– Ты не веришь мне, милая. Так вот послушай, что я скажу тебе про твою судьбу…
Следующие несколько минут ( а может часов? – который уже раз за последние дни я вдруг перестаю ощущать движение времени, и будто зависаю в бесконечности, потеряв все привычные ориентиры ) я слушаю эту странную женщину в монашеском платье и темном платке, полностью скрывающем волосы, так что не возможно точно определить ее возраст, потому что лицо у женщины неопределенное: не молодое, но и не старое, бледное, почти без морщин, но словно выцветшее, лишенное жизни, потому поначалу я приняла ее за старуху.
Глаза же у нее совсем не старческие, но очень странные: пугающие, но и притягивающие одновременно. Светлые до белизны, прозрачные глаза ее, неподвижно устремлены на меня, и постепенно мне начинает казаться, что взгляд их проникает все глубже в мое сознание, и нет для нее более тайн в моей душе.
Я уже далека от мысли считать ее сумасшедшей, потому что молитвенной совей скороговоркой, она пересказывает мне всю мою минувшую жизнь, и называет меня, перечисляя все нанесенные Егором обиды, страдалицей и мученицей.
Ей известно про мои грешные мысли добровольно покинуть это мир, но и за них она не осуждает меня, а жалеет, утверждая при этом, что и Господь давно простил мне этот грех.
Я слушаю ее как завороженная, не в силах отвести глаз от ее прозрачного взгляда, пронзающего меня насквозь, и вдруг понимаю, что эту женщину я уже видела однажды. Только тогда она была в другом одеянии, и не было на голове у нее этого черного вдовьего платка, а потому так запомнились мне ее волосы, струящиеся вдоль плеч. И глаза запомнились, их она не скрыла от меня и сейчас – прозрачные глаза святой или восставшей из могилы, неживые, страшные и прекрасные одновременно глаза.
Я отчетливо вижу теперь, что это та самая женщина, что была на рекламной фотографии, так напугавшей меня недавно.
Но теперь, несмотря на всю дикость происходящего, я отчего-то ее не боюсь, более того, мне безумно интересно знать, что собирается она поведать мне дальше, и уже я сама тороплю ее вопросом – Хорошо, хорошо я вам верю, вы видели меня во сне, и вам открылась вся моя жизнь, но о чем вы хотите просить меня, ведь вы же знаете, как я беспомощна и одинока сейчас?
– Нет, деточка, Господь не оставил тебя и уже воздает тебе за твои страдания. Разве не явилась тебе душа твоего возлюбленного, в раскаянии и любви?
– Да, но я совсем не уверена была, что все это – не мой бред – Что ты, милая! Не сомневаться ты сейчас должна, а радоваться и благодарить Господа за его небывалую милость. Ведь душа того, кто так жестоко обидел тебя не найдет упокоения, пока не получит твоего прощения и не воссоединиться с твоей душой. И обе души ваши, познавшие многие печали и горе, воссоединившись в Царствии Небесном, обретут вечный покой и вечное счастье. Разве не чудо творит для тебя Господь?
– Но ведь души наши могут воссоединиться только после моей смерти?
– Воистину так – Но ведь я еще жива, как же может это произойти?
– В том, деточка моя, и благодать Божья, и испытание, ниспосланное тебе Всевышним. Сказано им, что душа твоего возлюбленного не обретет покоя, и, бестелесная, обречена скитаться в этом мире, пока не получит она твоего прощения и не пожелаешь ты, чтобы души ваши воссоединились. Все отдает Господь в твои руки, деточка моя, все. И в том великая милость, но и великое испытание.
– Значит, если я прощу его, и буду желать покоя его душе, я должна буду умереть? Но это значит – добровольно уйти из жизни, а ведь это грех?
– Не спеши, милая, и не сомневайся в мудрости и доброте Господа нашего, разве позволит он тебе согрешить, выполняя его волю?
– Но – как же?
– Все узнаешь ты в свое время, все, что будет положено тебе знать. Но еще, бедная моя, безвинная страдалица, разве забыла ты, что сама желала себе смерти в один день с любимым своим? Разве не об этом говорила ты ему, и разве не радостен был тебе такой конец?
– Да, но ведь это было еще тогда, когда он был со мной. И потом, сейчас его ведь уже нет, значит, все равно не получится – в один день – За то, что отступился от тебя, наказан он с лихвой, в том можешь не сомневаться, более всего самим собой наказан, тоской по тебе и раскаянием. А про то, что его уже нет, ты милая, ни думать, ни говорить не должна, ибо мысли эти греховны. Разве телесная оболочка есть сущность человеческая, а не бессмертная душа его? Думай, деточка моя, думай. Господь дает тебе великое небывалое право, но взамен возлагает на тебя бремя решения.
Женщина вдруг обрывает странную речь, как будто не говорит она, а читает по писаному, причем что-то из церковных книг, как читают во время службы, монотонно и плавной скороговоркой, и торопливо отступив от меня.
Потом поворачивается, и быстро семенит к выходу.
Только теперь я замечаю, что в храме давно ни души, погашены свечи и крохотные огоньки лампад, и лишь в высокие окна проникает с улицы бледный свет хмурого дня.
И от того в храме мрачно.
Темными провалами на светлых стенах зияют едва различимые иконы.
Лики святых, изображенные на них погружены во мрак, и только кое-где, жутко белеют из темноты, словно пытаясь разглядеть кого-то, притаившегося в тени колон, огромные пустые глазницы.
– Подождите, вы же хотели о чем-то просить меня? – запоздало окликаю я странную женщину, однако темный силуэт ее уже растворился в полумраке храма.
И я понимаю, что осталась в полном одиночестве.
Мне становиться страшно, но мысленно я пытаюсь успокоить себя тем, что нахожусь в святых стенах, и, значит, ничего дурного не может со мной случиться.
Однако кто же тогда была эта странная женщина, и могут ли быть правдой ее дикие слова?
Но она подошла ко мне именно здесь, под сенью Божьего храма….
И откуда на самом деле ей так много известно не то, что о моей жизни, но и о моих мыслях?
Вопросы, на которые нет ответа пугают меня еще больше, чем одиночество в сумеречном храме, и я спешу прочь, только сейчас замечая, размякшую, изогнувшуюся дугой свечу, которую все это время сжимала в руке.
На кладбище я добираюсь на такси, которое останавливается, едва только выбравшись из переулка на бульвар, я приближаюсь к кромке тротуара, и просительно поднимаю руку.
Услышав адрес, и бегло окинув взглядом мой черный платок и церковную свечу, все еще зажатую в руке, водитель смотрит на меня с сочувствием, и согласно кивает головой.
Он довольно быстро доставляет меня к воротам знаменитого кладбища, за стеной которого нашли последний приют многие просто известные, и знаменитые, и героические, и великие.
Однако, настали времена, когда и кладбищенское соседство оказалось в цене, и теперь место под сенью ваганьковских деревьев можно было купить за большие деньги, навечно обеспечив усопшему другу или родственнику самое достойное окружение.
Я медленно бреду по кладбищенской аллее, оглядываясь, в поисках свежей могилы, но мысли мои все еще там, в полумраке опустевшего храма, а перед глазами стоят, будто паря в холодном и слегка подернутом туманной дымкой воздухе, прозрачные глаза, устремленные куда-то внутрь моего сознания.
Я даже не купила цветов, ярким изобилием полыхавших на лотках у кладбищенских ворот, потому что не вполне отдаю себе отчет в том, что иду теперь к могиле Егора.
И что бы там не происходило вокруг меня на самом деле, там, под свежей еще не осевшей землей покоится его тело. Тлен еще не коснулся его своей мерзкой когтистой лапой, и Егор лежит под толщей земли со всеми своими морщинками, ( я и сегодня помню их, все, до единой); большими и крохотными шрамами – историю каждого он рассказывал мне с мальчишеской гордостью; густыми темными волосами – их всегда теребила я, когда голова Егора покоилась на моих коленях…
Мне бы следовало думать теперь только об этом, и, наверное, слезы должны были бы уже катиться по щекам, но ничего подобного со мной не происходила.
Я просто иду мимо чужих могил, автоматически фиксируя известные имена, высеченные на солидных надгробиях, а передо мной мерцают в воздухе прозрачные глаза, увлекая меня за собой, словно указывая дорогу.
В конце концов, это оказывается едва ли не так, на самом деле, потому что неподалеку, за чередой памятников, отлитых в бронзе и высеченных из камня, раздаются громкие мужские голоса.
Сначала мне кажется, что это кто-то из друзей Егора запоздало пришел поклониться его праху, и я замираю, скрываясь за массивной мраморной плитой чьего-то надгробия, не желая сейчас никаких встреч, и уж тем более – разговоров.
То, что впереди, именно могила Егора, у меня уже нет сомнений.
Снег там густо утоптан и перемешан с землей, а в просвет между памятникам виднеются хвойные сплетенья венков, рассыпанные по земле свежие цветы и, кончики шелковых траурных лент.
В своем укрытии, я слышу, что между собой разговаривают двое мужчин, и очень скоро становится ясно, что это всего лишь кладбищенские рабочие, занятые каким-то своим делом, то ли на самой могиле Егора, то ли где-то рядом. Ждать, пока они закончат свою работу и уберутся восвояси можно очень долго и, собственно говоря, какое до меня дело двум могильщикам, занятым своими делами?
Я решительно покидаю укрытие, и выхожу на узкую площадку перед свежей могилой.
Догадка моя подтвердилась вполне, и первое, что бросается в глаза – это большой портрет Егора, поставленный прямо поверх целой горы живых цветов и прислоненный к подножию массивного деревянного креста.
Этой фотографии его я не помню, а значит, она сделана была уже после нашего расставания.
На ней Егор выглядит несколько старше своих тридцати пяти с половиной лет.
Глаза его смотрят прямо и сурово, в них нет больше крохотных азартных чертиков, которые всегда проглядывали сквозь самую серьезную мину, какую только не пытался он изобразить, а губы, и, без того очерченные красивой волевой линией, сжаты совсем уж в тонкую жесткую черту.
Он был зол, когда его фотографировали и очень недоволен всем происходящим, это отмечаю я сразу, хотя и старался изобразить на лице то, что от него требовали.
Егор, безропотно исполняющий чужую неприятную ему, волю?
Это было очень странное для меня зрелище.
Потом внимание мое привлекает крест.
Понятно, что он установлен временно, до той поры, когда можно будет поставить достойное надгробие, но все же интересно, чья это была идея?
Крест очень высокий, и заметно возвышается над прочими памятниками и плитами в ряду могил. Он изготовлен из двух массивных брусьев темного дерева, тщательно отполированных. Наверняка те, кто его творил, делали это со всем необходимым усердием, и древесина, очевидно, была использована из самых дорогих. Однако, в целом, крест производит впечатление небрежно сколоченного на скорую руку.
Но этого, похоже, добивались сознательно. Мне кажется, я понимаю смысл этого решения.
Этот крест должен напоминать крест Спасителя, повторяя его и размерами, и подчеркнутой небрежностью изготовления.
Подобная идея могла родиться в голове у человека с очень опасными амбициями.
Таким человеком был Егор. Но ведь не сам же он выбирал себе временное надгробие?
Крест надолго занимает мое внимание, но голоса могильщиков, звучащие совсем рядом, выводят меня из состояния философской задумчивости, и я оглядываюсь по сторонам, довольно быстро обнаруживаю обоих, действительно совсем близко от могилы Егора, всего в нескольких метрах.
Портрет и крест избавили меня от первого шока, потому что, отвлеченная ими, я не заметила того, что предстало перед моими глазами сейчас.
Но и теперь колени мои становятся ватными, и я прилагаю большие усилия, чтобы не опуститься прямо на грязный утоптанный множеством ног снег.
Два могильщика, в традиционных грязных и рваных телогрейках заняты сейчас главной своей работой – они роют могилу.
Дело, видимо, близится к завершению, потому что, от могилы Егора, новую – отделяет довольно высокий холм жирной черной земли, а над краями свежевырытой ямы виднеются только головы копателей, да неспешно взлетают лопаты, с очередной порцией черных влажных комьев.
Они достигли уже той глубины, где земля не схвачена морозом, и с вершины холма отчетливо доносится до меня почти весенний запах свежей земли.
Возможно, в самом факте того, что рядом с могилой Егора роют другую могилу, не заключает в себе ничего необычного и тем более страшного, что приводит меня в полуобморочное состояние.
В конце концов, каждый день в Москве умирают люди, и почему бы одному из них не быть похороненным рядом с Егором?
Но рядом с новой могилой, с той стороны, где снег еще не затоптан и не смешан с землей, на белом его покрывале распластался крест.
Точная копия того, что возвышается сейчас над могилой Егора.
Исполненный с той же нарочитой небрежностью и столь же массивный.
И еще одно обстоятельство открывается мне, отчего-то лишь при взгляде на этот, второй крест.
Вот оно-то и ввергает меня в шок, холодным спазмом ужаса сжимая горло.
Оба креста эти потрясающе похожи на тот, что был запечатлен на фотографии, уже второй раз за сегодняшний день напомнившей мне о себе так необычно и так страшно.
Собственно, присутствует и свежевырытая могила, и я, женщина на ее краю.
Осталось только разуться, чтобы совсем уж соответствовать сюжету. Мысль эта приходит в мое затуманенное сознание, а кожа на стопах ног холодеет, словно и вправду ощущая прикосновение комьев сырой земли.