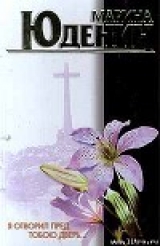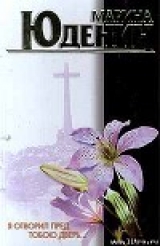Текст книги "Гость"
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
– Жертвы? – про себя повторила Зоя и почувствовала, как ужас сначала сжал ее сердце стальной клешней, а потом швырнул его вниз что есть силы – и оно, несчастное, еще живое, трепещущее, покатилось вниз, увлекая за собой всю ее жизнь.
– Жертвы, конечно, а что же еще? Все эти диеты, воздержания, нагрузки. А сплетни, интриги, проклятые папарацци – сплошные стрессы и психологические потрясения. Я прав, Мария Андреевна?
Маша держала паузу, демонстративно прищурясь и в упор вызывающе разглядывая гостя, держала паузу долго, как того требовал ритуал – была брошена перчатка, так прочитала она его поведение, и теперь она ее поднимала. Потом она улыбнулась, обескураживающе дружелюбно и почти весело:
– Вы у меня консультировались?
– Не-а-а. – Он был само кокетство, просто расшалившееся любимое дитя. Однако она готова была спорить на что угодно – он все понял и сейчас наносил ей ответный удар в их безмолвной дуэли.
Теперь что-то почувствовал и Сазонов, до этого пребывавший в состоянии какого-то странного куража, но гость предупредил его вопрос:
– Чтобы не узнать вас, маэстро, надо быть совсем уж папуасом.
– А меня? – Лозовский смотрел на гостя тяжело, в упор своими почти бесцветными глазами. Взгляд этот был очень хорошо известен, правда очень узкому кругу близко знавших Игоря Лозовского людей, и все они, мягко говоря, старались делать все возможное, чтобы его избежать. «Не смотри на меня так, не смотри», – кричала много лет назад его совсем маленькая дочка и буквально заходилась в истерике. Гость, однако, взгляд выдержал довольно спокойно, продолжая даже улыбаться.
– Знаю. Во-первых, о вас, Игорь м-м-м… Владимирович, кажется, в недавнем прошлом много писали и показывали по ящику. Сейчас, правда, вы прессу не жалуете, однако ведете – это, во-вторых, публичный образ жизни и хроникеры вас вниманием не обделяют – вы ж в обойме ньюсмейкеров, нравится вам это или нет. – Он помолчал немного, обведя взглядом всех, и неожиданно громко расхохотался. – Кажется, сейчас меня снова выставят под дождь, а то и морду начистят. Все, раскрываю страшную тайну: все знать и всех узнавать – моя профессия.
– Вы что, сыщик? Или наоборот? – Сазонов замешкался, подбирая слово, в нем еще теплились остатки куража. – Киллер?
– Он – журналист. – Маэстро оборвали неожиданно резко, почти грубо.
– Правильно, – после звонкой реплики голос звучал как-то совсем глухо, – и зовут его Петр Лазаревич.
– Ответ принимается. – Гость шутливо указал на говорившего пальцем, но моментально стал серьезным и тихо совсем произнес: – Но клянусь здоровьем, присягнуть могу на чем хотите, я здесь случайно.
Никто ему не ответил. В наступившей тишине не слышно было даже ненастья, словно тот, кто им повелевал, прислушивался, ожидая развязки. Прошло несколько очень долгих мгновений, стих вроде даже треск огня в камине, не тикали будто громоздкие часы на камине и пламя свечей замерло, не подчиняясь легкому дыханию пространства. Гость медленно поднялся и аккуратно поставил свой бокал.
– Мне, наверное, следует уйти. Кажется, я испортил вам вечер, простите.
Уже у двери он был остановлен вопросом:
– Лазаревич… Вы родились на Байкале?
Кто сказал, что прошлое не возвращается? Вранье! Оно вернулось сегодня – яркое, подробное, неотвратимое, как ночной кошмар. Это произошло, когда он уже почти поверил, что смог это преодолеть, забыть, стереть из памяти, как ненужный компьютерный файл, что это ушло из его жизни. И черт побери, это не было даром свыше. В Бога он не верил, точнее, он не был религиозен в традиционном понимании. Он верил в разумный баланс положительных и отрицательных сил в масштабах вселенной и, стало быть, в некую высшую справедливость, которая рано или поздно торжествует. Все это случилось уже очень давно, и не сразу, а лишь много лет спустя он понял, какой грех лежит на его душе. Он не боялся возмездия, людского или свыше, он с удивительно жесткой ясностью осознал, что кара ему будет пострашнее всех возможных наказаний – он всегда будет жить с этим. Так и случилось.
Он не давал зароков и обетов, специально не делал ничего, чтобы искупить свое преступление или разжалобить кого-то или что-то, – однако все эти годы он жил сообразно своим собственным представлениям о совести и чести, как ни сильны были порой соблазны, как жестко ни диктовали противное обстоятельства. И наступил день, когда он почувствовал: прошлое отступило, еще не забылось, но как бы подернулось дымкой, к нему пришло нечто похожее на любовь, и оцепеневшее сердце дрогнуло, будто кто-то мягко сжал его теплыми ладонями. Тогда он почти поверил. Теперь оно вернулось…
– Неправда, не верю, неправда, ты не вернешься, ты не заберешь меня, ты меня забудешь. – Она твердила это уже несколько дней подряд. Ее милое детское еще лицо опухло от слез, глаза покраснели. – Пожалуйста, ну пожалуйста, я прошу, я очень прошу тебя…
– Что пожалуйста, котенок? Оленька, что пожалуйста? – Он спрашивал в сотый, тысячный раз, целуя ее мокрые глаза и щеки, хотя ответ знал. Она тысячу раз отвечала ему одинаково, тысячу раз за последние три дня.
Последние три дня вообще были похожи на один день, который по чьей-то мистической ошибке просто каждое утро начинается снова, вместо того чтобы уступить дорогу следующему. Они встречались в одно и то же время, двигались одним и тем же маршрутом – от ее дома в старый парк, потом в маленькое, спрятавшееся в зелени кафе-мороженое, потом бесцельно – по улицам, все одним и тем же, потом на трамвае, одинаково дребезжавшем, – до конечной остановки «Старый пляж», потом пешком к самому пляжу, там – на причал и на нем были дотемна, потом – обратно к ее дому. Все это время они одними и теми же фразами вели один и тот же разговор, который каждый раз в определенных местах обрывался ее рыданиями, невыносимо жалобными, разрывающими ему сердце, и почти родственными ласковыми поцелуями, которыми он пытался ее успокоить. Это удавалось на некоторое время – она затихала, они начинали говорить о чем-то ином, но каждый раз случайно вырвавшееся у него слово возвращало ее к этому бесконечному разговору – все начиналось снова…
Суть разговора была очень проста и сводилась к двум фразам – она просила его не уезжать учиться в Ленинград, уверенная в том, что в далеком большом городе он сразу разлюбит и забудет ее, а он клялся, что этого не произойдет никогда и что, как только она через год закончит школу, сразу же приедет к нему, не важно, поступив в институт или нет, и они заживут новой свободной взрослой жизнью в прекрасном, самом лучшем на свете городе.
Они любили друг друга первой любовью, быть может, чуть более возвышенной и романтической, чем у сверстников, поскольку оба были очень «книжными» и воспитывались прекрасными бабушками – провинциальными русскими интеллигентками, каких и в те времена оставалось уже очень мало. Еще перед началом вступительных экзаменов он страшно противился своему отъезду и не мыслил жизни в далеком чужом городе со своими моложавыми светскими родителями, без бабушки и, главное, без Оли. Однако жизнь, которая завертела его, едва только он освободился от материнских объятий на перроне, а может, уже тогда, когда она прижала его к себе, окутав фантастическим запахом своих духов, оказалась штукой столь прекрасной, нарядной, звонкой, пьянящей, открывающей такие сияющие высоты и дали, что он сразу и безоговорочно поверил – вне ее он теперь существовать не сможет, да и не хотел он теперь существовать вне этой жизни. И его пушистый котенок, Оленька, конечно же разделит с ним это счастье. Он блестяще сдал экзамены и, еще более окрыленный и устремленный в будущее, вернулся к ней. И тут началось самое страшное. Впрочем, сначала ему не было страшно, он надеялся, просто она не так поняла его или не поняла вовсе, он сам виноват – плохой рассказчик – не сумел передать всей радуги той сияющей жизни, и он говорил снова и снова, смакуя каждый прожитый им час и день и пьянея от представления о днях будущих, а ей от этого становилось все хуже. В своем неудержимом восторженном стремлении вперед, он был чужим ей, еще более прекрасным и любимым, но чужим, рвущимся от нее в мир, где ей не могло быть места, в ней крепла какая-то одержимая фанатическая уверенность, что если он уедет сейчас – это навсегда, если останется с ней – тоже навсегда.
Три дня они вели этот бесконечный спор, три дня все понимающие бабушки молились, плакали и пили валерьянку. Все были измучены до предела.
Стемнело уже давно, и все ощутимее тянуло холодом от воды. Он одел на Олю свой свитер поверх вязаной кофточки и теперь зяб в тонкой тенниске, а может, это был нервный озноб. Болела голова. Ольга уже даже не плакала, а только всхлипывала, по-детски сотрясаясь всем тельцем. Впервые он почувствовал кроме безумной жалости к ней еще и раздражение. «Господи милосердный, придет ли конец моим мучениям», – говорила обычно бабушка, страдая тяжелыми приступами мигрени. Он повторил сейчас эту фразу про себя слово в слово…
– Пойдем домой, – он поднялся с сырых досок старого, полуистлевшего причала и легко потянул девушку за стянутый на затылке хвостик, – завтра наступит утро и ты поймешь…
Она не дала ему договорить, вырываясь, резко дернула головой, вскочила и, близко глядя на него снизу вверх, закричала громко, каким-то не своим визгливым голосом:
– Нет, я не хочу завтра, я не доживу до завтра… Как ты не видишь, как ты можешь быть таким жестоким… Я же не смогу без тебя жить, не смогу жить, понимаешь ты. – Она захлебнулась рыданиями, схватила его за руки повыше локтей и начала трясти, больно царапая кожу остренькими ноготками. – Я же прошу тебя, умоляю, хочешь, я стану перед тобой на колени, хочешь, я буду за тобой ползти на коленях по улицам… Скажи, скажи, что мне сделать, чтобы ты остался?
– Олька, пожалуйста, перестань, – он пытался оторвать ее руки, но она еще больнее впивалась в него, – Оля, ты делаешь мне больно, слышишь, мне больно.
– Больно? А мне, как ты мне делаешь больно? Я, я… я не буду больше жить, я утоплюсь сейчас, вот что, я утоплюсь на твоих глазах.
– Топись, – он наконец оторвал ее от себя, – топись, если ты ничего не хочешь слушать. Ты сумасшедшая, вот ты кто. Сумасшедшая. – Он повернулся и быстро пошел с причала.
Его бил озноб и болели ссадины от ее ногтей. Он словно продолжал видеть перед собой ее лицо, распухшее, с мокрыми глазами и мокрым носом, некрасиво кривящиеся мокрые губы. Он первый раз в жизни видел так близко потерявшую над собой контроль, кричащую и плачущую женщину, и это зрелище было ему противно. Сзади раздался всплеск воды. «Ничего, охладись», – зло подумал он и, неловко ступая по сырой гальке старого пляжа, пошел прочь.
Пляж этот действительно был старым, заброшенным – раньше здесь была тихая бухта, с чистой и относительно теплой водой и слабым течением, но озеро мелело, кромка воды все отступала от берега, и уходящий некогда в бесконечную водную гладь причал теперь стоял на мелководье, возле самого дальнего его края глубина едва достигала метра. На старый пляж уже давно никто не ездил купаться, днем в жаркую погоду здесь безбоязненно плескались дети, вечерами жгли костры подростки и уединялись влюбленные пары.
Он дошел до трамвайной остановки, постепенно замедляя шаг, ожидая и не желая одновременно того, чтобы она догнала его и все началось сначала. Он уже решил, что не будет с ней ни о чем сейчас говорить, проводит домой, и все. Он понятия не имел, что будет делать и как себя вести завтра, но это и следует решать завтра, сейчас он хотел только поскорей добраться домой, согреться, смазать чем-нибудь царапины, чтоб не болели, поужинать и лечь спать.
Трамвая ждать пришлось довольно долго. Он пришел, громыхая особенно уныло, почти пустой, продуваемый ветром, грязный. Некоторое время он раздумывал, зябко переступая с ноги на ногу у распахнутой двери-гармошки, но усталость, раздражение, голод и холод были очень сильны – он запрыгнул в вагон, однако стоял у дверей, вглядываясь в темноту. Когда трамвай уже тронулся и двери, противно лязгнув, поползли навстречу друг другу, из темноты метнулась чья-то фигура и неуклюже запрыгнула на подножку. Но это была не Ольга.
Это был Лазарь – так все называли этого довольно смазливого, но жутко закомплексованного и оттого заносчивого и конфликтного парня, сына одинокой и какой-то затравленной преподавательницы географии. Он учился с Ольгой в одном классе, и однажды она показала его записку, написанную в довольно ироничном стиле и довольно складно. В ней Лазарь предлагал Ольге встретиться в модном кафе. Ольга смеялась и одновременно немного гордилась его вниманием. Несмотря на скверный характер, Лазарь многим девочкам нравился. Записка не затронула его никак: Лазаря он не принимал всерьез и даже не помнил, как его зовут, хотя в общем-то не любил кличек и редко пользовался ими, общаясь с людьми. Конечно, она ни в какое кафе с Лазарем не пошла, и он забыл об этой истории, почти сразу.
Они поздоровались, и Лазарь остался стоять рядом с ним, как-то странно глядя мимо него и дергая губами, то ли посмеиваясь, то ли гримасничая.
– Ты чего? – У него получилось довольно грубо, но Лазарь, похоже, этого не заметил. Он опять как-то странно то ли всхлипнул, то ли хихикнул и мотнул головой.
– Ничего. Сурово ты с ней, старик.
– Подслушивал? – В этот момент он был настолько разбит и измучен, что не нашлось даже сил как следует взбеситься. Драться он не любил, но, как ни странно, умел, получалось как-то само собой, то ли от гордости, то ли от упрямства, но довольно убедительно для противника. Отделать Лазаря следовало немедленно, но он только угрожающе повернулся к нему и смотрел в упор, с высоты своего приличного роста. С Лазарем к тому же явно что-то происходило, он словно не мог совладать со своим лицом – по нему пробегали быстрые гримасы, но думать на эту тему совсем не было сил.
– Просто услышал, обходя окрестности. Леди, я извиняюсь, орала как резаная.
– Ты, подонок, тля болотная. – Он как-то вдруг взял Лазаря за лицо, практически накрыв его ладонью. Трамвай в этот момент подошел к остановке, двери, жалобно поскрипывая, разъехались в стороны. Он даже не толкнул, а лишь слегка надавил рукой, голова противника послушно подалась назад, увлекая за собой тело. Лазарь медленно падал со ступенек, откидываясь назад, пока не опрокинулся на мостовую, запрокинув голову и безвольно раскинув руки в стороны. Он и не пытался сопротивляться.
Тело Ольги нашли ранним утром следующего дня там же, где она прыгнула в воду, – у причала, на глубине семьдесят сантиметров в воде валялась ржавая металлическая скоба, некогда стягивающая бревна, поддерживающие дощатый настил, на голове у девушки была глубокая рана, а вода вокруг густо окрасилась кровью. Вывод экспертов был однозначен: прыгая в воду, она сильно ударилась головой о железку и потеряла сознание, однако была еще жива, так как легкие ее наполнились водой и смерть наступила вследствие асфиксии. Гибель Ольги была квалифицирована как самоубийство – в этом следствие убедил ее дневник, последние записи в котором полностью воспроизводили содержание их бесед и изобиловали мыслями о добровольном уходе из жизни как наказании ему за предательство, и энергичное вмешательство его матери, которая примчалась из Питера в тот же день и сумела устроить так, что он никак не фигурировал в деле, его даже не допросили ни разу и спокойно позволили уехать из города. Она не разрешала никому, даже бабушке, разговаривать с ним, сама не задавала никаких вопросов и не допускала мысли о том, чтобы дождаться похорон Ольги и уж тем более на них присутствовать. Мать планомерно накачивала его сильными транквилизаторами, стремясь заглушить какие бы то ни было эмоции. Это ей почти удалось. Он, конечно, не пошел учиться в этом году, хотя и поселился у родителей в Питере, несколько месяцев с ним работал очень известный психиатр, ни словом, впрочем, не касаясь случившегося, но работа была успешной. На следующий год он блестяще сдал вступительные экзамены, но настоял на том, что учиться и жить будет отдельно от родителей – в Москве. В конечном итоге это оказалось к лучшему.