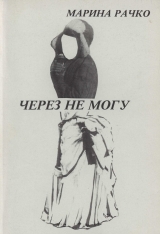
Текст книги "Через не могу"
Автор книги: Марина Рачко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Annotation
В центре повести МАРИНЫ РАЧКО (журналистки, поэтессы, переводчицы) – сто лет жизни русской женщины, рожденной в Санкт – Петербурге в царствование Александра Третьего, пережившей три революции, пять войн, террор, блокаду и вынесенной, в конце концов, в Соединенные Штаты Америки. В судьбе и характере героини переплетаются трагическое и смешное, упрямство и конформизм, мудрость и ограниченность, жертвенность и эгоизм. Она дана то глазами ребенка (внучки), то глазами автора, и этот прием помогает создать многогранный, запоминающийся образ.
МАРИНА РАЧКО
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МАРИНА РАЧКО
ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ
ПОВЕСТЬ
Marina RACHKO CHEREZ NE MOGU.
{Overcome «I Can't.» A novella)
Copyright © 1990 by Marina Yefimov All rights reserved
Library of Congress Cataloging–in–Publication Data Rachko, Marina.
[Cherez ne mogu: povest’ / Marina Rachko (Yefimov)], p. cm.
Title on verso t.p.: Overcome «I can’t».
ISBN 1–55779–032–9: $ 6.50 I. Title. II. Title: Overcome «I can’t.»
PG3549.R33C47 1990 90–4521
891.73—dc2 °CIP
Published by Hermitage Publishers
P. O. Box 410
Tenafly, N. J. 07670, USA
* * *
Дорогой Николас, спасибо за поздравление бабушке с ее не девяностопяти–, между прочим, а девяностосемилетием. Я еще в Вене заметила, что она вызвала у Вас особенный прилив родственных чувств (не единственный ли?). А вообще все визитеры приходят в волнение от ее долголетия. Наверное, думают: «Значит, и я могу так вот жить и жить, почти вечно… Сидеть в кресле, держать на коленях книгу, величаво кивать пожилым гостям собственных внуков…» Как–то одна гостья, и сама лет семидесяти с гаком, сказала потрясенно: «Смотрите! у нее голубые глаза!» А знакомый из старых эмигрантов (с историческим подходом) считал, считал, потом говорит: «Если не ошибаюсь, в тысяча девятьсот четырнадцатом, не правда ли, у вашей бабушки уже был, не правда ли, ребенок…» Кстати, о тысяча девятьсот четырнадцатом… По пути из Вены в Нью – Йорк наш эмигрантский самолет приземлился на час в Женеве. Узнав где мы, бабушка не упустила повода похвастаться: «Видишь, – говорит, – я всегда добивалась своего: в четырнадцатом, перед самой войной, мы с мужем как раз собирались в Швейцарию. И вот я здесь!..»
Говоря об историческом подходе, Николас… бабушка пережила десяток русских правителей (начиная с Александра Третьего и кончая не– считаной партийной мелочью), всех своих братьев и сестер (числом пять), всех друзей, мужа и обоих детей. Я уж не говорю о пережитых ею трех больших войнах, трех голодах, великом терроре, борьбе с космополитизмом… – семь коров тощих, семь дистрофичных. Словом, если бы давали ордена за выживание, скажем, «орден Робинзона Крузо» или «медаль за оборону Жилплощади», – бабушка была бы в первых рядах праздничных парадов.
Николас, дорогой, на Ваше поздравление бабушка вряд ли ответит: лондонскую открытку она не ожиданно принялась суетливо рвать: «Нельзя, нельзя, вдруг скажут – связь с заграницей». Защитный рефлекс сработал по академику Вышинскому. К тому же она раздраженно оспаривает свой возраст: «Девяносто семь? Ну что глупости–то говорить!» – «Да? А сколько же тебе?» – «Ну, восемьдесят три, восемьдесят четыре максимум».
Как бабушке Америка? Как в густом тумане, я полагаю. Она наблюдает ее из окна нашего «таунхауза» на окраине Ипсиланти, штат Мичиган, откуда видна только стоянка машин и помойные баки в зелени. Вчера Наташа играла на травке перед домом с черным соседским мальчиком. Бабушка долго следила за ними с явным беспокойством, потом спрашивает:
– Нюша, это правда, что в Америке есть негры?
– Бабушка! – говорю я в изумлении, – ты полчаса смотришь на мальчика, с которым играет Наташа. Ты что, не видишь, что он черный?!
Бабушка говорит с сомнением:
– То–то и я думаю: не то еврей…
Каждый вечер она требует, чтобы я проверила, заперты ли двери: «А то газеты пишут, что в Манхаттане большая преступность». – «Да мы–то не в Манхаттане». – «Как же, всегда говорили: Манхаттан!» – «Не Манхаттан, а Мичиган». Поджала губы и говорит упрямо: «Ну, это, может быть, ты так считаешь…»
…Николас, Ваши комплименты взволновали меня, наверное, преувеличенно, как матроса после шести месяцев плавания (исполнится через неделю) обнаруженный в кармане желудь (цветок?). Земли не видать. Сердечное спасибо за приглашение, но идея поездки в Лондон утопична, поскольку американская потогонка не дает перевести дух ни на минуту. Полцарства – за месяц беззаботности!
Так что всей вновь обретенной лондонской родне посылаю воздушные поцелуи воздушной почтой. Пожалуйста, пишите мне. По–английски. А я буду отвечать по–русски, тогда, по крайней мере, мы не будем себя чувствовать двоечниками, которым задано написать сочинение.
Николас, Америка – «колоссаль», но Вена – все еще мое лучшее воспоминание в эмиграции, а Вы – все еще мое лучшее воспоминание в Вене.
Целую, Аня
* * *
…Николас, честно говоря, идея описать бабушкину жизнь кажется мне бесплодной. Единственный, кто мог бы написать настоящий бестселлер – сама бабушка (теоретически, конечно). «Руководство по выживанию»: не заглядывать вперед, не оглядываться назад… Как говорит одна наша советская приятельница: «Я знаю, почему моя тетка смогла все это перенести. Она оглохла в тридцать три года».
Разумеется, я сама никакой книги написать не могу, не только по лени и бесталанности, но и оттого, что по–настоящему, сердечно, помню только свои собственные стыды, позоры и вины. Ну что может создать человек, которому незйакомо чувство правоты?
Однако… возможность выговориться меня, признаюсь, соблазнила, поэтому, давайте, сделаем так: я напишу, что помню, а уж Вы превращайте, как Гоголь, эти «сцены низкой жизни» в «перл создания».
Самое первое воспоминание моей жизни – унизительное (я вас предупреждала). С бабушкой за сценой – то есть на кухне. Я сижу на высоком стуле на дачной веранде и давлюсь пирожным «буше». Бабушкина сестра тетя Таня, статная и что называют «интересная», в стальных локонах, держит мою руку в своей, как в капкане, и, дразня, говорит:
– Раз не ешь пирожное, так и буду держать руку в плену!
Что за чудовищное изобретение! Руку не выдернуть. Сквозь воспитанное хихиканье, я чувствую, прорываются злые, беспомощные слезы раба. Незаметному их сглатыванию мешает разбухшее во рту пирожное. И первый, требовательный крик о помощи: «Баба Апа!» Апа – Агриппина.
Смутно помню первые наказания – всегда за плохой аппетит. После дневного сна из–за щеки выковыривают котлетку, с которой я спала, не решаясь выплюнуть… Вообще я не испытывала страха перед бабушкой, скорей мое почти беспрекословное послушание было способом остановить ее неумолчное ворчание, под которое я жила в детстве, как жители гор под шум водопада.
В нашей семье насилие не применялось. (Кошмарный летний день, когда меня обещали выпороть «сантиметром» – знаете, такой клеенчатый ремешок с сантиметровыми делениями, которым пользуются портнихи. Да так и не выпороли.)
Бабушка действовала мирным обманом. С уверенностью, которой я свято доверяла, она обещала, что у зубного будет не больно (!), что в гости, куда она меня тащит, придут дети (а их и в помине не было), что есть мороженое зимой запрещено законом и за это штрафуют. Когда же дело было сделано, я добродушно забывала обещанное.
Маму вранье раздражало, и в детстве я часто слышала ее упреки, на которые бабушка, не дослушав (никогда не дослушивала), бормотала: «Это ложь во спасение. Так и в Библии сказано… Есть ложь во зло, а есть – во спасение. Спроси кого хочешь». Библия – которую я знала только из этих бабушкиных упоминаний – казалась мне чем–то исчезнувшим и не восстановимым, как динозавр.
Из отвращения к бабушкиным методам воспитания мать действовала прямыми и категорическими ультиматумами: «Или ты сейчас же, или я…» Бедная мама, не зная, что теряет, общалась со мной посредством «замечаний» и одергиваний. Еще были порывистые объятья после выжатых из меня просьб о прощении. Они остались в памяти как самые тяжкие минуты – кусок сахара после дрессировки.
…Так на веранде. Злая и униженная, с рукой в плену, я вдруг вижу, что по зеленому склону к дому торопливо идут, почти бегут наши городские – мама и дедушка – оба в белой чесуче, на ярком солнечном ветру… Приехали, чтобы спасти меня от смешного позора. И мой торжествующий крик, и рука свободна, и обе сестры, с беспокойством приникщие к окну, и захлебывающийся бег по траве прямо в дедовы объятья, и говор, говор вокруг. Что случилось? А случилась война.
Войной в нашей семье, как впрочем и всем, заведовала бабушка. И поскольку она была всю жизнь убеждена, что доверять можно только ближайшим родственникам (вообще во всем, в чем бабушка была уверена, она была уверена раз и навсегда), то ни Сталину, ни Риббентропу, ни знакомым она не доверяла и, в отличие от остального населения России, загодя готовилась к войне.
В огромном буфете по имени Нотр – Дам, нерешительно презираемая своим польским, благородных кровей мужем, она постепенно накапливала «хлам». На широких ароматных полках расставлены были бутылки тягучего подсолнечного масла и прозрачные водочные («А зачем вода в бутылках?» – «А ну, сейчас же из буфета!»), мешочки с крупами, мукой и горохом (особенно обрати внимание на горох, мой мальчик), большие холщевые мешки постоянно обновляемых сухарей, десятки коробков спичек (я любила к ним принюхиваться, и вообще – ко всему), «палочки» дрожжей, рафинад, пачки печенья и россыпи репчатого лука… Все это выменивалось в блокаду на краюшки белого хлеба, завернутые во влажные тряпки куски шпига, на «школадный лом» и маленькие бежевые осколочки глюкозы – пока они не исчезли даже с барахолки. Как мне помнится по бабушкиным рассказам, самым главным обменным фондом были почему–то спички и репчатый лук.
Кстати, Ник, а вы вообще знаете слово «барахолка»? Это «блошиный рынок». Только в вашем выражении игра смысловая, а в нашем – лингвистическая, с прелестным, многозначным, в этом случае пренебрежительно–собирательным окончанием «ка» (которому вообще–то положено быть уменьшительным, но с которым даже слово «ночь», превращаясь в «ночку», не делается короче, а приобретает лихой, разбойный оттенок). Только не уличайте меня, пожалуйста, в лингвистическом невежестве – я ведь Пи Эйч Ди не прошу.
Позже, когда слово «барахолка» исчезло из обихода (вместе с последней возможностью свободной купли–продажи), народ много экспериментировал с этим окончанием «ка» – почти всегда иронично. Например, недозволенная властью деятельность, произведения искусств, книги и вообще запретные плоды – получили широко распространившееся название «запрещенка»; студенты–медики называли занятия по анатомии «расчлененкой» (хотя на мой вкус это уже изощренка), а смерть, вечную разлуку и эмиграцию – должно быть, с намеком на причастность Запада – стали называть неверморкой – от never more.
Значит, война…
Мы жили (чуть не написала «тогда», а на самом деле «всегда») на Разъезжей улице в огромной квартире, которая до революции принадлежала бабушкиным родителям (т. е. нашей с вами общей прабабке и моему прадеду) Юлии и Галактиону Ш.
Я родилась, как принято у людей моего поколения, в 1937-ом, и к тому времени квартира давным–давно была коммунальной. Так что, например, залу с мраморным камином, мелькавшую без конца в рассказах родственников, я впервые увидела лет в двенадцать, когда мне пришлось провести врача к больной соседке. Обычно у этих соседей никто не бывал – там муж был мизантроп. Уж не помню, жулик он был или партиец, что так оберегал свой внутренний мир, но только на стук он никогда не кричал, как другие: «Войдите!», а каждый раз бесшумно появлялся сам и быстро прикрывал за спиной дверь. Оба они были тонные, немножко путали аристократизм с чванством, и их подчеркнутая вежливость доходила до того, что они все называли полными именами: «Валентин, захвати из кухни картофель»; «Серафима, не забудь сервировать сельдь»…
До оказии с врачом я представляла залу только по предновогодним бабушкиным воспоминаниям: распахнутые белые двери, мерцающая ель вдали и толпа детей (шестеро своих и гости) с бабушкой впереди с разбегу летит из гостиной, как по катку, по скользкому паркету через весь сорокаметровый простор… И чисто, пахнет воском с мандаринами, наступает новый 1900‑й год, и на платяном шкафу в прихожей плохо припрятана гигантская круглая коробка от «Норда».
«Воронью слободку» моего времени, даже если представить ее отдельной квартирой, трудно было назвать роскошной или уютной, но в ней осталось какое–то, знаете, обаяние, общее для многих больших, темноватых петербургских квартир. Высокие окна на север, на крытую диабазом Разъезжую; планировка, такая неожиданная, словно архитектор сам не знал, на что наткнется за углом. По длинному коленчатому коридору можно было бы пустить автобус и даже сделать пару остановок. Последний его поворот выводил на кухню размером с самолетный ангар, которую освещало только одно окно – в Достоевский двор. За кухней еще шла «людская» со ступенькой. Темная «вторая прихожая» – с лепниной и белой кафельной печью – была когда–то столовой. От нее фанерной стенкой отгородили часть с окнами и сделали отдельной комнатой. Там жила прабабушка Юля, которая вовремя, перед войной, умерла.
Ну и все в таком же духе: застекленные книжные шкафы с изданиями 1890‑х годов, дубовый Нотр – Дам с очертаниями Нотр – Дама настоящего, корниловский сервиз…
С балкона в нашей комнате (бывшей гостиной) были видны Пять углов – перекресток Разъезжей, Загородного и Троицкой – и старинный дом–утюг. Его башенка, похожая на кронверк Петропавловки, украшала закатное небо. В квартире жили семейные истории и призрак «брата Жени», мистификатора и художника, умершего молодым от туберкулеза.
Мировые катастрофы бабушка принимала бодро. Она, по–моему, жила не разумом и даже не чувством, а инстинктом и поэтому довольно легко управлялась с иррациональным. После революции действия новых властей нельзя было предугадать, их можно было только унюхать, и это было по ней. Скажем, когда стали конфисковать золото и серебро… Нет, нет, в том–то и дело… Бабушка бросилась действовать не тогда, когда начали конфисковать, а когда «пошел слух», что начнут! Люди рациональные этому слуху не верили: ну, отберут настоящие драгоценности у настоящих богачей, но не столовые же ложки… Бабушка, без колебаний и сожалений, в два дня, снесла все, что можно, в Торгсин, мелочи спрятала в надежное место, а назавтра пришли отбирать столовые ложки.
Только не подумайте, что она всегда побеждала в этой борьбе иррационального с иррациональным. В тот раз, например, властям стало подозрительно, что в квартире нотариуса–поляка нет никакого золота, и деда на всякий случай арестовали. Вместе с дюжиной соседей и знакомых он простоял трое суток в набитой конторе. Правда, методы дознания были еще детские: пить не дают, в уборную не водят… Но и народ ведь был еще непривычен – кто–то умер от одного стояния. Дед, однако, про спрятанное не сказал. Почему? Знал, что не поможет? Из–за шляхетской гордости? Или на этот раз бабушка решила не доверять даже ближайшим родственникам? Через три дня его освободили. Был призван «брат Шура», врач–педиатр, поправить дедово здоровье.
Слушая рассказан об этом эпизоде, я каждый раз иезуитски спрашивала бабушку: «А что ты ЧУВСТВОВАЛА в эти три дня?» И она неизменно отвечала: «Да уж ДЕЛАЛА что могла» (в том смысле, что хлопотала об освобождении). И это был искренний ответ: бабушка не помнила своих чувств, потому что каждое ее чувство немедленно превращалось в действие. Словом, у нас сохранилась сахарница фраже…
Когда «пошел слух», что частные квартиры будут превращать в коммунальные, бабушка опередила власти и заселила квартиру родственниками и друзьями. Загадочным образом она уже разбиралась во всем этом революционном сюрреализме: «жактах», «прописках», «управдомах», без тени смущения ввела в свой словарь мутантское выражение «жилплощадь»… Боже мой, какие слова вырастила советская эпоха! Как будто в учреждения вступили тысячи хле– стаковских Осипов и указом Президиума Верховного совета ввели в стране «галантерейное обхождение»…
…Из бабушкиных историй того времени:
Приходит управдом. «У вас большая вечеринка намечается, так мы пришлем своего человевка». – «Ой, ну что вы, у нас ведь соберутся только близкие, а тут вдруг чужой человек…» – «Да он тихий, интеллигентный, студент, посидит в уголку, семейные альбомы посмотрит». – «Ой, а нельзя ли как–нибудь обойтись без него?» – «Ну, составьте список гостей и занесите, мы посмотрим…» Посмотрел список и говорит: «Можете не беспокоиться, нет нужды никого посылать – у нас тут, я вижу, три своих человека».
Соседи Лещинские (тоже по рассказам). Муж – поляк, приятель деда, кажется, офицер… жена Лизочка, болезненная, и двое сыновей. В 36‑м старшему семнадцать, младшему четырнадцать. Имя старшего неважно, а младшего – Кирилл. У меня сохранилась фотография вечеринки 36‑го года в квартире «тети Мани» на Загородном: конец стола, задвинутого в тюль эркера, и за ним наши с вами родственники, молодые и миловидные, в каких–то пикантных сочетаниях. Например, апдетитная жена маминого брата Вади хозяйски привалилась к инженеру Зимбицкому, тетки Таниному мужу… А у самого Вади лицо, которое американцы определили бы как «all russian boy»…[1] И вот где–то в середине этой самой вечеринки, веселой, как все «пиры во время чумы», раздался телефонный звонок. Хмуро звонил старший сын Лещинских: у Кирилла температура, он заболел, пусть родители идут домой. Лизочка нервно спрашивала в трубку: «Да что случилось? Он был абсолютно здоров!» Женщины сочувственно столпились у телефона. И вдруг в трубке раздался голос Кирилла, такой звенящий, что его слышали все стоявшие вокруг: «Мама! Не приходите! Здесь НКВД!..» И гудки. В мертвом молчании Лещинские оделись. Какой–то рационалист из гостей сказал: «Не ходите! Детей не тронут!» Лизочка только посмотрела на говорившего, и потом этот взгляд все художественно описывали… На следующий день правую часть ее лица парализовало – ночью взяли не только самого Лещинского, но и Кирилла. Когда началась война, старший сын увез Лизочку в Москву…
Война вымела и других соседей, осталась только семья «чужих» в девятиметровой каморке у лестницы – скромный и милый рабочий по фамилии, не поверите, Свинтусов, с революционно настроенной женой и сыном, не поверите, Гарри, моим ровесником. В этой же комнате, размером как раз в четыре гроба, жил призрак «брата Жени».
* * *
Интересно, что из всей войны я помню только два–три летних эпизода. Все остальное, как кажется, происходило зимой. Зимой и вечером.
А тут – день и жара, и дядя Вадя, мамин брат Владислав, дома «на побывке» (значит, перед отправкой на фронт, значит – летом или ранней осенью 41‑го).
Толстая годовалая кузина Ленка, с огромным бантом на трех волосинах, стояла у стула и самозабвенно ела манную кашу из глубокой тарелки. Меня, четырехлетнюю, эти воспитатели, мама и дядя, поставили на обеденный стол и уговаривали с него прыгнуть. Оба они, загорелые и белозубые, в майках, стояли шагах в полутора. Дядя протягивал руки и говорил: «Прыгай, не бойся, я тебя поймаю!» Мои страдания усиливались тем, что за минуту до этого он подбрасывал к высокому потолку и ловил Ленку, ее белые волосины взлетали от ветра, но толстая физиономия была совершенно спокойна, и глаз с терпеливой надеждой косил на кашу. А мне нужно было сделать всего один прыжок до его сильных рук, и я боялась. Я видела, что маме стыдно за меня – она стояла с напряженным лицом и все вскрикивала: «Да прыгай, трусиха!» Наконец дядя сжалился, шагнул сам и крепко стиснул меня в объятьях. Кажется, именно с тех пор в моей голове засело убеждение, что благородная снисходительность к слабости есть непременная черта мужского характера. А солдатский запах остался моим тайно любимым на всю жизнь – загара, курева и кожаных ремней.
Откуда–то из тех же дней (или часов?) помню, как я, энергично кривляясь, с наслаждением повторяю: «Дя–дя–Ва–дя, дя–дя–Ва–дя!» – так удобно для детских упражнений, словно создано для начинающих… И Ленка бессмысленно вторит: «Дя–дя–Ва–дя!» А кто–то говорит весело: «И эта туда же!» И – Ленке, отчетливо выговаривая: «Папа! Па–па!»
После ухода дяди на фронт (and to eternity)[2] его жена увезла Ленку к своим родителям. Перед отъездом произошел довольно напряженный спор между ней и бабушкой – оставаться или не оставаться – чуть ли не единственный, во время которого я помню бабушку в ярости. И все потому, что не победила, не настояла на своем. Несмотря на ее запугивания (с поднятым крестным знамением, как боярыня Морозова: «Ты горько раскаешься – ты потеряешь комнату!»), невестка, хоть и расстроенная, но не поддавшаяся бабушкиному гипнозу, увезла дочку. Дяди Вадина жена считала жизнь в провинции во время войны безопаснее и сытнее (в чем оказалась абсолютно права). Бабушке же нюх на этот раз изменил: «К Питеру?! Немца?! Да на тыщу верст не подпустят! Что глупости–то говорить… Считается вторая столица!» В конце приводился, как всегда, сокрушительный аргумент: «Если не веришь мне, выйди на кухню и спроси кого хочешь!»
Но спрашивать, собственно, было уже некого. Все эвакуировались. Маме предложили уехать с Публичной библиотекой, в которой она работала, но бабушка простерла свою железную волю, и мы остались.
Последние поезда ушли под бомбами, на развалинах продуктовых Бадаевских складов жители собирали в кастрюли сахарный песок, окна заклеили крест–накрест полосками бумаги, «опустили пожалуйста синие шторы», и с улицы просочилось новое, но не требующее объяснений слово БЛОКАДА.
Затем в памяти моей торчит один эпизод, который кажется каким–то поворотным, на рубеже, отделяющем летнюю картинку с дядей от собственно Блокады. Эпизод такой: в моем вполне мирном и бессмысленном сне раздался ужасный грохот и дребезг стекла. Я скорей проснулась в привычной уже надежде, что сейчас все кончится, но оказалось, что это не во сне, а на самом деле. Наверное, я закричала, заплакала – не помню… Помню недолгий ужас и потом маму. Как она решительно взяла меня на руки и поднесла к балконной двери. Старый двухэтажный дом напротив горел, как на цветной картинке – пламя рвалось из окон. Улица Разъезжая была театрально освещена. Не знаю, на что смотрела мама, но я, действительно, как в сентиментальных кинофильмах, сразу увидела большую куклу, лежавшую на мостовой среди не то вещей, не то… И я стала спрашивать в тоске, которую помню даже сейчас:
– А девочка? А где же девочка?
Вот когда мама вспомнила урокй бабушкиной «лжи во спасенье». Если бы ко мне тогда приставить датчики, они зафиксировали бы, как застрекотали все иммунные системы, лихорадочно вырабатывая психологию выживания. И через несколько минут я твердо усвоила, что дом, перед тем, как ему гореть, бывает оставлен жителями. Что всех их эвакуируют в безопасное место, в первую очередь детей с мамами. Куклу, конечно, даже и такую большую, можно забыть в спешке или просто оставить, потому что там, куда их эвакуируют, знаешь, какие куклы!.. Ого–го! С жадной готовностью я усвоила бабушкино убеждение, что мир устроен правильно и плохое случается только с теми, кто бестолков, непредусмотрителен и все делает не так, как «принято».
Я стала относиться к несчастным и обездоленным с легким чувством превосходства.
* * *
Дорогой НЫК! (Такая транскрипция «i» дается в эмигрантском русско–английском разговорнике, чтобы приблизить нас к английскому произношению.)
Вот теперь я понимаю проблему писания писем из–за границы – словно начинаешь не письмо, а жизнеописание. Обо всем, вроде, надо рассказывать с самого начала, иначе не понять; все новости – сугубо местного значения; проблемы другие, даже шутки приобрели американский акцент. Так что разрыв, который был между нами из–за того, что Вы росли в Лондоне, а я в Ленинграде, увеличился на Америку.
До сих пор моя главная эмоция в здешней жизни – нервная смесь восторга и страха. Страх будит по ночам, а восторг доходит до спазм в горле.
Восторг, во–первых (в школьной последовательности), от природы и климата. Природа ни за какие здания, заборы, пакгаузы и брандмауэры не отступает. Плющ на проводах О), который здесь почему–то не опасен. Улицы, тесные от кленов или яблонь, весной и осенью превращаются в рекламные открытки. Интересно, что в Ипсиланти осенью не бывает ветра. Листья опадают и лежат под деревьями пестрыми кучками – под каждым своя.
Провинциальные города (по контрасту с советскими) поражают меня больше всего. Умудрились сохранить красоту и природу даже на задах автобусных станций, даже у городских помоек… Словом, куда они девают все свое уродство и грязь, я поняла только, когда приехала в Детройт. Вот там все это и есть. Оставлено на развод.
В середине ноября, в день моего рождения (в Ленинграде обычно день первого снега и вечных зимних сумерек, а здесь солнечный и почти жаркий) отправились компанией на ферму, где делают сидр. Огромный красный амбар – как на открытках «Home, sweet home» – внутри весь уставлен бумажными кошелками с разноцветными яблоками. Яблочный дух такой сильный, что уже перестает быть запахом и становится литературным персонажем. У старинного жома – румяные и приветливые герои Карсон Мак – Каллерс: «Where are you from, ma’m? From Russia?! Lord! Is it in Siberia?»[3]
Во–вторых, экономика тире богатство. Не богатых людей. Богатых, по–настоящему, по–здешнему, я вообще еще не видела. Ни у каких миллионеров в домах не была. Нет, я имею в виду богатство страны, ее супермаркетов, «забегаловок», государственных школ, общественных уборных, клиник для нас, бедных… А главное – удобно. Вам, наверное, не понятно, что у человека могут слезы благодарности наворачиваться на глаза, когда он покупает карандаш с резинкой на конце. А бутерброд с горячей котлетой… А зубной кабинет отдыха!.. А рожать, говорят, так удобно, что даже стыдно.
В-третьих (на самом деле во–вторых, переходящее в во–первых), – доброжелательство и уважение, я бы сказала, ко всему живому. В этом смысле медсестры, официантки и кассирши с последнего места в Советском Союзе здесь переместились на первое. В детские сады маленькие дети рвутся и даже демонстративно показывают, что любят воспитателей больше, чем родителей. С учителями шутят!! С профессорами спят.
И так далее, и так далее, и так далее… и, наконец, дорога! На конец – потому что она находится точно на границе и на пике моих восторгов и страхов.
Недавно мы с мужем и Наташей (которой теперь шесть) подъезжали впервые к Чикаго. И так случилось, что наш въезд пришелся как раз на вечерние часы пик – между 4‑мя и 5‑ю пополудни. Дорога в Чикаго входит пятирядная, с бетонными стенками, поднятая над предместьем на уровень крыш и последних этажей. По ней летят, не снижая еще скорости, в пять рядов, как–то умудряясь вылетать на нужных съездах и влетать в редкие просветы между плотно идущими машинами с так называемых «мерджей». (И я думаю: что за американцы в этих машинах? Те, про кого их главный мужчина сказал: «Какими вы не будете»? Ну хорошо, а я‑то что здесь делаю, Анна Иванна Обломова?) Среди автомобилей мчатся гигантские, закрывающие небо грузовики. Между ними иногда вспыхивает низкое солнце и слепит водителей. Следишь за машинами и знаками так напряженно, что не успеваешь взглянуть на город, который разворачивается под дорогой. Над ней и под ней проходят еще другие дороги предгородской развязки, так что временами видишь сразу сотни машин, летящих навстречу, над, вбок… Машины меняют ряды, обгоняют друг друга, как конькобежцы. И такой же вот все время звук: вжик–вжик! Звук скорости. Боже милостивый! И не то что даже страшно, а как–то завороженно. Уж и за ребенка, притулившегося на заднем сидении, перестаешь бояться, а только думаешь залихватски: «Ну, все!!..»
Наш с Вами персонаж заметно поздоровел – мне смешно вспомнить, как подруги говорили: «Ты с ума сошла везти с собой девяностолетнюю старуху – она у тебя умрет в дороге!» А бабушка – как Иван–дурак из «Конька – Горбунка» – прыгнула в кипящее молоко и помолодела. Тут гавайский банан, там флоридский апельсин, глядишь – гипертонии как не бывало. Каждое утро она обходит солдатским шагом наш квартал и пытается заговаривать с соседями.
– Бабушка, они американцы, они по–русски не понимают.
И бабушка сердито говорит:
– Но простейшие–то слова они должны знать!
Я чувствую – в ней живет не исстребленная возрастом уверенность, что она сможет приспособить к себе всякую новую жизнь. Но все мои попытки приспособить ЕЕ к новой жизни разбиваются о боярское, допетровское упрямство. «Халле! – говорит она громко уходящим из дома американцам. И на поправки детей: «Ну вот еще, будете меня учить… Всегда считалось, что «Халле» значит «До свидания» ".
Поехали с бабушкой в здешнюю Ратушу – Горсовет – Сити Холл устраивать ей пенсию – пособие – SSI. Первая в Америке унылая очередь из стариков и неудачников. Комфортабельная, конечно: на всех хватает стульев, тепло, светло, играет тихая музыка. Чиновником, занимавшимся бабушкиным делом, оказался пожилой джентльмен. Я облегченно вздохнула – молодые чиновницы здесь обычно словно зачарованные – в ушах музыка, во рту жвачка, в глазах La dolca vita. Муж говорит про них: «Эти – из страны Донтгиведемия» (От «Don’t give а damn ").[4] На лице же нашего чиновника было написано, что он честен, опытен и доброжелателен. Он не раздражался на тупых иностранцев, а наоборот, старательно выговаривал слова, чтобы я легче его понимала:
– Есть ли у вашей бабушки здесь состояние, счет в банке?
– Н-нет (еще с изумлением).
– В Европе или вообще в какой–нибудь другой стране?
– Нет (уже с огорчением).
– Какие ценности и деньги она привезла с собой? (И, заметив мое поглупевшее лицо, особенно разборчиво): Я имею в виду драгоценности стоимостью свыше тысячи долларов, старинные монеты… такого рода вещи…
(Вот те на! Я думала, что хоть чиновники осведомлены о советском исходе – один чемодан на человека, 90 долларов на нос, 3 серебряных ложки советского производства… Или он тоже думает, что Россия – это в Сибири? Черт подери, мы одна шестая или мы не одна шестая?..)
– Нет, нет, ничего… У нее ничего нет.
Чиновник поднял на меня спокойные, проницательные глаза:
– В таком случае, что же вас заставило привезти ее с собой?
Вот уж действительно.
Когда я занимаюсь английским, я выхожу минут на пятнадцать за дом, на лужайку и пытаюсь загорать. Все это время бабушка стоит в проеме, придерживая металлическую дверь на пружине. Сильные очки делают ее голубые глаза всевидящими.

![Книга Не убий: Сборник рассказов [Собрание рассказов. Том II] автора Елизавета Магнусгофская](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ne-ubiy-sbornik-rasskazov-sobranie-rasskazov.-tom-ii-342542.jpg)
![Книга Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I] автора Елизавета Магнусгофская](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-trinadcat-okkultnye-rasskazy-sobranie-rasskazov.-tom-i-334293.jpg)


