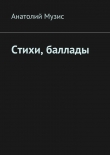Текст книги "Серафима, ангел мой"
Автор книги: Марина Бернацкая
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– А-а…
– Ты чего?
– А-а…
– Больно, что ли?
Он зашевелил губами. Серафима встала, накинула платок – как у цыганки, ей-богу – ладно, перед кем форсить-то, – и вышла, вдохнула промозглую сырость. У самого забора она чуть не провалилась в грязь, еле выдернула сапог, зашагала, пробираясь лужами. Телефон-автомат поставили на углу, один на четыре улицы, Господи, хоть бы работал, придется тогда еще два квартала тащиться в гору… Страшно… Страшно, чего там. Конечно, страшно, и ни души. Как там Ленка говаривала? Изнасилуют и «спасибо» не скажут. Да кому она нужна, старуха, под пятьдесят… Жидкую темень улицы вспахивали шаткие фонари, желтым потолком висело небо – завод светит, луны не надо. Построили сокровище, говорят, там запалы для атомных бомб собирают – чушь, белиберда, наверно, химпроизводство – как ветер к городу, тухлым тянет… Аня – жива она тогда еще была, Анечка, и завода не было, Сима спала, сон бил и ломал, кто-то бормотал – стихи, кажется, слов не разобрать, только звуком било в перепонки – Сима уже проснулась, а в ушах все стучало, стучали в дверь – она вскочила, босиком прошлепала через кухню, прижала ухо к двери; по ту сторону, на лестнице, кто-то вздохнул, и снова постучали, и Сима наконец собралась с духом и пробасила: «Кто там?» – и Анин слабый голос в ответ: «Сим, это я, открой», – она запиналась на каждом слоге, будто задыхалась; Сима отворила, и Аня почти упала ей на руки. На тускло освещенной лестнице темным блеснула лужа – Сима тупо, как через вату, подумала, что это кровь, натекло, пока Аня стучала; Аня привалилась к плечу, шептала: «Только маме не говори, ладно, Симочка, плохо мне, ой, плохо», – тетя Настя вместе с матерью дежурили на телефонной станции, Аня выждала день, думала, никто не узнает, и все обойдется – сказать о ТАКОМ тете Насте – нет, нет, ни в коем случае, ни за что! Разве можно… Позор ведь это, Боже, какой позор, подумать страшно; и как Аня жить-то с таким позором будет, все пальцами начнут показывать, заклейменная теперь; мало, что себя потеряла, еще и по бабкам бегала… Испуг и ужас не пришли; Сима деловито, уверенно и спокойно раздела мокрую от крови Аню, уложила в постель, сама побежала за Ленкой – своя она, надежная, кого еще звать… Ленка кинулась в больницу и на станцию – тетю Настю так и не отпустили; даже мать за нее просила, и то не послушали, не отпустили, так она Аню и не застала, уже утром прибежала… Сима сидела возле Ани, укрывала ее потеплей – та все время мерзла, повторяла: «Знобит, Симочка, ох, как знобит», – и Сима смачивала ей распухшие сухие губы. После вскрытия оказалось – пропорота брюшина, а уж успели бы спасти или нет, того вскрытие не показало… Можно было вылечить, наверно – иначе зачем бы врачиха Аню так выспрашивала… А что рассказывать-то? Как после выпускного тетя Настя отправила Аню в Ленинград к тетке, в медицинский поступать? Деньги прислала тетка, рублей пятьсот, на них и снарядили. Ошалевшую от неожиданности Аню сунули в поезд, и две недели во дворе только и разговоров у девчонок было, как там Аня, да что делает, да с кем познакомилась. Завидовали – конечно, завидовали, но как-то не всерьез, и ждали письма от Ани… А собственно, чему завидовать-то? Знали: есть такой город – Ленинград, на картинках видели, ну, в кино еще, а что там делают, как живут, даже как по улицам ходят… До сих пор Серафима троллейбусов боится, как в область едет, сущее мученье; легче пешком через весь город, из троллейбусов выходит с ног до головы в поту… Ну не привыкла, ну что ж теперь делать? Иван Фомич все над ней смеялся – так, что даже не краснелось, а полыхалось, грудь, спина горела, Господи, за что ж он так ее… В институт Аня не поступила, у нее даже документов не приняли: не комсомолка, а конкурс три человека на место; Аня вернулась строгая и погрустневшая. И новая: понятно – Ленинград!.. Она смеялась, рассказывала, как ходила в театр, да что это за чудо такое великое, а буфет – девочки, вы не представляете, какой буфет!.. А как все одеты в Ленинграде!.. «Не, с кем познакомилась-то», – теребила нетерпеливая, жадная до чужой любви Сталина. Аня отмахивалась: «Да ну вас, дурочки глупые, там питерских мужиков, как наших, один на всех…» Беременность давалась Ане удивительно легко, ее даже не затошнило ни разу, тетя Настя даже не догадалась. Девчонки забегались, в техникум поступали все гуртом, и зубрили все предметы подчистую – ни о чем больше не думали; Сталина еще по привычке приставала к Ане: «Ну расскажи, ну не может быть, чтоб ты там никого не заловила», – Аня переводила разговор на ленинградские красоты, да как там трамваи ходят – «Точь-в-точь каждые пять минут, хоть часы сверяй», – да какая огромная комната у тетки – «Колонка у них на кухне газовая, зажгла – и когда хочешь, тогда и мойся, хоть весь день в ванне сиди, пока соседи не выгонят». Сталина вздыхала: после тренировок она ополаскивалась под умывальником и все равно купалась в запахе, ничем пот не перешибешь, стыдно пойти куда – в кино там, или к матери в столовую – люди кругом, скажут, неряха; даже девчонки Сталины чуть-чуть стеснялись – хотя им-то чего, не от них же дух идет… Бабье лето выдалось позднее, теплым-теплое накатило, береза снизу зажелтела – к дружной зиме, Покров на носу, а еще раздетые ходили… Даже камни в овраге не выстудило, хоть босиком с одного на другой перепрыгивай. Лопухи, вровень с Симой, цепляли репьями за волосы, и не сразу и разглядишь, что внизу, в овраге, уткнувшись в учебник, сидит Аня – что, плачет? Плачет? Господи, чего она?.. Сима сбежала к ручью – промахнулась, влезла в воду, – взобралась на валун рядом, молча вылила полручья из туфли. Что-то зависло над головой, вот-вот упадет – Сима даже подобралась вся. Аня – головы не повернула, только процедила: «Уйди, Симка, лучше уйди от греха». Сима не ушла – чего уходить, если сейчас Аня что-то расскажет, секрет какой-то; помолчать сейчас, помолчать – ничего спрашивать не надо, бестактно это – выспрашивать, выпытывать, Аня сама заговорит. «В ней личная жизнь через край бьет», – ворчала Ленка, выпячивая губы – смешно так. Сейчас скажет… О чем только… О любви, о чем еще… Аня – не Ленка; та скрытная… «Ты любишь?» – Сима наконец не выдержала. Аня резко, зло засмеялась: «Рехнулась? Люблю… Да знала б ты, как это противно – любить, не спрашивала бы. Да где уж там любить. Где уж. Как же. За два дня одно только и успеешь». – «Что – одно?» – не поняла Сима. «Ну, то самое», – Аня поморщилась: «О чем нам взрослые не говорят… Ты, Сим, не вздумай ни с кем, поняла?» Они помолчали; стыдно это было – любопытничать, с головы до пяток стыдно, и любопытно – нет, ну до чего любопытно было, не стерпеть, вот будто мягко, тянуче и душно вокруг, как в киселе, и жевал и тискал грудь стыдно-телячий восторг: «Как же ты решилась…» – «Как?.. А вот взяла, и… Нате вам. Решилась. Там один лейтенантик поступал, фронтовик, в приемной института познакомились. В театр пошли, а после к фронтовому товарищу. К товарищу… Противно это, Симка, до рвоты противно. И больно – сил нет», – Аня говорила, Сима ошеломленно слушала. Любовь – и противно?! Аня что-то путает. С ней что-то другое случилось, не любовь. Нет. Любви жаждала Лиза на старой заезженной парижской пластинке: «Ох, истомилась, устала я, ночью и днем – только о Нем…» И это – больно и противно?! Нет, нет, ерунда. Аня теперь – женщина?!. Не может быть, она что-то путает… Сима жадно вглядывалась в Аню, искала перемен – Аня должна теперь как-то измениться, во всех книгах об этом говорилось. Но как?.. Нет, что она рассказывает – что рассказывает!.. Любопытство жгло и ело щеки, хоть спички зажигай. Ах, Господи, так вот что, оказывается, происходит! Вот оно что значит: женщиной стать, а она о себе ничегошеньки и не знала; в первый раз – вот оно, выходит, как… «Утром тетка сама все поняла, она мне и рассказала, что к чему. И чего потом бояться надо… Ты, говорит, бабку тогда найди, чтоб мать не знала. Есть такие бабки, они делают. А у меня уже два месяца… Поняла? Теперь придется брошку материну нести, скажу – в кино потеряла, расстроится, конечно… Тетка все ее ругала, мол, сама непутевая, походя родила, и меня не научила, хоть бы намекнула, что к чему», – Аня обхватила голову руками; она смотрела в ручей, в одну точку, в незаметный камушек на дне, и повторяла: «Раньше бы знать – ох, Симка, если б раньше!..» Сима заплакала – и просто за компанию, как в детстве, и до смерти вдруг стало жаль себя, и Аню, и страшно стало, и до рези в животе завидно. Аня вдруг вытерла слезы: «А что – раньше? Да все равно пошла бы с ним, да просто, может, у меня, как у матери, в жизни больше ничего такого никогда не будет! Никогда, понимаешь? После войны женихов на всех нас разве хватит? Спросил: любить меня хочешь? Что отвечу: не хочу любить, да? Это любить-то не хочу?! Да я сколько себя помню, о том только и думаю! Кто ж знал, что любовь – это так?..» – Аня помолчала, тихонько запела: «Пойду ль, выйду ль я в Гефсиманский сад». – «В какой еще сад?» – не поняла Сима. «В Гефсиманский. Из Библии это». – «Ты чего, верующая?» – поразилась Сима. «Да нет, когда-то нам Сонина бабушка рассказывала, вот, вспомнилось. А ты что, забыла?» – «Вот еще, глупости всякие помнить…» – «А-а… А мне что-то одни глупости в голову лезут… А тебе-нет?..» – Глупости – и так некстати сине-черно-красный паркет калейдоскопа, волшебная игрушка – отец покупал; Аня приходила к Симе и разглядывала бесконечную новость-новизну узоров, любила она все новое – осторожно-бережно поворачивала калейдоскоп, что-то шептала; трогать его Сима разрешала только Ане – под страшным секретом, мать хранила отцовские вещи как зеницу ока: китель, гимнастерку, старую бритву – когда уезжали, в Сталинабадском торгсине остались часы, браслет, кольца, все отцовские подарки, зато денег хватило и на билет, и на жизнь первое время, пока мать не нашла работу на телефонной станции. Шестого января, в день рождения отца, и семнадцатого марта, в день его гибели, мать доставала калейдоскоп и ласково-бережно брала его в ладони, держала так минут пять, вздыхала и, воровато оглядываясь, прижимала к груди – Симе становилось неловко, будто мать делала что-то неприличное, хотя что происходило-то, если разобраться? Подумаешь, игрушку взяла… Но почему-то все перевертывалось, вертелось, как в калейдоскопе, в руках у матери калейдоскоп вдруг превращался в какой-то непонятный символ, и Симе казалось, что мать, закрыв глаза, молится – молится на картонную трубку с горстью стекляшек внутри… Красивые узоры в калейдоскопе складывались, сине-черно-красные, и еще зеленое стеклышко было, бирюзовое такое, как глаза Анины – Аня умирала. Сима сидела рядом, а полуодетая Ленка, накинув поверх рубахи ватную фуфайку, бегала по городу… Привела она Ольгу Петровну из железнодорожной больницы – та жила в городе, на станцию каждый день ездила, за двадцать километров. Ольга Петровна сразу поняла, в чем дело, наскоро посмотрела Аню, уселась рядом: «Ну, выкладывай, кто тебя так». Аня разлепила губы: «Никто… Сама…» – «Не ври. Так кто же?» – «Сама… Честно, сама…» – «Ну, вот что. Не скажешь – спасать тебя не буду». Сима не поняла: зачем ей знать, с кем была Аня? Те двое – в Ленинграде, не найдешь их, не накажешь – или что, завидует ей врачиха? Завидует, точно: вон, глаза какие злые; не замужем, и не любила никогда, вот и завидует… «Вы чего спрашиваете?» – Сима заговорила почему-то шепотом, она до сих пор при врачах шепотом говорит: «Вы в больницу ее… Это в Ленинграде Аня, там лейтенант был…» – «Да не об этом я, вы что, не понимаете?» – оборвала врачиха: «Я спрашиваю, кто ей аборт делал – вы что, не поняли?» – «Господи», – всхлипнула обычно сдержанная Ленка: «Неужели и я так?..» – «Нашкодишь – будешь», – буркнула врачиха: «Урок вам, идиоткам. Будете знать, как шляться». Ненавидела она Аню, во всю мочь ненавидела; и пытала – долго, и тормошила, спрашивала… Ленка не выдержала, завизжала – тонко-тонко, как щенок: «Да повезете вы ее?..» – «Скажет, кто – повезу». Аня так и не сказала, все повторяла: «Сама, сама», – и до конца держала Симу за руку, а потом всхлипнула – и все. Вытянулась как-то судорожно. Легко так все произошло. По-игрушечному, как ненастоящее. Ни стонов, ни криков. Вот раз – и будто кукла лежит, смешно даже. Господи, смешно, ну смешно же, ну разве никто не видит, как смешно – ой, как Сима хохотала, даже заболело все, и чего они так глядят, Ленка, и врачиха – Ольга Петровна дважды наотмашь ударила Симу по щекам, «Принеси воды», – Ленка кинулась на кухню, потом говорила – ничего она сперва не сообразила, думала: Аня уснула. «Вот чертовы девки», – врачиха достала портсигар: «Из нас за каждый криминальный аборт душу вынимают, а они…» – она махнула рукой; Ленка ошалело глядела на папиросу, на мертвую Аню, потом вдруг стиснула кулаки и начала наступать на врачиху, та попятилась: «Ты чего, чего, ну-ну, спокойно», – и Ленка кричала что-то, не вспомнить – крикнул, что ли, кто-то, а может, тормоза взвизгнули, да, кажется, «скорая» это, калитка отворена, сами до порога дойдут, не хочется в грязь выходить.
– Я к вам уже в третий раз приезжаю, женщина, у нас же вызовов полно, – он произносил: вызовов, – нельзя так, в самом деле, нас бы пожалели, тридцать вызовов за ночь, ну мыслимо так работать, нет, уйду отсюда, ей-богу, уйду, на завод, в медсанчасть, надоело, третья ночь кувырком, и деньги-то плевые, – он кинул пустую ампулу в блюдце.
– Долго?..
– Что – долго?
– Я спрашиваю: долго мне еще?..
– A-а… Не знаю. Может, день, может, неделю… Точней никто не скажет. Теперь часа полтора проспит, да вы сама-то ляжьте, женщина, нельзя же так, сморит ведь…
Анины сороковины справили тихо, только девчонки и пришли после занятий, а из соседок никого не было. Из техникума Сима возвращалась коротким путем, через проулок – страшно там, и темно, и Сима спешила пробежать, пока испугаться не успела, и увидела Талку: в мокром грязном снегу она стояла на коленях, мелко крестилась, прикладывалась к церковной апсиде, целовала грязную облупившуюся штукатурку; все пять церквей в городе закрыли еще в революцию, а после войны над ними водрузили фанерные красные звезды – Сима растерянно стояла возле Талки, переминалась с ноги на ногу, и Талка делала вид, что не замечает ее; наконец Сима произнесла: «Тал, ты что, богомолка?» – Сталина оглянулась: «Ну, молюсь, ну и что? Мать сказала – надо, за упокой души. Глупая, да?» – «А молитвы откуда знаешь?» – строго спросила Сима. «Откуда, откуда… Да всегда знала… Помню я, что ли, откуда знаю…» Сима знала, Сима всегда знала, что большим умом Талка не отличается, но что она так легко может пойти по кривой дорожке… Сима задохнулась от возмущения: «Вот возьму и расскажу всем – да-да, всем расскажу!» – Она почти закричала: «Надо же – комсомолка, и молится! Да как тебе не стыдно, Антонова!» – Она вскинула подбородок и зашагала по проулку; Талка кинулась следом, забегала вперед, хватала за рукав: «Сим, ты это… Не рассказывай, ладно? Не буду я больше, вот честное комсомольское, не буду, ну первый и последний раз, ну бес попутал… Нету Бога, нету, ладно… Ну хочешь, я тебе свое вечное перо подарю, а?..» Сима шла, насупив брови: нет, мало того, что Талка молиться вздумала – она ее еще и подкупить хочет! А Сима-то ее всю жизнь подругой считала! Вот как людей-то узнаешь! Почти у самого дома Талка вдруг остановилась, сплюнула в снег: «Да хоть кому рассказывай. Хоть Мигуновой своей, кому хошь. Одного вы с ней поля ягодки. У-у, гадины, ненавижу вас…» За стол они с Симой уселись в разных концах, друг на друга не глядели – они вообще после этого не разговаривали; тетя Настя поставила на комоде увеличенную Анину паспортную карточку с уголком, уронила голову на руки, причитала: «Девонька моя, девонька», – потом обвела комнату сухим взглядом, тихо сказала: «Берегите себя, девки; ничего нет в мужиках, горе одно. Друг друга держитесь. Мужики, они не помогут, в гроб сведут». Соня плакала, уткнувшись Ленке в плечо, та нервно гладила ее по спине, и Соня плакала еще сильнее, а Ленка хмурилась, кусала губы. К весне горе подзабылось, размягчело, и опять гурьбой бегали готовиться к экзаменам в овраг. На Соню накатывал очередной выпендреж, она учила девчонок французскому, хотя сама знала лишь: «ано пляс, дан ля кляс, эн увраж дю кураж» – кажется, это означало: «за наши места в классах, за работу смело». Соня заставляла Ленку и Симу повторять раз десять, тренировать произношение, сама вытягивала губы трубочкой, и вдруг заливалась звонким хохотом. После надоевшего немецкого французский казался куда вкусней, и первые два дня Сима с удовольствием повторяла вслед за Соней: «ано пляс…» – но потом как-то приелось, и Соня сердито топала ножкой и ругала Симу невеждой и лентяйкой. Раз как-то Соня в овраг припозднилась. Июнь поджаривал, Сима с Ленкой стащили платья и расположились на берегу загорать; Ленка развеселилась, схватила Симин учебник, сделала вид, что вот, сейчас утопит – как Аня, бывало – Сима закричала: «Отдай, библиотечный!» – схватила Ленку за руки, они начали бороться, Ленка сильней оказалась, конечно, ну и здорова же она, уложила Симу на лопатки – та кричала: «Справилась, да?» – весело возились, как при Ане – и вдруг Ленка как-то посерьезнела и прикоснулась к Симе, легко-легко, жестоко, бесстыдно, как обожгла – Симу бросило в жар, схватило за горло, не вздохнуть; бледная Ленка жадно, во все глаза смотрела на нее, и мелко-мелко дрожала, и спросила тихо-тихо: «Хочешь еще?..» – Сима не успела ответить, она вообще не успела сообразить, что произошло; откуда-то, рыдая взахлеб, выскочила Соня, закричала: «Я давно знала, знала!» – налетела на Ленку, ударила по щеке, скорчилась, упала на песок; Ленка нагнулась к ней: «Ну чего ты, я пошутила, ну хватит», – Сима оделась – платье вывернулось наизнанку, она не заметила, так и шла по улице… А ночью пришел сон – странный и бессовестный, наползло и раздавило что-то нестерпимо, варварски сладкое, выворачивало душу – до самого темного, звериного дна; зверь, веселый и постыдный, выныривал из бессознательной тесной глуби, рвался наружу, вон – не удержать, нельзя, ярого, дикого – нет, нет, – а-а!.. Сима застонала во сне, хрипло, громко. «Ты чего?» – перепугалась мать. «Душно, наверно», – Сима мелко и часто дышала, ошалело колотилось сердце, перед глазами плыли желтые и оранжевые круги. Боже, какой ужас! Стыдно-то!.. Душа заныла тяжко и муторно, тоска и позор подступили к постели. Все. Жизнь кончена. Серафима не спала всю ночь, утром торопливо собралась в техникум, шла по улице, опустив глаза, на занятиях забилась на последнюю парту – только чтоб не видели, чтоб никто не понял, какой ужас приходил ночью. Порок – вот оно, слово, Серафима нашла его; испорченная, испорченная до мозга костей. Похотливая кошка – точно, так и есть. Нет, наверно, она больна. Психически больна. Не может же нормальный человек испытывать все это… У нормальных – радость в труде, в семье, в детях, ну, в любви еще. Но чтобы захлестывал, перехлестывал через край, топил, убивал огненный стыд… Ей надо лечиться, обязательно надо! Нет: идти к врачу, говорить о ТАКОМ… Лучше сразу умереть! Нет! Ни за что! Нет! Нет! А все Ленка. Ленка виновата. Она. Дрянь. Оголтелая дура. Стерва. Сумасшедшая. А если кто про нее, Серафиму, узнает, что тогда? Камнями ведь закидают, и выгонят, выгонят, и куда она пойдет после этого? А мать – убьет мать-то!.. Дочь красного командира – и нате вам… Жить-то теперь – как?.. Никому, никогда… Не проговориться… Может, обойдется еще… Но оранжевый сон не отставал, нагло подмигивал из скрипучего сугроба на предвечерней улице, назойливо стучал ручьем в бело-сиреневый лед, и она старалась избегать людей, держалась ото всех подальше; подруг как-то не осталось, Мигунова после техникума собралась в институт поступать, день и ночь к экзаменам готовилась; Сталину оставили в школе преподавать физкультуру; Ленка с Соней завербовались на Север, в Норильск, кажется, мать говорила – за женихами, вздыхала: «Хоть бы и ты куда поехала, не вековухой же куковать». Не могла, не могла Серафима, не имела права, не дай Бог – выдаст себя, а как объяснишь матери, ну как объяснишь?.. И вообще, кому скажешь?.. Раньше она разговаривала с куклами – ей казалось, куклы заколдованы, и потом, позже, когда открыли универмаг, она до смерти боялась магазинных манекенов, те таращили нарисованные, с огромными зрачками, глаза, стояли, вытянув руки, и странно растопыренными пальцами пытались дотянуться до Серафимы, и она поспешно отходила, и ждала, что вот сейчас расстегнутся булавки, которыми скреплены манекеновы платья, упадут сработанные из пакли парики, и голые лысые чудовища оторвут от пола подошвы навечно впаянных в ноги «лодочек» и зашагают к ней, и не справишься, не ударишь, им не больно… Дома, ночью, когда гасили свет, манекены вновь обступали Серафиму, она металась на постели, а манекены кружились в странном механическом танце, натужно дергались, сплетались, и Серафима видела – как со стороны – себя среди них, она тоже манекен, кукла… Ночному сонному небытию на смену шло утро – чудовищно покореженные, как гигантская груда металлолома, иксы, синусы и параллелограммы, железно-неумолимо схватывали Серафиму и швыряли в свою выдуманную, сроком в сорок пять минут, жизнь – после техникума она преподавала в школе математику – и не поймешь, где жизнь, где нежить, как детская считалка: жить-нежить… Ночные кошмары вечерами ждали и прятались в темных углах комнаты, Серафима усаживалась за конспекты и что-то черкала в тетрадях далеко за полночь; мать ворчала: «Только электричество зря переводишь», – а Серафима потихоньку пробиралась к постели, тихо, незаметно, и может, сегодня она, и вовсе не заснет, есть же люди с бессонницей, и видела изуродованную куклу, и открытый гроб в овраге, рядом плескался ручей, Господи, да это Ленка вместо куклы, и можно ее сломать, задушить, вот так, с силой – Серафима стискивала пальцы у Ленки на горле, а вдоль спины будто кто пускал ток, и вновь накатывало жуткое упоение, два, три раза за ночь… Никогда не думалось, что убить – это тоже ТАК… Сродни… Недаром великий позор, и кара для убийц страшная. Выходит, и она ничем не лучше убийцы. Такая же дрянь. Народу в городе прибавлялось, начали строить завод, километрах в десяти. Строили зеки, Сима раз видела одну зечку, все руки у нее были в наколках – тоже, наверно, убийца, недаром сидит, уголовница… Девчачью школу преобразовали в общую, отдали еще два здания, соединили переходами в одно; учителей не хватало, Серафима вела географию, пение, рисование; занимались в три смены – где уж там на кладбище к Ане сходить лишний раз… И так-то в год под исход ходила. Девчонки бывали у Ани почему-то все врозь – боялись, что ли, друг друга… Старое кладбище заросло крапивой в рост человека, она почти не стрекавила, и Серафима шагала напрямую, через пустырь; на могиле она оставляла букет самодельных бумажных цветов, стояла с минуту – просто не знала, что еще тут нужно делать – и уходила. Галкину тайну она узнала случайно, кто же мог подумать, что и Ать-Два тоже что-то мучило… Мигунова стояла меж могил – что она там делала? С Аней они никогда не дружили. Серафима собралась было окликнуть Галку, но тут она вскинула голову и забормотала: «Умирайте, умирайте скорей, подыхайте, старые дуры, и тогда на земле останусь я одна, прекрасная, свободная и счастливая!» Она повторила это раз двадцать, улыбнулась, а потом ее как выключили – Галка ссутулилась и побрела прочь. Выходит, Мигунова себя красавицей в зеркале видела – Господи, с ее-то лицом! – просто ей кто-то очень мешал… Теперь Симе все понятно стало. И вправду, в дурдом Галку отвезли очень скоро, месяца не прошло. Говорили, переутомилась, перезанималась в институте. И правильно; разве скажешь кому: у комсомолки, активистки – такие ужасные, жестокие мысли… Страшно… С Галкой сделалось что-то по-настоящему страшное, жуткое, неумолимое… Со Сталиной не так, там все проще, да и потешней. В школе о ней говорили шепотом, с оглядкой на дверь – не услыхал бы кто… Талке доверили везти ребят в областной образцово-показательный пионерлагерь – разве думал кто, что так выйдет?.. Мальчишка, которого она там завела в бельевую кладовку, был чужой, не то из Чебоксар, не то из Москвы, лет шестнадцати, уже успел догадаться, что к чему. Нет, если бы Серафима встала на педсовете и рассказала о том давнем случае – ну, как Талка молилась тогда – все бы, наверно, обошлось; одно к одному – оно вон как складывается: сначала на церковь поглядываешь, потом… Кривая дорожка – она ясненькая! А ведь постеснялась, да и забыла почти; а чего стоило – подойти потихоньку к директрисе, если при всех-то застеснялась… Завуч, Изабелла Сергеевна, высокая крашеная блондинка – почему-то при виде Серафимы у нее наступал приступ откровенности – отвела ее в сторону, зашептала: «Представляете, после всего – ну, того самого – Сталина спрашивает: тебе понравилось? Естественно, мальчик отвечает: конечно, понравилось. Ну тогда, говорит, зови всех остальных Он и позвал: и первый отряд, и второй. Представляете, ужас?.. Сталина наша обслужила человек двадцать, тут ее и застигли – воспитательница», – завуч подняла палец, – «Я всегда говорила: и обучение, и пионерлагерь для девочек и мальчиков должны быть раздельными, и уж никаких лиц другого пола рядом присутствовать не должно. Нас ведь с вами совсем не так воспитывали, правильно, Серафима Игнатьевна?» – и Серафима кивнула: «Да, нас воспитывали совсем не так…» Скверно было на душе: перебори она себя, заговори о Талке, вспомни вовремя о церкви той, и не было бы этого позора всенародного, и на школу бы пальцами кому ни лень не показывали: учительша в дурдоме… А интересно, живы они сейчас, Галка со Сталиной? Вон как все получилось – Серафима за Ивана Фомича вышла… Чем все еще кончится… А Талкина мать от позора вслед за дочерью, в область, уехала, и вещи бросила, и все – да, времени прошло… Пьяное время – пьяное, спотыкается, и мотает его из стороны в сторону, гигантские, в небо, часы без стрелок, и небо – мимо-мимо, галопом: день – ночь, день – ночь, быстрей, быстрей, не остановишь, только где-то за углом прячется новый директор школы в мягких тапочках, и по вечерам, когда в учительской остаются поболтать одинокие и неприкаянные, тихонько подкрадывается к двери и подслушивает – может, и сейчас кто-то слышит мысли, и подслушивает, подглядывает потихоньку, шпионит за ней, дрянь такая, я тебе покажу, чужие мысли нельзя воровать, стыдно, все спят, Иван Фомич спит, и веки не разодрать; Серафима клевала носом, смотрела в предрассветное окно – оттуда на нее падал крест – может, рама? Оконная рама? – Крест, крест, Боже, спаси, Боже, спаси! – Крест, колокольня, а-а, наклонилась, наклонилась, упадет! – Страшно, Господи, как страшно, в фундамент, вжаться в фундамент, бежать – успею, успею, а-а, двери, вот они!..
Дверь захлопнулась, ударила спинкой стула; Серафима машинально привалилась к стене.
Тихо, как в церкви. Как… где?.. Да, в церкви. Странно, никогда здесь не была… И никого. Справа, слева – два ряда икон, как старинные портреты. Или это и есть портреты? Нет, иконы. Двухперстные сложенья над распахнутыми Библиями. Яркое желтое пятно где-то далеко – алтарь: морочный неверный свет под низкими арками сводов.
– Исповедаться, дочь моя?
– А? Что?
– Говорю: исповедаться?
– Нет.
– Напрасно. Облегчает душу раб Божий во храме.
– Бога нет. И души нет.
– Душа в пятках.
Он что, пьян? Точно. Пьян. Коричневый костюм-тройка с невпопад застегнутым жилетом, жеваная рубаха – спал, что ли? Ах, да, сегодня праздник, вон, глаза пьяные и веселые; золотая цепочка на жилете – часы, небось, тоже золотые… Чего ему надо, уйди, поп, уйди, пошел, говорю, двигай – я в Бога не верю…
– Исповедуйся, дочь моя, – наклонился, дыхнул сивухой.
– Я вам не дочь.
– Ну, сын мой.
– Прочь подите, вы пьяный.
Коротко, хрипло хохотнул – нет, проквакал:
– Получала ль ты когда-нибудь письма, дочь моя?
– Нет. Ни от кого.
– Бедненькая… Никто не писал?
– Не ваше дело.
– Ам-минь, – он икнул. – Аминь, говорю. Ты меня оскорбила. Во храме. Взяла вот, и оскорбила. А я чего? Смиренный я; ты оскорбляй, оскорбляй – мне плевать. Начхал я, поняла? – Он сунул руки в карманы пиджака, растопырил полы, поклонился, чуть не упал: – Господи Иисусе, сохрани равновесие… Ты не смотри, что я выпил. У меня, может, тоже грех за душой. У тебя ведь грех, утешенья страждешь? Прощенья, а?
– Сдалось мне ваше прощенье…
– А чего? Да ты исповедуйся, легче станет.
– Вы… Вы Иван Фомич, я вас узнала.
– Да ну?
– С чего это про грех-то заговорили? А? С чего?
– Мало ли… Взял вот, да заговорил…
– Вы ведь не умерли еще?
– Э-э, нет, так дело не пойдет. Слушай, – он поднял палец: – Ты чего сюда пришла? Исповедаться, так? Правильно, за тем во храм и ходят. Так давай, на всю катушку. Гони монету. Деньги на бочку – и-эх, сарынь на кичку! – глаза его блеснули: – Не, это я чего-то спутал… Ну, не гуди, гр-рю! Мудрость такая есть: пришел в баню – раздевайся. Кто-то древний сказал. Великий был человек, упокой, Господи, душу его… Последний раз спрашиваю: исповедоваться будешь?
– Буду! Да! Да!
– Во. Правильно. Только без истерик. Жизнь есть сон. Кто-то сказал. Неважно, кто. Пошли.
– Деньги что, вперед?
– Какие там деньги…
– Сколько?
– Триста. Новыми.
– Спятил, что ли?
– Ну, двести. Пятьдесят.
– Так двести или пятьдесят?
– У тебя, дочь моя, с собой сколько?
– Ничего. У вас все. Вы ведь Иван Фомич.
– И опять ошибаешься. Чего ж пришла, раз без денег?
– Вот, – Серафима достала из кармана смятый рубль.
– Хм, так… Завалялся, выходит… Ладно, из уваженья только. Вот и пришли.
Они с Места не тронулись – откуда-то появились и обступили старые больничные ширмы из процедурного кабинета, грязные, подвязанные марлей – загородили сзади, справа, слева.
– Позвольте представиться: Вольдемар. Мой псевдоним. В миру я – Александр. В антракте, так сказать. Вольдемар. Дамам нравится. – Звякнул цепочкой, щелкнул крышкой часов: – Секундомер. Ношу секундомер, часы по нынешним временам ни к чему: день, ночь – все летит куда-то, не угонишься, да и какая, собственно, разница, день или ночь… А секунды – это твое… Ну-с, начнем, – он уселся на пол. – Прошу садиться. Итак, не занимались ли вы психопатоложеством, дочь моя?
За ширмами захихикали, через дыру к Серафиме просочился чей-то липкий взгляд.
– Господи Иисусе, ну что такое, никак не дадут с человеком по душам поговорить, – Вольдемар поморщился и встал.