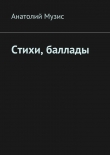Текст книги "Серафима, ангел мой"
Автор книги: Марина Бернацкая
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Марина Бернацкая
Марина Бернацкая
СЕРАФИМА, АНГЕЛ МОЙ
Повесть
БЕРНАЦКАЯ Марина Степановна. Участница трех Всесоюзных семинаров молодых писателей, работающих в жанрах приключений и фантастики. Ее рассказы печатались в журналах «Вокруг света» и «еш куч» («Молодая смена», г. Ташкент). Повесть «Серафима, ангел мой» – первый опыт Марины Бернацкой в «нефантастической» прозе.
Над городом летел хрупкий сентябрь – невесомый, стеклянно-прозрачный; искрами впивался в губы, сердито целовал густой воздух, под ноги сыпалась кленовая дребедень; ночью схватили заморозки, и в траве, под фундаментом, прятался от ярко-синего солнца осторожный темный иней, и надо было, конечно, надеть пальто, но смять белый крахмальный фартук – нет, никогда, ни за что; Серафима переступала туфельками, балериной перепрыгивала лужи и вновь бежала по улице, и вот, вот сейчас, за углом – там будет Он, да, Он, посмотрит на нее и подумает: какая красивая девушка, или нет, лучше не так: Он догонит, пойдет рядом, и спросит: а как вас зовут, а она ответит: угадайте, и Он скажет: Таня? – нет, тогда, может, Оля? – опять нет, все равно не угадаете, а-а, знаю, вас Сима зовут, конечно, Он давно уже все о ней знает, тайком расспросил всех подруг, и оказывается, Он каждый вечер стоит у ворот, ждет, как Германн в «Пиковой даме», или нет, лучше так: Он уже виделся с ней когда-то давным-давно, как князь Андрей с Наташей Ростовой, и Он скажет: какие красивые у вас волосы, и она рассердится – понарошку, конечно, и перекинет косу за спину, и вновь побежит – нет, полетит вверх, вверх, выше улицы, выше домов, вот так – оттолкнется от тротуара, и – дух захватывает, летит, – ветер, и фартучные крылья бьют, или это занавески вздыбило, интересно, чего они вдруг, наверно, ветер, вон, и фонарь замотало, желтый фонарь, тусклый, перегорает, что ли, и дождь на стекле какой-то линялый, надо форточку закрыть – Серафима встала, грузно привалилась животом к подоконнику и опасливо-брезгливо покосилась на кровать, где умирал Иван Фомич.
Пыльный свет голой лампы тяжело падал на табурет, мензурка с торчащей пипеткой почти не давала тени; на старом куске зеленой клеенки валялся клок ваты – наверно, «скорая» забыла, встать бы, выкинуть – да ладно, пусть, потом все равно убираться придется… Интересно, потом – это когда?.. Уличный фонарь растекся по окну в мокрые косые капли. Сизый дождь всю неделю уныло шлялся по городу, натужно надавливал на стены – с северо-запада, и город захлебывался лужами, поддавался дождю и медленно отступал в ноябрь. Комната повернулась к Серафиме другой стеной – детский кубик с картинками; перед лицом возник и навис над головой грузно-самодовольный шкаф, так, костюм есть, поношенный, правда, ну да пусть, не жалко, все равно в комиссионке за него больше тридцатки и не запросишь… Что еще понадобится? Рубашка – есть, белая, ни разу не надеванная. И тапочки. Господи, какой у него размер-то? Сорок третий, а может, сорок четвертый? Вечно себе все сам покупал, без нее… Да он что, ходить в этих тапочках будет – кто проверит-то… Хотя – Аню хоронили – дверь держали нараспашку, поглазеть лезла вся улица, полгорода перебывало, еще бы, слетелись на грех, как мухи на навоз, аж рты от любопытства пооткрывали, только что ногами не сучили… Старуха там еще была – Господи, как ее звали-то?.. Кто же тогда сказал, что это к ней Аня ходила?.. Кто-то сказал ведь, по секрету, чтоб тетя Настя не услышала, – и откуда только прознали, небось придумали, Аня – она до конца молчала… Да, окно царапали голые ветки, чахлая сирень во дворе отворачивалась от промозглого ветра, стучалась в дом, да, и гроб стоял на столе – очень высоко, там у них был какой-то особенный стол, сами невпопад сколотили, в магазине брать – прокупишься, вот тетя Настя с Аней и настолярничали, а потом решили не прикорачивать, боялись, уменья не хватит, Аня бегала с ножовкой, кричала на весь двор: «Велика у стула ножка, подпилю ее немножко!» – тетя Настя вышла из сарая, отняла пилу… Девчонки сидели на топчане, Аня называла его – тахта, любила она все приукрасить, какая там тахта, положили на доски старую телогрейку да ситцем обтянули… Старуха подошла, повернулась к девчонкам спиной, полезла в гроб – сперва никто не понял, чего ей нужно; старуха покачала головой, почмокала губами, что-то сказала тете Насте – та вспыхнула, отвернулась; старуха исподлобья зыркнула на девчонок и отошла, зашушукалась с соседками, те хором закачали головами: «Негоже, негоже», – потом кто-то сказал, осуждали, что, мол, Аню в гроб в полном облачении положили, и Ленка бешено стискивала зубы: «Ах, трусы – не по-христиански?.. Как девок калечить, так по-христиански, а как суке этой старой не угодили, так – на тебе?.. С-сволочь, гадина, явилась, б...., и ноги не отсохли, я ей сейчас…» – Талка завела ей руки за спину, Сима навалилась на Ленку, почти пригнула – так просидели чуть не час, у Симы все плечо онемело. Нет, ну что этим бабам было нужно, что нужно? Ладно, если кто Аню знал, так нет же, понабежали – откуда взялись, и ведь ничего на поминках не было, ничего, чем кормить-то – спасибо, кто-то трех кур продал… Господи, ну кто их придумал, эти обряды, похороны… Ну зачем это все, зачем? Ошалелое мученье, тупо болит голова, и надо с Аней прощаться, а это теперь и не Аня вовсе, а так – что-то, и совсем на Аню непохожее, лежит – и все равно ей, как кукле, стоит рядом кто и причитает, или нет. Что-то ненастоящее – бесконечные минуты, все поминки, поминки, похороны, похороны… Тупое, медленное, распухшее время… Гроб из морга привезли рано, еще девяти не было, а похороны назначили на два. Талка, самая сильная, – одна, никто не помогал – сняла крышку и поставила ее почему-то наоборот, наружной стороной к стене. Изнутри крышку обили чем-то белым, светлым таким, и Сима удивилась: зачем? Все равно ведь Ане внутри темно будет. С изнанки крышка виделась тесной-тесной, и совсем не по размеру, и глупо подумалось: задохнешься под такой, непонятно, что ли? Заплакала Сима только на кладбище, когда закрыли гроб, – но ведь не Аню хоронили, так? Да не по Ане она и плакала, просто вот жалко стало чего-то, до слез жалко – может, себя, может, и Аню… Нельзя так – взять и похоронить, закопать, это как с игрушкой расстаешься, играли они с девчонками в похороны куклы, давно играли, классе во втором, похоронили – и чур-чура, не откапывать, даже место это камнями завалили, чтоб все как на самом дела, взаправду – и сейчас в гробу кукла, ненастоящая и непохожая; смешно – вроде бы взрослые люди вокруг, а играют, как маленькие… А на кладбище все оказалось – быстро-быстро, оглянуться не успеешь. Постояли, гроб опустили, засыпали – и все. Похоронили – захоронили – запрятали: и – нет нигде, чур-чура… К Ивану Фомичу небось тоже кто попало набежит, однополчан наберется – на три дивизии, поди проверь, в самом деле с ним кто воевал, или просто так, с улицы… Говорят, можно поваров из столовой помочь пригласить… Для Ани тогда все вместе кутью варили, любили Аню, красивая она была, Анечка, самая красивая, Господи, как Сима ей завидовала, завидовала-то как! Хватала зеркало, убегала в чулан, там подбиралась к самому оконцу, под потолок, крепко-накрепко зажмуривалась – вот, вот сейчас, глянет – и не рыжие глаза, а зеленые, как у Ани, с бирюзовыми затейливыми прожилками, с темным ободком – не глаза, а чудо расчудесное; самая красивая она была, Анечка… Тетя Настя привезла ее из санатория, удивительный это был санаторий, где выдавали детей – Сима приставала к матери, клянчила, давай поедем, может, повезет – дадут братишку; мать отшучивалась, мол, тот санаторий давно закрыли, стеснялась она с Симой на эти темы говорить – стыдливая она, мама, даже в баню не ходит; сколько Сима помнит, по субботам мама нагревала на печке полный бельевой бак воды, накрепко запиралась на оба засова, и они мылись – сначала Сима, потом мать – Симу она прогоняла в комнату. «Дай, спину потру», – кричала через дверь Сима, но мать торопливо отвечала: «Не надо, я уже, уже», – и шумно поливала себя из ковша. В праздники иногда приходили соседки – мать в гости ходила редко, жену красного командира, ее уважали все во дворе, уважали чуть подобострастно, и мать принимала это как должное – «Ты как королева», – восторгалась Сима, и мать отвечала: «Просто достоинство имею». С глотка-другого «бабьей радости» – какой-нибудь сладенькой наливки, гостьи начинали жаловаться – мать всегда слушала молча, не встревала, только поддакивала. «Годы уходят», – женщины вздыхали: «Чертова война, всех мужиков отняла, ну хоть бы один завалящий остался…» Девчонок выгоняли за дверь, и они жадно подслушивали в щелку, как Симина мать цедила медленно и свысока: «Моего тела не видел никто, никто», – и кто-нибудь посмелее укорял: «Ой, Валентин-Матвевна, грешите, матушка – Симку-то что ж, в капусте нашли?..» Мать презрительно кривила губы, а Сима вылетала на середину комнаты: «Меня из санатория привезли!» – женщины покатывались со смеху, мать отвешивала Симе оплеуху и ставила в угол – меж старых покривившихся стен, лет в полтораста, обои сморщились и приотстали, цветы на рисунке сбились и наползали друг на друга, собирались в самом углу в кривой букет. Стоялось скучно, взрослые уже говорили о неинтересном, Сима скоро начинала хныкать и царапать обои, мать кричала: «Перестань, порвешь, негодница!» – переклейки и прочей грязной работы мать чуралась, да и не пристало жене командира возиться в пыли, в ремонте ей кто-нибудь из дворовых женщин помогал, – мать отправляла Симу назад к девчонкам, за дверь, а там Ленка уже успевала нарисовать углем усы, грозно топала и басила: «А вот папа пришел», отец ее был врагом народа, они вместе с Сониным отцом по одному делу проходили, странно оно называлось, крякающими непонятными буквами: Ка-Эр-Тэ-Дэ. «Контрреволюционная троцкистская деятельность» – это уже в школе учителя разъяснили. Некрасивые какие буквы: Ка-Эр-Тэ-Дэ – будто молотком тебя по голове через подушку. Стыдно, наверно, по такой статье сидеть, за контрреволюцию… Талкин отец погиб в сорок третьем – да на их улицу с войны, кажется, одна Клавдия вернулась, а все – кто погиб, кто без вести пропал… Своего отца Сима не помнила – его убили, когда ей было два года. Жили они где-то в Средней Азии, под Сталинабадом, кажется, – мать рассказывала, басмачи налетали каждый вечер, домик был крошечный, в комнату, и когда начинали стрелять по окнам, мать хватала Симу, ложилась на пол, закрывала собой; вся спина у матери была поранена осколками стекла, и по утрам, пока мать спала, Сима осторожно трогала и гладила мелкие розовые шрамы – оттягивала вырез рубашки, гладила и целовала, пока мать не просыпалась. Тогда Сима торопливо отодвигалась: подлиз мать не любила, нежничать не позволяла. «Неискренние они, поняла? В два счета охмурят», – поучала она и кривила губы, если видела, как тетя Настя тискает Аню. Мать работала вместе с тетей Настей, на телефонной станции, та звала ее по имени-отчеству – Сима слышала, как однажды мать отбрила: «Вы, Анастасия, со мной запанибрата не надо, не ровня мы, не забывайте», тетя Настя согласно кивнула: она привыкла. Чистую, без чернильного штампа, страницу паспорта – «семейное положение» – она открывала спокойно, «Стыд глаза не выест», – поджимали губы женщины во дворе; рассказывали, поначалу тетя Настя глаз поднять не смела, черней тучи ходила, с Аней гуляла только рано утром, чтоб никто не увидел, а потом – потом с ней будто что сделалось, осмелела напоказ – нате вам, судите, а мне плевать, – так и жила бобылкой, даже соседки к ней не заходили. И ладно бы чувствовала, что виновата, мол: «Простите, люди добрые, грешная я», – поворчали бы да смилостивились, а вот – по-другому решила, ну – так пусть на себя пеняет… Смелая она была чересчур, тетя Настя, до дерзости, вспомнить только, что тогда врачихе наговорила… Симу и Аню она повела в больницу на прививки, вместе повела, подала паспорт – врачиха поморщилась и брезгливо оглядела девчонок – неприятно так Симе стало, будто она сама провинилась… «Вот моя», – тетя Настя притянула Аню к себе. «Слава Богу, хоть одна», – съязвила врач. «А приспичит, еще пять штук настрогаем», – громко ответила тетя Настя. «Вы бы хоть детей постеснялись – девочки ведь!» – «А что – девочки? Им что, не рожать?» – выкрикнула тетя Настя. «Вы… вы распущенная!» – нашла наконец приличное слово врачиха. Симе хотелось спрятаться под стол, выбежать за дверь, вжаться в стену лишь бы позора тети Настиного не видеть, как она могла так хвастаться?.. Стыдно это, позорно, что Аня – незаконнорожденная, а тетя Настя – выставлять напоказ?.. Слава Богу, мать дружить с Аней не запрещала, в одном дворе все-таки, только предупреждала иногда: «Ты гляди мне, коноводить Аньке не позволяй: без отца она, Анастасия замужем не была, неприлично это, поняла? Помни, кто твой отец. Не пристало командирской дочери – да незаконной подчиняться». Отец Симе никогда не снился даже, пробовала представить – и не представлялось ничегошеньки. Герой, не зря же мать его все время в пример ставила. Наверно, на Симу похож, такой же рыжеглазый, она не в мать пошла, значит, в отца… «Секретному человеку», красному командиру, отцу фотографироваться не полагалось, таким он и остался для Симы – секретным. Вот будто и не было его вовсе. «Отец бы не потерпел, отец бы не разрешил», – да зря это мать наговаривала, небось с отцом и в кино бы ходили, и уроки вместе делали; нет, был бы жив – разве позволил бы, чуть что, нашлепывать Симу или в угол ставить? Не-ет, тогда бы Сима от матери к отцу спасаться бегала, вон, однажды, заругала мать – что Сима крикнула? «Был бы папа – пожаловалась, он бы тебе показал!» – ах, как мать ее тогда ударила, и за плечо схватила, и об стену… Выходит, боялась она отца-то?.. Нет, хорошо, что отец есть, пусть даже он и погиб. Но Анька – подумать только, даже гордилась, что тетя Настя – мать-одиночка! И вела себя – поди попробуй, что прикажи: любую учительницу сумеет так отбрить… Языкастая-то была!.. Не любили ее учительницы, даже ненавидели, вечно сквозь зубы: «Безотцовщина», – Аня только встряхивала головой, смеялась и перебирала косы, прекрасные у нее были косы, густые, черные; лент Аня не носила, конец косы так круто завивался, что волосы не расплетались до вечера; все девчонки потешались, если кто-то из новеньких учительш отправлял Аню под кран «размачивать завивку». Вины своей Аня не отрицала, делала большие глаза, искренне-верноподданно, по-кретински смотрела на учительницу и подтверждала: «Да, я каждый вечер накручиваюсь на папильотки», – руководящий перст устремлялся на дверь, и через пять минут Аня возвращалась в класс с совершенно мокрыми волосами, распускала их, встряхивала мелко вьющиеся пряди – на пол слетала яркая капель – хитро прищуривалась и говорила: «Да, папа мой настоящий джигит», – за что педсовет снижал ей в четверти оценку по поведению. «Не будешь язык распускать», – учила скрытная Ленка, ее и Соню мать терпела в доме с трудом, но не выгонять же – опять-таки в одном дворе, да и отличницы обе; вот, Галка Мигунова – другое дело, но Галку Сима почему-то не любила; с самого начала у них не заладилось, то ли потому, что уж очень мать хотела Галку в Симиных подругах видеть, и слишком часто в пример ее ставила, то ли вообще они характерами не сошлись; Галку Сима терпела – что-то недовольно-надоедливое, и скучно с ней было, и какая-то она вся такая положительная, до зубной боли – Галка привязывалась после школы, вместе шли домой, и о чем-то Галка говорила… О чем? Нет, правда, о чем? Сима не слушала; это, оказывается, так удобно – идти рядом, и кивать, и время от времени говорить: «Угу», – будто согласная, а сама о другом думаешь, о своем; Галка ничего не замечала, ей чудилось – Сима рядом, а ее не было, она возвращалась, если только Галка вдруг обнимала ее посреди улицы и шептала, заплевывая ухо: «Ну, ты меня понимаешь, для нас с тобой в школе и подруг-то настоящих нет, все с изъяном. Ты дочь командира, я – рабочего, а знаешь, дед мой в восемнадцатом тоже воевал, беляков бил…» Мигунова была узкоплечая и невзрачная, «некто серый без лица», – это ее Аня прозвала; и ходила Мигунова по-галочьи, кособоко подпрыгивая. Коротенькие жидкие косы она перетягивала туго-туго, даже нитками завязывала, и все равно по три раза в день переплеталась, отрезала бы, что ли – все меньше возни, так нет: косы хотела, как у Ани… Серафима подстриглась, когда исполнилось двадцать пять, утром в день рождения, пошла и подстриглась в парикмахерской, шестимесячную завивку сделала – вон, до сих пор завивается, говорят, волосы портятся, шестимесячная-то вредная была, а уж химическая и подавно, и впрямь, волосы поредели, надо будет после похорон сходить, завивку подновить, денег на парикмахерскую Иван Фомич ей давал – в год под исход, всякий раз шумно хохотал, шлепал ладонью по спине – так, что в груди гудело, говорил: «Ты у меня и так квазимодиха», – правильно, куда ей, старухе, с молодыми тягаться, каждая женщина должна знать свой возраст, в двадцать пять впереди хоть что-то было, а сейчас – перед кем прихорашиваться-то?.. В прошлом году Серафима перевесила зеркало – прямо напротив окна; теперь по утрам, расчесываясь и наскоро замазывая губы помадой, лица своего она почти не видела: день прорисовывал форму головы – и только. И хватит. Хватит! Иван Фомич увидел перестановку, долго сопел, стукнул кулаком по столу: «Я сказал – ничего тут не трогать! Покойница повесила – там зеркалу и висеть!» – но перевешивать обратно не стал, хотя гоношился. Всякий раз, когда скандалил, Серафима съеживалась, но Иван Фомич ее не бил. Пинка она получала, а бить – ударил он ее всего раз, утром после свадьбы, Серафима готовила завтрак, а он вошел на кухню – и ударил. Небольно, правда; Сазонтий тетю Глашу мордовал – дай Боже, гонял по всей улице, зимой в одной рубахе бегала – зеленая такая рубаха, ситцевая, вроде ночной. «Эх, девки», – говорила тетя Глаша, если кто из девчонок начинал ее жалеть: «Матерей наших гоняли, и нас гонять будут, на то и мужики, любят, значит». Сима даже представить не могла, что отец – вот так же мать… Нет, он же командир, а красные командиры не дерутся. Соне с Ленкой – им повезло, что отцов посадили рано, враги народа – они, небось, жен вовсю гоняли. Если враги, так уж и детям враги, разве дети – не народ? Ни Соня, ни Ленка про отцов не заговаривали, чуть что, надували щеки и мотали руками: рот на замок, чурики, не спрашивать! Мигунова сплетничала: «Сонькин отец аристократ, а они как с женами – не читала? У меня книжка есть, там один граф жену заживо замуровал, а сам на купчихе богатой женился. Думаешь, зря Сонькиного отца на десять лет без права переписки упекли? Небось деспот порядочный был, не зря их в гражданскую дед мой расстреливал. А Ленкин-то, Ленкин отец – туда же, за гнилым аристократом потянулся… И Ленка за Соней тянется, заметила? Дружат, дружат, а о чем шепчутся…» Мигунова… Уж умерла, наверно… А интересно, сильно Иван Фомич изменится, когда умрет? Глаза, наверно, ввалятся – ишь, как похудел… Поженились – грузный был, под центнер, в первый раз чуть не раздавил – Господи, как она боялась, как боялась, рассказать кому – не поверят!.. Сорок три было, а что надо делать, как поступать, что говорить – ничегошеньки ведь не знала! Улыбался он тогда – пьяно так, слюняво, кальсоны полуспущены, и плюхнулся рядом грузно, с маху – вжалась в стену, оцепенела, стиснула зубы, из последних сил молча вытерпела все, а он потом вдруг ущипнул за грудь – до синяка: «Дрянь, оторва, с десяти лет небось всем подряд давала», – еще чего-то бормотал, потом уснул – сморило; Серафима до утра боялась шевельнуться. Не понял. Ведь никого у нее не было никогошеньки, да и откуда быть-то?.. Не понял. Может, он вообще ничего не понимает в ней – и как жить теперь? Объяснить утром? Поздно, раньше надо было. Чего теперь, задним числом… Муж. Мужчина. Мать с отцом – что, у них вот так же?.. Нет, наверно, если любят, все по-другому. А как? Господи, не спрашивать же у матери, как это все у них происходило… Может, дальше образуется, все хорошо наладится, согласно заживут? Как же, согласно: даже не понял, что первый… Стены рухнули и придавили – сама их по камешку собирала, один к одному укладывала, все свои победы мелкие, и гордостью склеивала – не как некоторые, обязательных осмотров дважды в год не боялась, на стандартный вопрос гинеколога твердо отвечала: «Нет», – она всегда первой в кабинет заходила; школьная участковая врачиха не любила, если у кого что не по закону – на таких облава и шла, как волков, их флажками обкладывали, ага, попались, вертихвостки!.. Не зря такие вот пугливо жались к дверям и последними заходили – с ними переставали в учительской здороваться, таким не место в школе – на педсоветах говорили: у них нет морального права учить детей, ничему хорошему все равно не научат – так и было, пока новенькая физичка вдруг не подняла голову и не спросила директоршу: «Вы-то откуда знаете? Сами у того кресла стояли, или в окно подглядывали?» – директриса в сердечном приступе рухнула на стул, а физичку уволили по статье, за несоответствие; куда она потом только ни ходила – не помогло, и правильно: морально нечистоплотным в школе не место… Пуще прежнего осмотров бояться стали, а как на них не пойдешь, если без того до работы не допускают… Педсоветов, правда, больше специально для таких не собирали, но и не надо: они сами увольнялись, ждали конца учебного года – и увольнялись… И что, все, выходит, впустую? Вся ее, Серафимина, гордость за себя – зря?.. Замуж хотела, о том только и мечтала – что, получила? Довольна? Хорошо? Теперь каждый день так будет – ты же замужем… Хотела совесть обмануть, вокруг пальца обвести, что – получилось? Терпи теперь, поделом… И не пожалуешься: разве поверит кто, что замужем плохо?.. Утро наконец просочилось сквозь занавески, серая завязь дня высветила поросшее седыми волосами ухо Ивана Фомича – он храпел и причмокивал во сне; Серафиму передернуло, она тихо встала; за окном из провисшего брюха низкой тучи в сад падал дождь, желтая яблоня наполовину облетела, Иван Фомич заворочался во сне – он и сейчас, кажется, зашевелился, да, вон, одеяло сползло…
– Си-им!
– Чего тебе?
– Пить дай.
Он зашарил слепыми руками по одеялу, зашлепал ладонью по табуретке.
– Тише ты, черт, мензурку свернешь, – Серафима поднесла к его губам поилку. Иван Фомич жадно глотнул, капли сока заблестели на щетине. Иван Фомич отвернулся к стене и замер; Серафима поискала было салфетку – щеку вытереть, потом махнула рукой и подошла к окну.
На подоконнике мелко дрожал пожелтевший лист герани – из щелей дует, окно еще не конопатили, сорвать, что ли, да ладно, пусть сам отгниет, добавит прели – прошлогодняя прель скрывалась под камнями, в тени; громадные красные, желтые валуны продирались вверх, раздирали овраг, подпирали корни ив и старых дубов; где-то внизу прятался в кустах и шуршал ручей; сверху на лопушьи плантации падал тонкий зеленый свет, перед глазами мельтешили сердитые разбуженные комары, и Аня вдруг по-медвежьи рявкала и кидалась сзади Ленке на плечи, та визжала что было сил, визг скручивался жгутом, ударялся о камни – раз, другой, еще – и звонко отлетал прочь, вниз по оврагу; Аня вскидывала голову и выводила: «Подру-у-у-ги-и ми-и-лыя, с беспе-е-ечностью игри-и-во», – и Ленка подхватывала басом: «Под плясовой напев вы ре-е-езвитесь в луга-а-ах», – на последней ноте она фальшиво съезжала на три тона вниз, и «недобитая аристократка» Соня Рюмина дергала плечом: «Фи, мамзель, какая вы необразованная, даже на фортепьянах не умеете», – можно подумать, сама она умела, как отца посадили, в доме все распродали, обстановка спартанская осталась, и у Ленки тоже – хоть не аристократка Ленка, но инженерская дочка… Внизу, у самого ручья, на девчонок глядели любопытные лягушки, совершенно неподвижные, потом кто-нибудь из квакш шлепался в воду, и Аня кричала: «Смотрите, смотрите, девчонки, она брассом плывет, вот те крест, брассом!» Они рассаживались по валунам, шлепали босыми ногами по воде, смотрели, как лягушка, на миг зависнув в толще ручья, вдруг дергала лапками, и за ней по дну скользила темная тень. «Ну, до чего же хорошо», – Аня сдирала платье, закидывала на кусты, оно падало, Аня визжала: «Ох, потеряю!» – и полная, неуклюжая на вид Сталина неуловимо-мягким кошачьим движеньем подхватывала платье над самой водой. Сталина была физкультурницей, на парадах перед трибунами только ей и доверяли сольные выступления, остальные девчонки жались где-то позади, им говорили, чего на вас смотреть, кожа да кости – и вперед ставили тех, кто жирок уже нагулял. «Что за девушка – без живота?» – спрашивала Сталина и вовсю выпячивала жесткий как доска живот: «Ну вот, не выпирает, плоский – зато задница толстая», – в журнале «Работница» манекенщиц рисовали солидными и неповоротливыми; над тамошними физкультурницами Аня издевалась: «Они же толстомясые, как наша Талка; их, поди, и в кольцо-то не согнешь», – и ложилась ничком на пол, хватала себя за лодыжки и выгибалась так, что прижимала затылок к подколенкам. Талка обижалась: «Полнота советских женщин свидетельствует о благосостоянии советского народа», – наверное, кого-нибудь из физкультурных инструкторов цитировала. «Глянь, разъелась», – Ленка хватала Сталину за бока и за ляжки: «Ух, толста же ты, матушка! И тут, и тут! Гляди, скоро на пол прольешься, вся полужидкая какая-то», – Талка обижалась окончательно, запиралась в сарае – в любую погоду, даже зимой – и часами качала пресс, или балансировала на чурбаке, тренировала равновесие. И все равно, полнела день ото дня. Мать ее заведовала столовкой, таскала крупу и закармливала дочь кашами, Талка от еды отказывалась наотрез, но после тренировок все подъедала подчистую. Зря Ленка над ней издевалась, ну, простоватая она была, но зачем же – так?.. Сама Ленка чуть не каждый день хваталась за сантиметр: «Ты ничего не понимаешь, надоело мне детские размеры носить – тебе-то все равно, материны вещи донашиваешь, а моя мать мне по плечо, что ж – коленками светить?..» Повзрослеть она хотела – да все хотели, а может, мечтала: рядом с Талкой, перед трибуной, когда-нибудь… Аня – как Талка ее обожала, ведь каждое слово ловила, по пятам ходила, в рот заглядывала, на руках носить была готова, а стихи Анины – записывала, ну надо же, такое записывать: «Твой Гамельн спит, ты крысолов, смотри, вот ограда из крысиных хвостов», – для Ани сочинять – как дышать было, легко-легко; она пристраивала наконец платье на ивовых ветках – ива распласталась, почти лежала на воде, и ручей вместе с Аней бормотал: «Твой Гамельн спит, ты крысолов», – ну при чем, скажите, Гамельн, не прочтешь же на школьном конкурсе чтецов об этом немецко-фашистском городе, из старой сказки – Сонина бабушка рассказывала; такое только в овраге можно: «Гляди, крысолов, да ты ли здоров? – зачем уничтожил ты прекрасных зверей, они хитры, коварны и мудры, совсем как люди собираются толпой, тут каждый дом на черном и чужом окне зловещим призраком рисует крыс – ответь, крысолов, зачем убил ты крыс, тебе разрешили разве их убить, ты должен был прощения просить, а ты и деньги хочешь получить?» – странная она была, Аня: ну, разве стихи это? Страшные, совиные какие-то, как ночные тени – вон, но улице пьяный идет, нет, почудилось, уже поздно, третий час, наверно – да какая разница: который час… Анечка – Господи, ну и фантазерка была: «Нет, ты скажи, как познакомилась-то», – приставала Талка. «Познакомилась?» – Аня хмурила густые брови: «Ну, как знакомятся… На мостике, возле керосинки. Я бидон уронила, хорошо, пустой, а он – тут как тут, девушка, разрешите, помогу. Ну, гляжу, капитан, и молоденький такой – ой, девочки, прелесть, какой молоденький!» – «Капитан?» – едва слышно благоговейно выдыхала Сталина. «Ну да, стану я ради какого-то там лейтенанта тут перед вами распинаться… А глаза – нет, девчонки, глаза какие!» – она сладко жмурилась и вертела головой. «И где он сейчас?» – Талка не отставала. Аня пожимала плечами: «Понятия не имею. Наверно, в часть поехал. Обещал написать». И Талка всплескивала руками: «Ой, Анька, ты, значит, замуж выйдешь?» – «Не знаю, не знаю», – смеялась та. Легкие слова Аня говорила, легкие и блестящие, и бежали, как ручей, и не врала она, ну вот нисколечки не обманывала, наверно; и вечером, перед сном, Сима представляла себе Его – капитана, а может лейтенанта, чего привередничать, да какая вообще разница, кто это будет и кто с тобой заговорит – Господи, все бы отдала, только с кем познакомиться… Да с кем же, Господи, с кем? Город – с гулькин нос, хоть бы для смеха кто из молодых мужчин остался – нет же никого, кто в войну, кто когда… Никогошеньки! Господи, да хоть бы кто приехал – нечаянно, ненароком, ну что ж, так всю жизнь никто и не заметит тебя, Сима – Серафима, ангел мой – ну при чем тут ангел, зря ее так тетя Настя называет, ангел-то при чем… Даже ребят, и тех в район, в мальчиший интернат поувезли, школа-то – женская, а женский учительский техникум – да он так и называется: «Женский учительский техникум». Кто ж мужики-то вокруг – не дядя Толя, и вправду, не он же – калека без обеих ног, день-деньской на рынке промышляет, как его еще милиция не забрала – говорят, справка есть у него какая-то, работать не может… А Сазонтий – он что, тоже мужчина? Горький пьяница, жену бьет – кто их разберет, за что… Нет, разве это все мужчины? Мужчины – это… Как в книгах: смелые, умные, прекрасные, совсем-совсем не такие, как девчонки; глянут на тебя – и какое это счастье, пусть только глянут, ну пожалуйста, ну хоть кто-нибудь, кто угодно – на край света за таким пойти; женщин много, того гляди, кто счастье твое перехватит – Господи, да не Боги ли они, мужчины? Все могут, все знают; а тебе только и надо, чтоб обнял – вот так, и чтоб тепло… – Сима торопливо отодвигалась от матери. Господи, только бы не узнала, о чем она сейчас думала, стыдно это, стыдно, разве можно – о ТАКОМ мечтать; мать, если сердилась, ругала: «Небось, только о ребятах и думаешь», – для матери это самое страшное ругательство было, и оскорбить страшней Симу нельзя, да и за что ее так мама, за что? Разве она как тетя Настя – в матери-одиночки собралась? Почему мама – так жестоко, ведь добрая она, добрая, с Аней случилось – так даже пожалела, только сказала: «Допрыгалась», – а так пожалела. Но если узнает, о чем Сима вот только что думала, перед сном… Позор-то какой будет!.. А тогда, тогда – да, они с девчонками рассматривали старый учебник рисования, дореволюционный, с «ятями», у Сониной бабушки с чердака стащили, классе в шестом они все были уже – спрятались в сарае, тайком рассматривали рисунки – мужчин, совершенно, ну совершенно безо всего, в первый раз они такое видели, и любопытно было – страсть, краснели, боялись друг на друга глянуть, потому что стыдно это, даже не дышали… Книжку запрятали подальше, за дрова; Сима раза три пробиралась в сарай, рассматривала книжку в одиночку; остальные девчонки тоже, наверно, тайком сюда бегали, книжка то и дело оказывалась сдвинутой, а потом ее и вовсе кто-то унес – может, Ленка, а может, Соня забрала… Кануло все куда-то, только и помнилось, что любопытство – и страх; чего-то непонятного боялись – все, одна Сима, что ли?.. Откуда дети берутся – девчонки примерно это себе представляли, но вот КАК все происходит… Не спрашивать же у матери, верно? Стыдно; Серафима до сих пор мать стесняется, и всегда стеснялась; даже не сказала ей, когда однажды утром заныл живот и, слабея от ужаса, Сима увидела, как по белью расползается темное пятно… Сима кинулась во двор, через ледяную сечку дождя; ворвалась к Ане, зашептала громко-громко: «Анька, рожаю, как ваша кошка, делать-то что?» – тетя Настя засмеялась, обняла Симу, отвела домой и долго о чем-то шепталась с матерью, а после ее ухода мать сердито поджала губы – лицо вокруг делалось плиссированное, к старости так и осталось – и молча кинула Симе свою подвязку; два дня мать потом с ней не разговаривала, меж ними с тех пор как забор поставили – но почему? В чем Сима провинилась-то? У нее у одной, что ли, это случилось? Может, поторопилась не вовремя – взрослеть-то? «Тебе не по возрасту, ты еще слишком мала», – мать приплетала это к слову и не к слову, насильно втискивала Симу в тесное, как старые туфли, детство, сиропно-сахаринное – Симе уже двадцать стукнуло, уже и Аня умерла, и надо же – подслушала она, как мать хвасталась соседке: «А Симка моя – ну, просто девочка! Твоя-то – вон, вымахала, невеста, девушка! А Серафима… Я ее спрашиваю: тебе кто из артистов нравится? А она знаешь, что отвечает? Мама, говорит, а что это такое – нравиться?» – «Она у вас что, недоразвитая?» – расхохоталась соседка, и Сима заткнула уши, замотала головой, отгоняла материн голос, как лошадь муху – но как не слушать, если мать, вдруг отложив вечернюю штопку, начинала: «Ты большая, должна уже знать… Наступит время, и к тебе придет любовь; ты обязана будешь сразу сказать матери, поняла? С подругами не делись, они об этом ничего не знают», – что-то ненастоящее в словах было, понарошку как бы, думаешь, думаешь, а скажешь вслух – и уже неудобно, и хуже всего, если кто-то о тайном и стыдном заговорит – и накатывает мурашками любопытство, улиткой по душе, и след липкий и скользкий… Да, взрослая, ну и что? На попятный не пойдешь. И в школе – не всем девчонкам скажешь, только Ане, ну там, Ленке еще, она не выдаст, молчальница – ясно теперь, почему это то одна, то другая девчонка на уроках физкультуры то и дело тихо-скромно сидит в сторонке, форму, мол, забыла… Вот оно что, значит… «Это тебе не хухры-мухры, в куклы играть; на всю жизнь теперь это», – поучала Ленка. «И запомни, порядочная девушка должна выходить замуж», – слово это мать произносила с придыханием, жадно-благоговейно, и потом вдруг выплевывала: «Аня потому и умерла, что в мать пошла, проститутка…» – Что за слово, Сима глянула в словаре: проституткам чеховским девчонки все завидовали, чего там; одолев «Припадок», – тайком, чтоб никто из взрослых книжку не заметил, а то отберут, и с концами – девчонки забивались в овраг, и Талка говорила: «Нет, ну как это – прямо подойдет к ней мужчина, и запросто заговорит, даже не познакомится сначала… Нет, ну как это, чтоб хоть только знать…» – Аня фыркала: «Вырастешь, Таля, узнаешь», – и покровительственно похлопывала ее по накачанному бицепсу. «Хоть бы мальчиший факультет открыли, правда», – ворчала Ленка. «Борода, угостите портером», – Соня важно надувала щеки, и Ленка зачерпывала горсть из ручья: «Пожалуйте, сударыня, ежели вам так хочется», – и девчонки покатывались со смеху, а Талка пожимала плечами: «Дурочки глупые, раскудахтались, я же ничего, я просто так сказала…» Книжную библиотечную любовь окутывал синий туман, море плескалось у старой таможни в Тамани, что-то кричал девчонкам сквозь ветер Янко-контрабандист, а густые овражьи лопухи цепко схватывала синяя паутина, вся в росе, и девчонки бежали вдоль ручья, к речке – смешное у нее название: Переплюйка, и Аня щурила зеленые ведьмины глаза, и начинала новую историю – где да с кем познакомилась… «Что ж нейдет он, дальний, незнакомый, тот один, которого люблю?» – Соня лукаво грозила Ане пальцем, та хохотала: «Да ну вас, сами, небось, знакомятся, а ничего не рассказывают…» Сима задыхалась от негодования: «Ты чего, где еще рассказывать, не в школе же… Это тебе везет, а я…» Да, в школе, в шуршащем переменном шуме, поговоришь, как же… Крошечная, в два этажа, школа, битком набитая девчонками – сплошные уши, уши, вдвое больше, чем учениц… Стихи Сима вот только Анины не любила, ну что это за стихи: «В раскрытый гроб – в раскрытый рай, лил ливень весь блаженный май», – ни смысла, ни мысли, школьные, и те лучше… Радостные там были стихи, лучезарные: «Светить всегда, светить везде – вот лозунг мой и Солнца!» – «Как ты понимаешь эти строки?» – проникновенно спрашивала литераторша, и опять, как в голосе матери, чудилось Симе что-то ненастоящее, на секунду взбаламучивало мысли, делалось неловко, будто при всем честном народе чулки застегиваешь – и Сима равнодушно-радостно говорила: «Радостно жить, несмотря на всех фашистов», – что еще ответишь: что светить – это мечта смертная: красивой быть, и чтоб все-все-все влюблялись?.. Аня – по улице идет, так все оглядываются, красивая она, головами качают – «безотцовщина», а все равно оглядываются… Да разве скажешь такое кому-то в школе?! Это же позор – вертихвосткой себя выставить!.. А стихи – стихи Сима любила, не Анины – нездоровые те какие-то, а светлые и радостные, которые потом можно на себя, как платье, примерить: «Вглядись, молодица, смелее, каков Воевода-Мороз!» Вот только первого места на конкурсе чтецов Сима никогда не занимала, его нудно, из года в год, присуждали Галке Мигуновой, и та, простирая руки и растягивая слова, читала на вечерах стихи, и наверно, вот тут-то Галка и была счастлива, по-настоящему: Сима видела ее глаза, там, где-то позади зрачков, крутилась и сыпала искрами бешеная радость, и Галка стояла на сцене – одна, против всех; даже плечи расправляла. В школе ее покорно слушали, а в техникуме – осмелели они в техникуме, что ли? Галка вышла на сцену, «с выражением» глянула в зал, произнесла первую строчку из Некрасова: «Умру я скоро», – она остановилась. «Слава Богу!» – кто-то сказал, как ударил. Галка секунду еще стояла; потом кинулась за кулисы. Сима уговаривала ее: «Ну чего ты, не плачь, подумаешь, это они от зависти», – надо же было что-то говорить; а вообще-то Сима даже позлорадствовала: довыпендривалась… Галка замотала головой, прорыдала: «Ты ничего не поняла, все меня ненавидят, все, никому не нужна…» Любили ее мало, это верно. Сперва Галку назначали председателем совета пионерской дружины, потом секретарем комсомольской ячейки, и Ленка пророчила: «Увидишь, быть ей в райкоме партии, Ать-Два несчастной…» Прозвали Галку так в седьмом классе, весной, перед Первомаем. Отряд готовился к демонстрации, девчонок учили маршировать; Ленка гордо надевала барабан, подбоченивалась, Аня хваталась за горн, вертела в разные стороны, пыталась дуть в медную штуку с болтавшимся на ней вымпелом, – но получались какие-то совсем уж неприличные звуки, и кто-нибудь из учительниц отнимал горн, сердито ставил на место, рядом с бюстом Сталина. Горн завезли в магазин еще до войны, он сиротливо тускнел между коробками с хозяйственным мылом и жуткими сиреневыми панталонами – надевать их было мучительно стыдно, мать успокаивала, говорила, потерпи, все девочки в таких ходят, война закончится, тогда и белье красивое носить будем, потом сердилась: «Привереда несчастная, от горшка два вершка, а туда же, кокетничать», – горн и фанфары в самые торжественные моменты вдруг уносили Серафиму в неловкое детство с его насильными панталонами – кошмар, уродство; до сих пор их носит – сейчас все не так, привыкла, не замечает, а тогда – полдетства отравили, все ждала, когда война кончится, для бельевых фабрик до сих пор не кончилась, видать… Потемневший и скособоченный горн купил профсоюзный комитет швейной фабрики и торжественно вручил школьницам в подарок. Галка вывела пионерский отряд, девчонки построились по четыре в шеренгу и увлеченно замаршировали. Хорошо, приятно это было – маршировать вместе со всеми, все как одна, с песней: шаг – слог, шаг – слог, раз – два, раз – два, спину прямо, носок оттянешь – заскользила, полетела над землей; Симе нравилось. Галка вдруг раздувала ноздри: «Отставить! По новой!» – «И чего тебе не нравится?» – не выдержала Аня: «Хорошо же идем». – «Разговорчики!» – рявкнула Галка: «Кондратьева, а ну, выйди из строя!» Аня пожала плечами и вышла; Галка ласково улыбнулась: «А теперь будешь маршировать одна, перед всем строем», – и опять улыбнулась и даже зажмурилась – ну, как кошка, которую погладили. Сима вдруг поняла, о чем Галка думает – будто в мозги к ней залезла; даже голос, кажется, услышала: сейчас она покажет, что лучше – смазливой быть, или главной, сейчас она Аню перед всеми опозорит, наконец-то – вышагивать в одиночку нельзя, только вместе можно, позор иначе… Вообще-то Галка права, негоже в строю препираться, но вот так, перед всеми, только за то, что кого-то ненавидишь… Сима решила высказать Галке все, что думает; она вся подобралась, даже рот открыла – Господи, как же забыла: директриса позади стоит, и старшая вожатая, вон, Аня тоже про них вспомнила: «Лидия Ивановна, чего она?» – «Кондратьева, слышала, что тебе сказали?» – старшая вожатая приосанилась и покосилась на директрису – та одобрительно кивнула. Аня закусила губу: «Не буду». – «Что не будешь?» – удивилась вожатая. «Под ее команду не буду…» – «Не будешь под ее – пойдешь под мою. Равняйсь! Смирно! Шагом – марш!» Аня маршировала и маршировала – вперед-назад по тесному двору, и уже не замечала, что командует не вожатая, а Галка Мигунова: «Левой, левой… Отставить, по новой!» Пошел дождь; девчонки, неодетые, в одних платьях, зябко жались друг к другу, но строя нарушить боялись. Нет, чего Аня взъерепенилась? На то и командир отряда, чтоб командовал, а ты слушайся, на то и отряд, вот теперь мокни из-за тебя… Аня шагала вперед-назад, по кругу, отставить, по новой… И вдруг остановилась, судорожно всхлипнула, сорвала панаму, швырнула в лужу – и кинулась бежать. «Куда, Кондратьева?» – заорала старшая вожатая, а Галка повернулась к директрисе: «Завтра мы на совете дружины исключим ее из пионеров». – «Ты молодец, Мигунова», – погладила ее по плечу директриса: «У тебя стойкий и целеустремленный характер». Назавтра Аня заболела, простудилась, месяц не ходила в школу – до самых экзаменов, и все как-то забылось – и весенний марш на плацу тесного двора, в мокром и давящем горло красном галстуке, и угрозы – этот самый галстук снять при всем честном народе, – но это Симе забылось, Ане, ну, еще Ленке – та вообще о том случае не вспоминала. Галка не забыла ничего. Она даже заявления у Ани не приняла, когда та захотела вступить в комсомол. Тесно им было вместе, Ане с Галкой; «Вы одна другую исключаете», – говаривала Ленка: «Две школы для вас построить, что ли, каждой свою…» Девчонки приходили к Симе, Аня плакала, Сима шла на кухню и жарила на капле постного масла по куску хлеба – до сих пор ничего вкусней не знает, жарит на кухне потихоньку от Ивана Фомича, чтоб не засмеял… «Галкин мужской идеал будет гонять ее по всему дому плеткой семихвостой», – лениво вещала Соня и поправляла бант на перешитой из маминого платья блузке. Бант был голубой, крепдешиновый и аристократический, и походил на неумело разутюженный хлястик, но таких пошлых подробностей Соня не замечала. «Успокойся, Ань, это все суетно», – повторяла она, и Аня в конце концов переставала плакать и жадно вцеплялась зубами в угощенье. Соня успокаивать умела: близоруко щурилась, глядела в растопыренные ножницы, как в лорнет, и ну совершенно не видела, в чем тут проблема – и при ближайшем рассмотрении оказывалось: и впрямь, половина бед-то из пальца высосана… «Ах ты, кошечка моя», – с восторгом восклицала Ленка, хватала Соню под мышку – голова внизу – и кружила. Соня вообще какая-то особенная была, «Дворянки недобитые – они все с приветом», – говорила Ать-Два. Никто не знал, что Соня могла выкинуть в самый неподходящий момент. То вдруг, кукольно распахнув глазищи, заявляла учительнице: «Знаете, сегодня я решила сказать, что урока не приготовила», – и учительница застывала над журналом: поставишь «неудовлетворительно» – Рюмина тотчас же обидится и сама, без приглашения, начнет отвечать, не поставишь – так отказалась же, при всем честном народе отказалась, все слышали… Скажут потом: ага, двоечников покрываете?.. Для Сони было – раз плюнуть: спрятаться на переменке в шкаф и выйти оттуда в самый разгар урока. «Что вы там делали, Рюмина?» – «Да так, знаете, побенберировать захотелось». – «Что захотелось?..» – «Побенберировать. Вы, надеюсь, помните – у Оскара Уайльда…» Признаваться в литературном невежестве педагогу не пристало, Соню даже не упрекали, что читает несоветскую литературу, и выходка ей прощалась. Таких учеников, как Соня, Серафиме не попадалось, ни разу таких не встречала, сколько в школе работает; даже не представляла, что будет делать, если кто-нибудь начнет так же вот вытворять… Нет, вправду, дворяне какие-то не такие, потому их и прогнали. Позволяли себе Бог знает что. Представить невозможно. Представить… Аня Симе как-то ближе была; Соня – умна, конечно, самая умная – хотя кто знает, чего там у Ленки на уме вертелось, всегда молчала, не зря с Соней вечно «шу-шу-шу», так и бегали друг за другом, как двойнята, Пат и Паташон, друг дружку дополняли… Умница Соня была, чего там, отличница круглая все годы, только вот очень поучать любила: «Запомни, дитя мое», – она высоко вскидывала светлые брови: «Запомни. Горизонт находится на уровне твоих глаз, не выше, не ниже. На уровне глаз. Поэтому у каждого горизонт – свой собственный». Кнопка в метр сорок ростом, какой там у нее горизонт!.. В здание школы Соня вписывалась – ну будто для нее дом и строили; и точно, он на аристократов рассчитан был. Ресторан тут был раньше купеческий; разгородили зал, сделали крошечные классы. Вечера, обязательные школьные вечера, проводили в коридоре: ставили дощатый помост – сцену, вешали тяжелый, пыльный, неизвестно из чего занавес; и вот – окутывал, околдовывал, и таял каждый вечер – раз, и нет; окна в сумерках синели, темно-синели, а если включали свет, лампа красила окно в фиолетовый, красивый, но – не синий; зимой в окно заглядывало оранжевое солнце, печь дымила – и по солнцу, оно морщилось, и Аня кричала: «Гляди, сейчас чихнет!» – но ничего не случалось: солнце, отдышавшись, убегало от печных труб – подальше, за город, и сердито полыхало оранжевым по всей улице. Школьные вечера загадочно манили, еще за неделю в груди частило и думалось о чем-то сладко-туманном, неопределенном – и ничего на них не происходило: ничего. Школа-то девчачья – а-а, что, съела? Ленка приглашала Соню на вальс, та плавно подымала руку – очень породисто это у нее получалось, Ленка уверенно вела за партнера; потом Соня учила девчонок танцевать мазурку и падеспань – всего-навсего испанский танец, не пугайтесь названья, миледи, – снисходительно разъясняла она подругам. И в десятом классе Соня совершенно не выросла, ни на сантиметр; все так же оставалась похожей на куклу, как на старой детской фотографии с надписью сверху: «Евпатория», – длинные светлые локоны, крошечный даже для их полуголодного времени рост – одна Ленка доросла до метра семидесяти, все, даже Талка, приотстали; Ленка глядела на Соню, фыркала: «Тебе только панталончиков в кружевах не хватает», – и Соня с достоинством отвечала: «Не беспокойтесь, сударыня, придет время – мода вернется. А также на корсеты». На вечера все приходили одетые как одна в белых фартуках. «Гимназисточки», – тянула Соня. Она приносила за пазухой – или бережно несла по улице на вытянутых руках перед собой – старые пластинки, и никому не доверяла, сама ставила их на патефон – школу заполняло чье-то, надписи не разобрать, густое контральто: «Подру-у-ги-и ми-и-илые…» Соня небрежно бросала: «Чайковский, «Пиковая дама». Бабушка из Парижа привезла». Ать-Два резюмировала: «Вот и видно, что тебя, Рюмина, раскулачивать пора». Соня отвечала, не поворачивая головы: «Дело нехитрое, только вы, сударыня, от этого из невежд не выберетесь», – и Ать-Два, покраснев, замолкала. Пропасть между ней и Соней лежала неодолимая, громадная, и как смела Рюмина не замечать, что весь ее гонор уже давно на дне истории, подумаешь, два десятка бородатых и самодуристых предков и тыща лет за плечами – что теперь эти предки, чего стоят? Но предки толклись в школьном коридоре, трясли шубами, насмехались над Галкой – та не выдерживала и кидалась в пустой класс, открывала крышку парты и начинала колотить по ней ребром ладони – до синяков. Сима однажды случайно заглянула: Галка сидела в темноте, выбивала барабанную дробь, вскинула на Симу глаза: «Пусть Сонька в комсомол попробует вступить. Пусть попытается, сучка породистая. Да я… Поможешь?» Симу она считала своей – не подругой, у Мигуновой не было подруг, да и Сима больше с этими вражескими дочками якшалась – но кем-то близким. Уговорить Соню вступить в комсомол Галке так и не удалось, Соня смеялась и цедила сквозь зубы: «Происхождение не позволяет», – Галка отступилась ни с чем. Соня говорила – говорит кто-то? Иван Фомич, кажется…