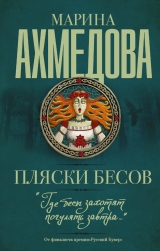
Текст книги "Пляски бесов"
Автор книги: Марина Ахмедова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
И в это время небо разразилось беззвучной молнией. Как это могло выйти среди ночи, в отсутствие дождя и ненастья? Просто взяло и треснуло фиолетовой кривой, на миг разделившись на две половины. Яркий сноп света, выглянувший из трещины, осветил лицо Богдана, и тут уже Панас попятился от него. Что-то мельчайшее изменилось в лице Богдана: то ли погрубело оно, то ли постарело на толику секунды. Но если кто видел фотографию Богдана Вайды-старшего, которую жена его взяла с собой в узелке в могилу, тот побожился бы, что в этот миг перед Панасом он и стоял.
– Вайда… – сдавленно проговорил Панас. – Душегубец…
– Моя фамилия – Вайда, – ответствовал Богдан, голос которого теперь совпал с отдаленными раскатами грома. – Но ни одной души не загубил я. Пропусти меня, Панас, не вводи в грех. А не то, правда твоя, стану душегубцем.
Панас отступил к березе, а Богдан пошел дальше. Панас долго смотрел ему вслед и продолжил смотреть, когда темнота съела и Богданову спину, и Богданову ношу. Веки Панаса набрякли, кустистые брови нахмурились, зрачки сузились в мелкую точку. Наконец Панас дернулся, поднося к лицу раскрытую ладонь, и провел ею по нему, словно стирая насовсем. Закусил ребро ладони, простонал.
– Кричите, петухи, – заговорил он, припрыгивая на одном месте. – Лайте, собаки… Лишь бы не слышны были крики воронов. Лишь бы воронам не народиться совсем! Беда будет, беда…
Панас отпустил руку, и тут открылось его новое лицо, и выходило, что старое он и вправду ладонью стер. Верхняя губа Панаса оскалилась, показывая крепкие зубы, желтые от курева. Красные ноздри раздувались. Зрачки еще глубже ушли в голубые глаза. Панас щерился и рычал. Свернув голову назад, он закрутился на одном месте. И из этого вихря, в котором волчком вертелся дед, доносились все те же слова – о петухах, собаках, воронах и беде. Взвыв, Панас, вот вам крест, оттолкнулся крепкой ногой от земли, другой одолел крышу домика, встал на четвереньки, понесся по кронам деревьев так быстро, что те не успевали надломиться под ним. Взмыл по горке. Спустился с горки и, рыча, ломая на пути кусты, унесся в сторону, противоположную той, в которую ушел Богдан. А не прошло и четвертинки часа, как село огласилось криками петухов и воем собак. Петушиные крики в клочья разносили сельскую темноту. Собаки рвались с цепей, а те заковывали саму ночь звоном в кандалы. О, что за страшная какофония случилась в ту ночь в Волосянке! Еще чуть-чуть, и, казалось, собаки сорвутся с цепей и утянут за собой в бешеном беге все село в пропасть.
А поутру Богдан, вернувшись домой с пустым мешком, обнаружил петухов своих лежащими поперек двора в лужах остывшей крови с горлом, изодранным тупыми зубами.
– Вот и отблагодарил ты меня, бес, – с этими словами он взял в руки труп самого старого петуха, прижал к груди его, как ребенка малого. И так просидел до самого вечера, плача и раскачиваясь, словно убаюкивая дохлую птицу. Перед наступлением темноты он выкопал три теплые ямки и схоронил в них своих птиц.
Известно, что с тех пор Панас взял за привычку прогуливаться по селу. Что случалось не чаще раза в неделю. Ходил он как будто без особой цели, но взгляды по сторонам бросал внимательные. Особенно когда равнялся с домом Сергия. А уж если во дворе в это время можно было увидеть Стасю, то Панас весь подбирался и настораживался.
Язык Луки к этому времени уже сделал свое дело, и на девочку пала тень инаковости – то, что в деревнях и селах считается, пожалуй, самым главным грехом. Ведь правда, как есть правда – не любят люди не похожих на себя самих. А уж если живут они бытом слаженным, хозяйствами, одно на другое похожими (а то, что одно богаче, другое беднее – не в счет), то и все другое, даже если быту этому не мешает, одним своим наличием глаза колет. Так и вышло, что вспомнили местные кумушки о том, как Стася в детстве головкой сильно стукнулась и как в беспамятстве пролежала несколько дней в львовской больнице. Отец же ее в те дни похоронами старшей дочери занят был – ведь в один день две связанные между собой беды на него свалились. Но в одну беду их все равно объединить было нельзя, потому как, с одной стороны, – смерть, как всегда, непоправимая, а с другой – болезнь, травма, оставляющая надежду на жизнь. Жизнь и смерть рядом стояли, связанные одной родовой ниточкой, одним происшествием. И тогда бы Сергию избрать жизнь, но он избрал смерть, погрузившись с головой в похоронные заботы. Оставив младшую дочь свою на попечение докторов, которым тоже предписано жизнь в любом случае избирать, но те, видно, решили, что можно и по третьей дорожке пойти – по бездействию. А та выведет туда, где Бог сам рассудит – жизнь или смерть. И если б не бабка Леська, проявившая тогда к девочке странное участие, может, и не жива была бы Стася сейчас.
Регулярно – а это значит, что каждый день, – страшная бабка появлялась на пороге больницы, шествовала в палату, распугивая по дороге хворых детей. Да что там говорить! И медсестры от нее разбегались. Садилась бабка Леська на край кровати, с которой на нее без страха, но, впрочем, и безо всякого другого выражения взирала голубоглазая девочка. Бабка Леська часами пришепетывала свои странные заклинания, от чего в конце наливалась кровью бородавка на ее правой брови. Потом, схватив девочку костлявой рукой за подбородок, она вливала ей в рот что-то из мутной склянки и исчезала, чтобы назавтра ровно в то же время появиться снова. Появившись в больничной палате в последний раз, бабка наклонилась к уху девочки, которая по-прежнему демонстрировала окружающему пространству безразличие ко всему, и строго проговорила:
– Завтра встанешь. Наденешь чулки, – бабка Леська достала из пакета предусмотрительно подготовленные детские чулки и повесила их на спинку кровати. Чулки эти были не новые. Таких уже давно не выпускали. На коленках темнели пятна, но и видно было, что пятна эти отчаянно застирывали. Возможно, испачкали чулки когда-то чем-то таким, что смыть было непросто. – Наденешь на ножки. Пойдешь умоешься сама, – бабка показала пальцем на склянку, оставленную ей же на тумбе. – Станешь говорить. Будут взрослые вопросы задавать, отвечай на них. Ты уразумела?
– Да, – ответила девочка, и это стало первым словом, которое она проговорила за много дней.
– Ворона семь яичек снесла, – бабка пощупала черную ткань своей широкой блузы под мышкой. – Бабка ворону ту сварила в кастрюльке. Девочке выпить дала. А яички бабка девятнадцать дней будет под рукой носить, воронят высиживать. Как они вылупятся, обучу их всему сама и отпущу по свету. А ты оставшееся яичко съешь, бабка его для тебя отложила. Воронам и вороницам сестрой станешь. Что попросят, отдашь. Да ты, может, еще и сама предложишь, чтоб взяли. А до тех пор будешь хорошей девочкой – притворись такой, как раньше была, – шептала она маленькой Стасе на ухо. – Чтоб никто до поры твою инаковость не разглядел. А я тебе помогу.
Нашептав последние слова, бабка встала, сгорбившись под черной своей хламидой, и, чуть выставив в сторону левую руку, пошла к выходу.
С того дня в больнице она больше не появлялась. А Стася поутру надела чулки, умылась из склянки, как велела бабка, и начала проявлять желание к жизни.
Говорили с тех пор разное. Не стоило думать, что о больничных визитах бабки Леськи никто в селе не узнал. Львов – он хоть и город, но та же большая деревня, связанная все теми же языками с сельской округой. Много разговоров было, и разговоров нехороших. Что раз, мол, так, раз колдовская сила девочку на ноги поставила, то не лучше ль было допустить смерть. И хотя волосянские были людьми верующими, церковь посещали так часто, что другим областям, глядя на их религиозное рвение, засмущаться впору было, а все же никто не припомнил одно из главных изречений Господа Бога нашего: «Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Однако ж нюанс в сем высказывании, конечно, имелся, и вот он-то сельские умы с пути христианского и сбивал. Выходило, что если жизнь предлагалась, то непременно с благословением ей соседствовать требовалось. А если без благословения, то тут загвоздка и образовывалась – что ж в таком случае предпочесть: жизнь с проклятием или смерть с благословением, которым попустительство врачебное в Стасином случае вполне могло стать? А раз возвращение в жизнь состоялось с помощью колдовских сил, то не присутствовало ли в том проклятие, которое предпочесть Господь Бог наш не предписывал? Как тут было разобраться простым сельским умам? Да никак. Вот и выходило, что, не разумея смысла библейского до конца, они все-таки склонялись к смерти, не видя в чужой кончине большого зла для самих себя. Тут, конечно, хороший повод образовывается об эгоизме человеческом поговорить, но лучше мы вернемся к Стасе, иначе не предвидится рассказу конца.
Девочка взрослела, и за все годы, прошедшие с ее болезни, она не сделала и не сказала чего-то такого, что б намекнуло – болезнь не ушла, а только спряталась. Неизвестно, съела она или нет заготовленное яичко, но те, кому в ту пору довелось столкнуться с бабкой Леськой нос к носу, подтвердили бы – левая ее рука была оттопырена в течение двух недель и еще пяти дней, в которые она исправно, с самого утра посещала церковь. Не молилась, не крестилась, у икон замечена не была, а только сидела на лавке подолгу и сверлила выпуклыми глазами царские врата. Чувство появлялось, будто старая ведьма только и ищет момента, который она сможет улучить из потока времени, чтобы нырнуть в алтарь, попирая черными ногами своими церковные традиции, освященные в человечестве веками! Но ничего такого Леська не сделала. Да и сельский священник зорко следил за ней, впрочем, особо стараясь взглядами с ней не пересекаться. Он был молодой, только что окончивший семинарию, клобук с себя не снимал, даже выходя из храма. Гордо нес его на круглой рыжей голове, которую обривал по примеру отца Вороновского. Оба принадлежали к Киевскому патриархату, знакомы между собой не были, но в обязанности волосянского священника отца Ростислава входило молиться о здоровье солонкинского экзорциста, которому бесы гадили по-всякому, но в основном по здоровью. А раз молились за Вороновского практически во всех церквах Киевского патриархата, а самые громогласные молитвы обязательно исходили из глоток монастырской братии, певшей о его здравии хором, то и стал отец Василий для многих молодых священников примером, достойным подражания.
В будущее заглядывать – дело неблагодарное, да и опасное, – Бог в желании сделать такое занятие неповадным для человека так перекрутит и переворотит обстоятельства, что столкнется тот именно с тем вариантом, которого вовсе не предусматривал. Но все же некоторые прогнозы насчет отца Ростислава можно было сделать уже сейчас – не стать ему и в сотую долю таким, как отец Василий. Не было в нем гибкости, и отсутствие ее уже сейчас становилось заметно хотя бы по тому, как смотрел он на бабку Леську, пытаясь распылить свой взгляд на такой обширный фокус, чтоб всю ее целиком прихватить, но ни одной детали из образа ее не вырвать и на детали этой не сосредоточиться. И в том, как он поворачивался к ней спиной, и та у него оставалась прямой и широкой, даже когда он гнул голову к подсвечникам и иконам. А может, сделай он шаг в сторону Леськи, а не раздувай с пыхтеньем ноздри, – и в старой ведьме какая-нибудь христианская венка дрогнула бы? Вероятности в том мало – слишком долго Леська костенела в грехе. Но дело ли облеченного в сан человека предугадывать, что выйдет из доброго поступка его? Не в том ли суть добра лежит, что ты его протягиваешь, не заботясь в тот миг, будет оно принято или нет?
Нельзя сказать, что в Василе было много гибкости или терпимости к людским порокам. Но при всем этом в жизни его было одно смягчающее обстоятельство – страдание, пережитое в раннем детстве, вывернувшееся в сострадание, когда достиг он зрелого возраста. А Ростислав – волосянский священник – глубоких страданий не имел, в движениях души был неопытен. И хотя они могли поджидать его вскорости, но пока, при взгляде отсюда в завтрашний день, их не предвиделось. Наибольшую дружбу в селе он водил с Лукой.
В один из тех дней Лука и нанес визит в церковь. Шел он туда, сопровождая каждый шаг решительной отдышкой. А переступая порог храма, имел отчетливую красную полосу на толстой шее. И визит его, можете не сомневаться, аккуратно совпал с визитом бабки Леськи. Та уже сидела на скамейке, расположенной ближе всего к алтарю. Лука сел сбоку. Храм огласился его сипением. Если б кто осмелился смотреть на ведьму дольше пары секунд, увидел бы, что на ее неподвижном лице еле заметно шевелятся губы – значит, нашептывала она молитву или что-то другое.
Лука шумно поерзал по скамейке, но внимания Леськи этим не привлек. А по всему было видно, он старается обратить его на себя. Священник кивнул ему и удалился к иконе, лежащей на подставке под паникадилом. Обхватил ее по бокам ручищами и склонил голову.
Лука запыхтел сильней, выталкивая недовольные сипы так, что вся церковь, казалось, заполняется ими, как клубками, и липнут те к светящейся позолоте паникадила и резным окладам, к деревянным стенам и потолку, к хоругвям, вышитым крестиком руками сельчанок. Лука кашлянул. Но и тут Леська ухом в его сторону не повела. Спина священника как будто затвердела и напряглась еще сильней.
Встал Лука и направился к Леське, выбивая ногами из деревянных половиц как можно больше шума. Встал перед ней в нескольких метрах. А Леське хоть бы что. Тогда Лука сделал шаг правой ногой в сторону и встал таким образом, чтоб взгляд Леськи уперся в его наглый живот.
Леська склонила голову вбок, продолжая и дальше шевелить губами. Лука так стоял, и она так сидела. Лука же тем временем потел и багровел. Красная полоска на его шее сделалась ярко-бордовой. Закончив шептания, бабка пробралась глазами до лица Луки, и в этот момент можно было наблюдать, как от его лица разом отхлынула кровь.
Надо сказать, что все это время рука Леськи была оттопырена деревянным приспособлением – обручем с подпоркой, упирающейся в бок. И непонятно, чего было у Луки в избытке – наглости или тупости, но, набрав в легкие немало воздуха, он выпустил его вместе с вопросом, обращенным к ведьме.
– А що это ты, бабка, несешь под рукою? – гаркнул он. – Неужели ты, внося в церковь непотребное, грехи свои надеешься замолить?
То правда – уже две недели Волосянка жужжала разговорами: мол, почувствовала старая приближение смерти и молитвами хочет свои черные грехи искупить. Что, мол, бесовское творить по молодости все мы смелые, а как время отвечать подойдет, сразу набожными прежние пакостники становятся, к доброте Господа Бога нашего взывают. «А Бог – не флюгер, куда ветер, вылетевший из губ, сотворивших молитву, подует, не покрутится», – с уверенностью говорили сельские, словно сами уже испытали на себе при жизни смерть и теперь заместо Бога могли на такие сложные философские темы ответ держать. Что и говорить – философов местного розлива в Волосянке, как и в любом селе, хватало, и никогда они не переводились.
Тут бабка Леська поднялась, а Лука попятился. Подошла бабка к нему. Глаза ее выкатились сильней. Ими она, словно мертвой водой, окатила его с головы до ног. Поджался весь Лука, съежился в своем пиджаке, словно яйцо в скорлупе, сваренное вкрутую. Побежал из церкви, раздвигая пространство вокруг себя руками. Бабка же Леська нехорошим своим взглядом проводила его до самой двери, и родинка на ее брови, обычно имевшая красный цвет, теперь посинела – видно, ядами внутренними налилась. Доподлинно известно, что с того дня коровы в хозяйстве Луки не давали молока ровно полгода, а куры не неслись. Стало быть, и упрекать бабку Леську в раскаянии было нечего, раз и в церкви не оставили ее способности порчу на все живое наводить. Поэтому, решив, что цели ее пребывания в церкви – такие же черные, как и вся ее жизнь, прихожане спешили покинуть храм, едва она успевала в него ступить. Правду говорят: горбатого могила исправит, а ведьминскую душу и хорошая дыба не спасет.
Богдан же между тем запечалился. При встречах на дороге он больше не улыбался и не произносил с приветливой готовностью: «Добридень!» – когда и по голосу его, и по теплому блеску глаз чувствовалось, и в том обмануться было нельзя, – действительно этот тихий человек встреченному прохожему добра желал. Да и реже прежнего стал он оставлять дом. Сидел целыми днями у старого колодца, ручка которого давно не совершала оборотов. Глядел без толку на оставшихся кур, которые когтистыми лапками с каждым днем все больше утрамбовывали три маленьких холмика.
Но настал день (и случилось это довольно скоро), когда вышел поутру Богдан во двор и увидел, что холмики те окружены маленькими колышками, перевязанными лентами, а за ними зеленеют слабые зеленые стебли. Улыбнулся Богдан. А уж в тот день, когда стебли дали красные головки, похожие на петушиные гребешки, радостно засмеялся во весь голос. И ведь все село знало, чьих рук делом те клумбы были. И Богдан знал. А потому при встрече со Стасей еще теплее, чем раньше, улыбался он ей и желал доброго дня.
– Дякую, дядя Богдан, – звонко отвечала она.
Слякоть пошла по дороге. Холод воздух сковал. Пожухли травинки и лопухи. Горы сбросили лиственный покров, и ветер его понес вниз. Туманы спускались и ложились слоями, как одеяла, укрывающие зяблое тело больного. И в каждом далеком звуке – ржавой ли жалобе несмазанной дверной петли, выкрике ли охрипшей от осени птицы – чудился скрип старого колодца, из которого уже давно не поднимали воды. А нет ничего тоскливей, когда именно по осени скованная онемением цепь начнет разматываться, дребезжа пустым ведром. И в такой момент кажется, что это твое сердце поместилось в ведре и бьется о его цинковые стенки, вместе с ним ходуном ходит по хладным стенам колодца, спускаясь туда, где ждет тебя либо живая вода, либо мертвая. Вот так перед началом холодов чувствует себя человек, достигший зрелости.
Холмы, хоть трава на них закучерявилась и прилегла стеблями на землю, прибитая дождями и холодом, зрительно увеличились все же в размерах. Может, потому, что их напитала вода из туч и та вода, которую земле отдала речка, не вместившая в свои берега дожди. Вкопанные в холмы сарайчики, мазанные глиной и веселенько выбеленные с конца весны, теперь, приседая коричневыми треугольными крышами на отлоги земли, резали издали взгляд своей белизной, и желалось, чтобы земля поскорее поглотила их, накрывая сверху тяжелыми влажными пластами. И оттого казалось, что по осени у приветливых летом сочных холмов и лужаек разыгрался аппетит, и теперь захотелось им перед великим зимним голодом поглотить все, что человек не прибрал с земли вовремя или построил невысоко над ней. Голодом запахло все вокруг, хотя голодные времена давно прошли, не чая вернуться. И не тот это был голод, который можно утолить магазинной едой и теми припасами, которые аккуратно были сложены вот в таких сараях, вкопанных и там и сям в холмы по всему селу. То был голод, который однажды прокатился по этой земле и, видать, ушел вместе с умершими от него под землю. Тихонько лежали их кости под землей, ни к чему не взывая и ничего не поминая. Но, видать, время подошло, когда они побелели, крошиться начали. Семьдесят лет тому срок. А как дожди пошли да побили тленное, пораскрошили, запах их начал подниматься. А вместе с тем и взывания их к справедливости и расплате за безвинную кончину свою.
Вот такой была та осень – тревожной. И уж каким хорошим было лето, убранное мальвами, сочными лопухами, обильной листвой и мягкими облаками, такой дурной и неуютной пришла в Волосянку осень. То ли еще будет зимой. Эх, то ли будет.
Вот в такую пору, отпросившись с уроков пораньше, Стася шла домой. Правая ее щека заметно набухла, и во всем лице девочки виднелась болезненная бледность, оттененная темными волосами. Дыша холодным воздухом, к которому прибавилась изморось, и мелко вздрагивая то ли от холода, то ли от внутреннего озноба, девочка миновала привычные частоколы, на которых осенняя сырость позволила наиболее ярко обозначиться мху; бархатно-зеленый, местами в фосфорных бирюзовых наростах, он украшал серую холодную древесину, в чем, впрочем, не было красоты – отчего-то при первом взгляде на частоколы отчетливо читалось: они насильственным образом взяты в плен чужеродными болотными спорами.
Известка едва держалась на стволах фруктовых дерев, растущих за частоколами, и большей частью уже ушла в облысевшую землю. Только весело желтели поленницы, аккуратно сложенные в торцах домов. Даже мельком взглянув на них, можно было согреться, представляя, как сухие, не запаленные еще дрова несколькими рядами зимой защитят стены домов от сырого холода, который нагрянет с гор.
На горах сидел плотный туман. Хвойные деревья на вершинах держали его, а когда тот начинал ползти, казалось, что не деревья, а статная татарская рать сходит вниз, чтобы наново пожечь здесь дома, порезать местных жителей и уйти, обронив тяжелую цепь, которая звякнет непременно вот об ту трубу, которая на одном из отрезков канавки была вкопана в землю. Дождевая вода, взятая в железное кольцо, звенела и гудела, пока не выпрастывалась наружу и не шла по земляной ложбинке.
Самыми чудесными цветами отливала трава. И невозможно было не остановиться и не впустить в себя окружающую красоту, восприняв ее единой картиной – и ту же нарядно желтую церковь, и поленницы, и красные крыши домов, и бледные кочки, похожие на затаившихся зверьков, и вывороченные в некоторых огородах пласты чернозема, но самое главное – траву, которая пятнами то зеленела, уходя в бирюзовый, то желтела, кое-где сгущаясь коричневыми разводами, а то принимала бледно-соломенный цвет. И отчего же она столь разнилась? Отчего же была похожа на неровную палитру, на которой художник размешал самые противоречивые цвета, когда вроде и солнышко ее летом припекало одно, не имеющее предпочтений в справедливости своей, и дожди поливали равномерно, и роса поила, никакую травинку не выделяя из прочих? Может, тому причиной были неровности почвы, по которой сейчас ослабшими ногами ковыляла Стася, приближаясь к речке и к автобусной остановке – отсюда можно было отправиться в город. Но ни Стастя туда не собиралась, ни кто из жителей села – остановка была пуста. Девочка пошла вдоль речки, которая в этом месте текла параллельно сельской дороге. Она смотрела под ноги, а если б оторвала взгляд от земли, то еще издали заметила бы черную фигуру, стоящую на узком мосту через речку. Он действительно был таким узким, что вдвоем на нем было не разойтись – у того, кто б шел с не огороженного перилами края, одна нога непременно повисла б вниз. Вода под ним, хоть и просвечивала коричневое, украшенное небольшими камнями дно, сама по себе была серой, а местами и вовсе окрашивалась в черное, словно бухнули в нее печную золу.
Стася поравнялась с мостом. Бабка Леська (а это именно она там и стояла) теперь сошла с места и поманила Стасю рукой. А чтоб та отвлеклась от носов своих красивых сапожек, старая ведьма еще и произвела негромкий гортанный звук, похожий на урчание в зобу недовольной птицы. Стася подняла голову.
– Деточка, а я тебя жду, – обратилась к ней старуха неожиданно мягким голосом, какой рождается в беззубом рту стариков.
– Добридень, – быстро поздоровалась та.
– Подойди ко мне, – позвала старуха, и девочка послушно приблизилась к ней. Та же, взяв Стасю за подбородок сухой рукой, нажимая в выемку под нижней губой острым ногтем, легонько крутила голову девочки туда и сюда, рассматривая обе ее щеки. – Зуб болит у девочки моей, – заговорила она снова. – Бабка сейчас все исправит. Пойдем ко мне в дом.
Леська повернулась, не дожидаясь согласия девочки, и пошла по мосту. Она могла не оглядываться – и так знала, что Стася спешит за ней. И, кажется, в той спешке было не желание прогнать поскорей сверлящую зубную боль, а сила какая-то влекла ее, притягивая к Леськиной спине.
Перейдя мосток, бабка тяжело поднялась по холму, на котором было протоптано две дорожки. Они поднимались вверх, одна параллельно другой, и вели прямо под двери неработающего почтамта. Бабка пошла по той, что справа. Стася выбрала ее же. Дальше путь лежал мимо голубого частокола, за которым стояла хата с такой же голубой резной верандой. Широкие ее окна были прикрыты крахмальными занавесками, но если б Стася повернула голову влево, она бы увидела, как из одного окна, наполовину скрытая занавеской, за ними наблюдает, приложив ладонь ко рту, тетка Полька. Голову той, как всегда, обвивала широкая коса, заколотая на затылке. Из-под нее по всей голове выбивались кудряшки. Такое убранство головы делало тетку Польку похожей на праздничный пирог. А в Святки в тех колядках, что пело село, ее зычный голос выдавался звончее всех. Женщиной тетка Полька была тихой, незлобной, можно было б сказать, что и доброй, но доброта ее обращалась преимущественно к тем, кто думал, как она, говорил, как она, прожил, как она, и пел, как она. Всем в жизни была довольна тетка Полька, кроме одного – соседства со старой ведьмой. А потому во всех своих мелких хозяйственных неприятностях – в не принявшейся рассаде, убежавшем молоке, не поднявшемся тесте – она всегда винила страшную соседку, ведь именно в то самое время, когда тетка Полька приступала к домашним хлопотам, которым впоследствии суждено было закончиться неудачей, бабка Леська шмыгала мимо ее хаты. Впрочем, бабка появлялась и исчезала на дорожке, и когда тесто поднималось, а молоко не сворачивалось, – но те случаи были не в счет.
– Пошла-пошла в лес с бесом сговариваться, – тоненьким шепотом выговаривала она, наблюдая за бабкой Леськой из-за занавески.
И крестилась после этих слов – трижды и быстро. Рассказывая сельским о проделках бабки Леськи, которая, впрочем, с ней за всю жизнь и словом не перемолвилась, тетка Полька так же крестилась. Вот и в этот раз, завидев Стасю, спешащую за ведьмой, она трижды осенила себя знамением, отскочила от окна, впрыгнула в полусапожки и понеслась по селу, старательно обходя только дом Сергия.
Стася в то время шла, прижимаясь к забору, в двух метрах от которого рвалась с громыхающей цепи большая собака. Бабка Леська наконец обернулась.
– Люди – паскудны, – проговорила она.
Теперь она стояла возле почерневшего и на удивление не схваченного мхом частокола. За ним виднелся низенький домик под просевшей крышей. В отличие от многих других домов, этот не обкладывали ряды поленниц. В огороде царило запустение, он представал просто клочком лысой земли, лишь в одном углу которого росли высокие колючие сорняки, не знавшие зла человеческих рук.
В домике, несмотря на то что был день, мутно светилось электрическим светом оконце. Леська поднялась по трем ступенькам, отперла дверь. Следом за ней Стася оказалась в пустых темных сенях. Она вошла за бабкой в комнату, где стояли друг напротив друга два продавленных кресла. Пол был устлан пучками рассыпанной сухой травы, что и определяло запах в помещении – был он горьким, пряным и, с непривычки, сильным – до непереносимости. На стенах висела почерневшая от времени, а может, и от пожара, икона, лица святого на которой было не разобрать. Под потолком мерцала голая лампа, бросавшая на середину комнаты мутное желтое облако света, которое ложилось меж двумя креслами. У стены стояла кровать с железными навершиями. Накрывало ее стеганое одеяло с наброшенными на него двумя черными платками.
Бабка Леська села в кресло, Стася заняла противоположное. По какой-то своей причине тяжело вздохнув, ведьма вперила выпуклый взгляд в бледное лицо девочки. Трудно сказать, боялась ли ее Стася, но по тому, как дрожали ее руки, положенные на подлокотники, и шевелились губы, не издающие ни звука, можно было догадаться – что-то еще, кроме зубной боли, терзало ее сейчас.
– Повторяй за мною, – наконец проговорила бабка. – Молодик молодой…
– Но на небе нет сейчас молодика, – слабым голосом проговорила Стася.
– Он всегда есть, только мы его не всегда видим. Солнце выедает его из наших глаз. Но он все равно есть, даже когда луна – полная. Повторяй за мной, – снова приказала она. – Молодик молодой, на тебе крест золотой, – нараспев заговорила Леська, а Стася тихо повторяла за ней. – Ты мертвым светишь? Светишь. Ты мертвых видишь? Видишь. У мертвых был? Был. У них зубы не болели? У них зубы не болят, не зудят, крепко в деснах стоят. Чтоб так у Стаси, рожденной Сергием, зубы не болели, не зудели, а навсегда занемели, как у мертвой.
Лампа мигала под потолком. По мерцающей комнате струился старческий голос, ставший вдруг мягким от того, что язык попадал во все ямы, оставленные корнями выпавших зубов. Ему вторил голос нежный, почти детский, испуганный и смущенный. Они умолки, наговорив слова, в которых вроде и злого ничего не было, а между тем не к Богу они обращались, и в этом заключалось их главное зло. Теперь бабка Леська снова пристально посмотрела на девочку, и вдруг ее губы тронуло подобие улыбки. В тот же самый миг сквозь оконце пробился луч солнца, выброшенный словно в предсмертной агонии. Он светящейся рукой проник в комнату и одел облако мутного света, идущего от лампы, в золотой чехол. Оно стало еще более явным, обозначилось, смешавшись с солнечным светом, который не придавил его, не развеял, не уничтожил, а, наоборот, украсил розовыми бликами, мелькнувшими перед лицами бабки и девочки, и быстро исчезнувшими – ведь солнце вмиг вынуло из окна свою руку и в тот день больше не показывалось.
– Баба Леся, – проговорила девочка, – почему иконы у тебя на стене черные?
– Они от людского зла почернели. Люди паскудны, – повторила старуха. – Был великий огонь, – заныла она, и, услышь ее кто из сельчан, удивился бы слабости, звучавшей сейчас в голосе этой злой старухи. – Он все спалил. Икону я из огня вынесла. А сама там осталась. Сгорела. Но так я думала. А время показало, что может оно оживить то, что спалено…
– Зуб прошел, – сказала Стася.
– Тебя дома ждут, – строго заговорила бабка. – Никому не говори, что была у меня. Не нужно. Но запомни сон, который тебе этой ночью приснится. Мне ничего от тебя не надо. Но придет час, и я тебя позову. Придешь?
– Приду.
Что в ту ночь делалось в Волосянке – Боже, Боже, не приведи еще раз услышать такое. Ровно в полночь стаи ворон, что обычно прячутся в ветвях деревьев, растущих у кладбища, слетелись в черную стаю, накрыли село черной тучей, летали от дома к дому, заглядывая в окна и роняя в печные трубы черные перья. Кричали охрипшими глотками, дрались между собой и подняли страшный грай. Долго еще после той ночи ветер гонял вороньи перья по дорогам, пока они не зацепились за жесткую осеннюю траву, а потом уже их прикрыл снег. Но собаки в ту ночь не выли. И петухи не кричали. Не прокричали они, и когда пришло утро.







