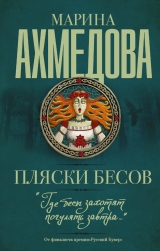
Текст книги "Пляски бесов"
Автор книги: Марина Ахмедова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Що ж ты делаешь? Зачем дерево обижаешь? Зачем руки ему выламываешь? Подойди до него тихоньки и яблок попроси. Оно само тебе их отдаст.
Мало кто знал, что сумасшествие Богдана следует вести не от яблони, а от леса. Но обстоятельство остается обстоятельством – село признало в Богдане блаженного и больше никак иначе на него посмотреть не могло. Село забыло о нем. Видело, но не замечало. Слышало, но не слушало.
Однако известно: все изменится через двадцать три года, и о Богдане заговорят по-новому. А пока все надолго оставили его в покое. Одна только Дарка еще вилась вокруг него, любовью своею окручивала. Но, как было сказано выше, с ней вскоре приключилась беда. А Богдан так на всю жизнь и остался холостым.
Во́роны
Неприятное чувство рождалось, когда диакон шел от царских врат, разметая полы длинного своего одеяния, и делил таким образом церковное пространство на две половины. Он нес с собою то ли низенький табурет, то ли столик. Его-то и поставил он напротив выхода, так громко цокнув ножками об деревянный пол, что по всей церкви разнесся глухой стук. И, может, не одно сердце екнуло от того. Да только разве ж разглядеть движение сердец под одеждами и личинами? Узнать ли, от чего они екают – от душевного трепета благостного или от страха?
С разных мест съехались сюда люди в тот день – были свои, сельские, из Солонки, были из других сел, а были и такие, кто приехал из самого Львова. Но в том и сложности не было никакой – Пустомытовский район, в котором расположилось село Солонка, находится неподалеку от города, с южной окраины. В общем, люда сюда по воскресеньям – а именно в этот день недели тут творилась особая молитва – стекалось разного и помногу. Но не так много, чтоб совсем не протолкнуться.
Приглядевшись, увидели б вы, что церковь строением своим напоминает коровник – низкая, одноэтажная, не то чтобы узкая, но и не широкая вовсе. Вместительности она была немалой, но все равно в тот день в ней еще много простора оставалось – молящиеся жались к бокам, толпясь вдоль скамеек и не подступая к тому месту, где только что прошел диакон. Получалось, несмотря на множество народа, проход оставался свободным, словно специально для кого-то оставленным.
Пять узких подпотолочных окон с одной стороны смотрели на пять таких же с другой. Занавешены они были тюлем – белоснежным с тонкими острыми узорами. С той стороны в помещение пробивалось солнце – слепящее, утреннее. Оно миновало белую гипсовую голову Пресвятой Девы Марии, державшей на ладони сына своего Христа, а тот сидел в такой неудобной позе, в какой можно просидеть лишь миг, но никак не вечность. И косо падало на пол, оставляя два геометрических пятна на полу, как раз там, где пустовал проход. Больше ничего в церкви оно не касалось.
Слышался гомон, складывающийся из разговоров прихожан. Но велись эти разговоры так тихо и коротко, чтоб их можно было в любой момент оборвать и отдать долг церковной службе. Только одна женщина с крупной бородавкой на губе и перекошенным на одну сторону лицом время от времени похохатывала, тыча белым пальцем в кого-нибудь из собравшихся.
– В тебе бес! – взвизгивала она тонким, почти детским голосом.
Увидев, как человек вздрагивает и ежится, словно желая сделаться незаметным, под тычком ее жирного пальца, она разражалась новым потоком хохота, а потом уже сидела тихо, высматривая в толпе новую жертву. Только тряслась разбухшим телом под серым бесформенным плащом, булькала и поджимала правый уголок рта, стараясь вернуть скошенную половину лица на место. А как только новая жертва находилась, изо рта толстухи тут же вырывался новый хохоток, и уголок рта, разлепившись, снова тянул за собой щеку и глаз.
Из алтаря показался поп. Приволакивая правую ногу, он дошел до подставки для Библии. Собравшиеся притихли. Откуда-то из толпы вынырнули пятеро широкоплечих молодчиков и встали вокруг попа, почтительно задерживаясь в двух метрах от него. Поп гаркнул, прочищая горло. В церкви воцарилась мертвенная тишина, нарушаемая только скрипом половиц. Поп запел. Только трудно было назвать его песнопения молитвой – он бурчал и бубнил, поедая начала и концы слов. Могло даже показаться, что поет он на каком-то неведомом языке, да и не к человеку в общем-то обращается. Бритый его затылок, посаженный на короткую шею, поворачивался то к одному углу церкви, то к другому, словно затылком поп и видел, и высматривал кого-то.
Мимо окон с той стороны пронеслись птицы, мелькнув темными тенями на полу. Их крики прорвались сквозь тюль, сделав узоры на нем тоньше и острее. Поп забубнил неразборчивей. Можно было подумать, он так и уснул над Библией, а молитвы свои бормочет во сне. Голос его становился все глуше и чуть было совсем не притих, но тут с хоров его подхватила молитва – «Господи, помилуй», – и когда хористы смолкли, в голосе попа уже звучала новая сила.
Много народу прошло через его золотую чашу, которая, появившись в руках попа, когда молитва была окончена, блеснула толстыми золотыми боками. Он водружал ее на головы прихожан, тянувшихся к нему длинной очередью. Подходили все, и почти не было таких, кто желал бы от золотой чаши укрыться. Сняв ее с какой-нибудь головы, поп внимательно всматривался в ее дно, сощурив правый глаз, что-то бубнил и быстро человека отпускал – без исповеди, без прощения и без покаяния. Каждый, покидая церковь, шел мимо скамеек с левой стороны, аккуратно обходя проход, положенный в самом начале. Так для кого ж диакон его освобождал? Вон и церковь уже почти опустела, а так и не было того, кто бы проходом воспользовался.
Впрочем, некоторые к попу не спешили, тихо сидели по скамейкам, опустив головы. И вся надежда, с любопытством связанная, только на них и возлагалась. Видать, ждали, пока толпа разойдется, ведь если знали они о себе такое, чего чужому глазу показывать не пристало, то и не хотели, чтоб оно обозначилось перед большим количеством народа. Кто знал, что хромой поп мог углядеть на дне чаши? И тут нельзя было определенно сказать – в чем причина того страха. От веры ль безоговорочной в то, что чаша способна чудодейственно проявлять на своих мутных боках в чужой душе спрятанное? Или от веры в прозорливость попа, способного увидать в чаше сокрытое? Или что-то иное то было? А не то ль, что сам человек все о себе лучше других знает? И если есть ему что прятать, то для других оно обязательно явным станет – да не сам грех или тайна, а только попытка их сокрытия. От нее-то веревочка и потянется.
И вот, когда церковь опустела и оставшиеся, озираясь друг на друга, робко потянулись к отцу Василию Вороновскому, а это именно он и был, тут и началось такое, чего лучше никому, находящемуся в здравом уме и в чистоте душевной, не видать. А если уж смотреть большая охота приспичила, то сейчас самое время было оглядеться по сторонам и заметить, что на одной из лавок сидит Дарка и держит за руку девочку лет пяти – Стасю, сестру свою младшую, рожденную от отца, когда тот, овдовев, женился во второй раз, но и вторая его супруга умерла в первых родах. Была тут и еще одна знакомая нам фигура, она таилась с таким усердием, что и мы до поры до времени не будем ее замечать. Все равно ведь, раз пришла, значит, себя проявит.
На Дарку и смотрел сейчас отец Василий, сам выбрав ее из оставшихся. Ее-то он и поманил к себе властной рукой. Дарка встала и пошла. Бухнулась перед попом на колени, заплакала, сотрясаясь худосочным телом. Услышь ее кто, решил бы – обиды ее великие, несправедливости, сотворенные над ней, тяжкие. Любое сердце могли б разжалобить ее слезы, стекавшие на суровую руку отца Василия, к которой Дарка прижималась щекой. Но лицо попа становилось все злее, а левый глаз его прищуривался до тех пор, пока совсем не закрылся. Усмехнулся отец Василий, и усмешка его была нехорошей.
Протянул ко рту Дарки чашу, та дунула в нее, и тогда поп водрузил чашу ей на голову. А пятеро молодчиков тем временем подступили к ним совсем близко, и если б Дарка теперь захотела бежать хоть вправо, хоть влево, а хоть и по пустующему проходу, шансов на то у нее не оставалось никаких – со всех сторон ее ждали крепкие мужские руки. А уж лица у этих мужчин были такие, с какими впору, взяв в руки вилы, идти на самого черта.
Разлепив глаз, отец Василий глянул в чашу. Лицо его помрачнело. Любопытно знать, что ж такого он увидал на ее выгнутых стенках, затуманенных женским дыханием. Не принесла ль Дарка с собой тот туман, каким дышала у озерца, колдуя там с бабкой Леськой? Впрочем, давно это было – больше года с тех пор прошло. Любой туман, даже такой плотный, как тот, что копился над озерцом, уже успел бы из груди выветриться.
Но нет, судя по тому, как широко раскрылись глаза отца Василия, и по тому, каким каменным сделалось его лицо, и какой затем оно исказилось злобой, увидел он там что-то иное – такое, что пострашней озерца со всеми его обитателями будет. Отстранился отец Василий от Дарки, вытаращился на икону на бежевой стене, которая изображала последнюю остановку Христа на пути к месту казни. И застыл вот так. Любой из знавших его или просто регулярно посещающих церковь в Солонке сказал бы, что таким отца Василия не видели еще ни разу в жизни.
Поп обвел тяжелым взглядом пространство. И с чьими бы, вы думали, глазами он повстречался? С такими же прищуренными, как у него самого, голубыми глазами деда Панаса. Тот стоял почти у самых дверей, близко к проходу. И к попу подходить, судя по всему, не собирался. Неизвестно, запланировано то было или по случайности вышло, но в тот день в церкви повстречались три уже знакомых нам человека – Дарка, Панас и еще одна, которую уже решено было не открывать раньше времени.
Отец Василий снова приблизился к плакавшей Дарке.
– Що ты сделала? – хриплым шепотом спросил он, склоняясь к ее уху.
– Светланку погубила, – плача, выдавила из себя та.
– Для чего? – еще ниже наклонился поп. – Ради грошей?
– Не, – пролепетала та. – За ради Богдана.
– Как ты Светланку погубила? Що ты сделала? – повторил вопрос поп.
– Веревочкой.
– Какой веревочкой?
– Отнесла ту веревочку портнихе, которая Светланке платье свадебное шила. Та за деньги и вшила ту веревочку в ее платье.
– Что это за веревочка? – спросил поп.
– Я не знаю.
– А что ты знаешь?
– Знаю, что ее с девочки мертвой сняли давно, кажется, лет пятьдесят тому назад.
– С какой девочки?
– Не знаю.
– Кто дал тебе эту веревочку?
– Мне не велено говорить.
– Кто дал тебе эту веревочку? – повторил вопрос поп, нависая над Даркой.
– Мне не велено говорить! – взвизгнула та и разрыдалась сильней прежнего.
– Кто дал тебе эту веревочку? – чеканя слова, в третий раз спросил поп.
Дарка подняла на него заплаканное лицо, схватила священника за неподвижную руку. Жалобно посмотрела ему в глаза, но выражение его лица от этого не смягчилось. Она всхлипнула громче.
– Не, – тихо проговорила она. – Не могу, – она поплакала еще. – Так и быть, – проговорила.
И вот когда отец Василий наклонил к ней свое ухо, готовый принять ответ, Дарка вдруг расхохоталась и плюнула ему прямо в прищуренный глаз. Но поп даже не дернулся. А Дарка все продолжала хохотать, и чем дольше, тем сильнее менялся ее голос, и теперь уже мужской бас пробивался из ее искаженного судорогой рта.
– В ней бес! – пропищала со своего места толстуха с бородавкой и тоже расхохоталась.
Слышно было, как сзади на скамейках заплакал ребенок.
– Ты кого трогаешь? – спросил раскатистый бас изо рта Дарки. – Ты меня трогаешь?
– Здоровеньки булы, Рус, – проговорил отец Василий.
– И тебе не хворать, – ответствовал бас.
– Давно не бачилися, – заглядывая прямо в Даркин рот, промолвил поп.
– А у меня нет охоты видеть тебя, Василий, – усмехнулась Дарка, вперившись в попа посветлевшими глазами и заговорив на чистом русском.
– Так у мене охота есть, – ответил поп, и тут в руке его взметнулось золотое копьецо, которое он приложил к правому боку Дарки.
И хотя видно было, что боли особой он тем копьецом Дарке не причинил, та все равно, изогнувшись, словно не металл то был золотой, а провод, бьющий грозой и молнией, взвилась, поднимаясь на ноги. Тут-то и подоспели молодчики, схватив ее за руки и заломив их назад. Дарка разинула рот и заорала. Господи, свят и светел, да разве ж мог такой силы крик исторгнуться из человеческого тела? Какими же ты неизведанными способностями наделил человека, раз страшно делается от одной только мысли о том, в чем силы эти ему захочется применить?! Или же, для сохранения равновесия душевного, нам предпочтительней будет думать, что силой той не сам человек из себя говорит, а кто-то другой – посторонний, и вот он-то и владеет способностями, какими человека Господь Бог никогда не наделял и наделять не собирался?
Как бы там ни было, визжала Дарка на всю Солонку. Из чего, скажите на милость и на любопытство наше, в ее худосочном теле рождались такой крик и такая сила, что пятеро мужчин еле могли удержать ее? Чистая правда то – еще чуть-чуть, и Дарка сбросил б их с себя. Но руки пересилили – опрокинули ее на пол, прижали, пригвоздили, взяли ноги и шею в замок. Дарка повизжала, поизвивалась, содрогаясь, и наконец притихла. Только шумное ее тяжелое дыхание расходилось по церкви, как круги по воде. Тут к ней снова приблизился отец Василий, припадая рядышком на одно колено.
– Боже вечный, избавивый род человеческий от пленения диавольского, – хрипло затянул он.
– На русском запел, товарищ поп! – дернулась, огрызаясь мужским голосом, Дарка. – Не возьмешь меня! Не возьмешь!
– Избави рабу Твою от всякого действа духов нечистых, – продолжил поп.
– Ногу тебе сгрызу, – ответила Дарка, и на этот раз голос ее удесятерился басами и хрипами, словно из ее тела говорили сотни мужчин. – Искрошу кости твои! Семью твою изничтожу! Забыл?! Забыл, что было сорок восемь лет назад! Хочешь повторения, поп?! Хочешь?! Скажи, что хочешь! Я ведь знаю душонку твою паскудную! Знаю, и чего ты хочешь!
– Повели нечистым и лукавым духам и демонам отступити от души и от тела рабы Твоей! … Выйди, Рус! Выйди, говорю тебе! – приказал отец Василий.
– Я-то выйду, – пробасила Дарка, перестав дергаться. – Но куда денешь меня, Василий? Где мне быть лучше? Скажи мне, где?!
– Выйди, Рус! – склонялся над ним отец Василий, искажаясь лицом.
Он снова всадил Дарке в бок копьецо. Вот тут-то и произошло самое страшное. Дарка сорвала с себя пять пар мужских рук и вскочила на ноги. Чаша вылетела из рук попа и покатилась по полу под ноги Девы Марии. От страха ли то или от преувеличений, но некоторые потом рассказывали, будто в тот момент Дарка и не стояла совсем на ногах, а, оторвавшись от пола, парила в воздухе, глядя перед собой белесыми глазами. Впрочем, и сейчас уже можно утверждать, что россказни эти – преувеличение. Ведь стоило Дарке вскочить, как сидевших будто ветром с лавок смахнуло. Побежали они, включая пятерых молодчиков, во двор, а уж баба с бородавкой неслась впереди всех. Стало быть, и что там дальше в церкви происходило, наверняка они сказать не могли.
А в церкви между тем отец Василий поднялся с колен. Нога его костяно звякнула об пол. Глухо закричав, он тут же упал, повалившись на спину. Выставил вперед копьецо, замахнулся, но до Дарки не достал.
– Ты все еще хочешь, чтобы я вышел? – загремела Дарка.
– Выйди, – простонал поп. – Хоть всего меня искроши, а выйди!
– А куда мне выйти, Василий? В ком быть мне, Василий? Пожелай меня кому-нибудь! Пожелай!
– Выйди, Рус! – задыхаясь и скребя ногой по полу, повторил отец Василий.
– Славно мы с братьями погуляли сорок восемь лет тому назад. Ты помнишь, Василий? – хохотала Дарка.
– Я с тобой не гулял! – просипел поп, одной рукой держась за колено и корчась на полу. – Я не с вами был, а против! Изгоняю тебя, Рус!
– Изгнать можешь! Уничтожить – нет! – ответствовала Дарка.
Вот тут-то и подоспел Панас с чашей, подобрав ее из-под ног Девы. Василий выхватил ее из Панасовых рук, дохнул в ее дно неразборчивыми словами молитву и плеснул ими в женщину. Дарка скрючилась, скорчилась, хватаясь за живот. Откинулась назад, заново согнулась в три погибели. Разинула рот и выпустила из него что-то невидимое – вместе с кашлем, харканьем и глубокими стонами.
– Живый в помощи Вышнего! – завопил Панас, обкладывая себя крестными знамениями.
А поп, с новой силой забубнив слова молитвы, уже осенял Дарку крестами, рисуя их золотой чашей в воздухе. Дарка закричала так истошно, словно чаша та жгла ее огнем. Потом говорили, что криком своим последним она перепугала в сельских коровниках скот. Коровы на три дня перестали доиться. Свиньи завизжали не своим голосом, а одна, как потом рассказывалось, умерла от трепета сердечного прямо под своими поросятами.
Дарка понеслась по проходу. А на пути ее, кто бы вы думали, встал? Малая сестра ее Стася. А почему ж, убегая, прихожане, еще полчаса назад стоявшие тут, усердно осеняясь крестами, прикладываясь с любовью к иконам, утекли все до одного, не прихватив с собой заодно ребенка? По какой причине отец Василий или тот же Панас не позаботились о девочке? А может, оно и всегда так бывает: в пылу схватки, пусть даже с невидимым противником – ведь тот, кого Василий Вороновский называл Русом, так ни разу и не показался, – люди перестают замечать самых слабых? И бросают в топку своей борьбы тех, кто еще слишком мал не просто для того, чтобы принимать в ней участие, но и для того, чтобы понять – идет борьба. И уж точно не способен отличить, кто в ней прав, а кто виноват!
Как так вышло, теперь не знает никто, но доподлинно известно, что Дарка, выметаясь из церкви, снесла с ног пятилетнюю Стасю, которая, встав с лавки и пройдя по проходу, по которому никто из живых не должен был в тот момент ступать, приблизилась к сестре своей, чтобы звать ту домой. Ведь единственным человеком в этом церковном пространстве, у которого не оставалось сомнений в том, что Дарка – это Дарка, а не Рус или бес, была маленькая девочка Стася.
Сметенный страшной силой, которую не сумели обуздать и пятеро крепких мужчин, ребенок отлетел к стене и стукнулся головой. Вот этот звук и стал самым страшным из тех, что прозвучали в Солонке в тот день. Куда до него было визгу свиней, мычанью коров, басу Руса или раздирающим молитвопениям отца Василия! Но только один человек содрогнулся от него – бабка Леська, которая, как ни странно, в тот день тоже была здесь и являлась той, имя которой до поры до времени решено было не раскрывать.
Дарка же, выбежав из церкви, на одном духу миновала двор, выскочила на дорогу, и там была сбита проезжавшим микроавтобусом. Не то чтобы он ехал на большой скорости, но сил в нем оказалось побольше, чем у Дарки, голова которой от удара свернулась назад. И вот теперь-то, глядя на эту худосочную женщину, скорченную смертью, не понять было – а что ж в ней оказалось такого, чтоб настолько напугать отца Василия и деда Панаса, который, как мы уже знаем, еще и не то видел? А может, они углядели того, кто невидим взору других? Трудно, сложно тут разобраться. Можно было б, конечно, порассуждать, что, мол, не в Дарку отец Василий заглянул, а в самого себя. Что, мол, Даркино настоящее он принял за свое прошлое, которое не то что туманец с озерца. Прошлое вот так просто из себя не выдохнешь. Никогда, никогда нам не узнать доподлинно, что привиделось им в тот день, когда погибла Дарка. Не понять, не разобрать. И пытаться даже не стоит, ведь все попытки упрутся в досужие рассуждения.
Дополнить картину наших размышлений можно лишь фактами. Поэтому призовем их на помощь. Они таковы. Покидая церковь, бабка Леська назвала Панаса в глаза иудой.
– То было зло, – как бы извиняясь, проговорил тот ей в черный след.
– Не иметь совести – вот абсолютное зло, – обернувшись, плюнула Леська ему под ноги.
Василий Вороновский ей тогда ничего не сказал, но плевок в обители своей он ей позже припомнит и обожжет губы крестом так, что частью сделает за ад его работу – там Леська покажется уже с черным ртом. Но разве не таким он был у нее всегда? Черным-черным, злым, коверкающим Евангелие Божие. Но всегда ль? Неужто и в тот день, когда пыталась она спасти из огня двух сестер своих родных и племянника? Не тогда ли наполнился ее рот погаными словами, а душа – почернела? Но если так, то можно ли бабку Леську судить за грехи, последовавшие после пожара? Не смывает ли их то, что было вначале – в той деревянной хате, подожженной рукой советского командира? И можно ли смыть новые грехи старыми добродетелями, или же и добродетели непременно должны быть новыми? Загвоздка в том, что для ответа на эти вопросы требуется безоговорочная вера в ад и рай…
Но скажем теперь следующее: вот так бесполезно Дарка закончила свою молодую жизнь. А сестра ее Стася осталась жива. Бабка Леська ль тому поспособствовала или львовские доктора? Выводы можно будет сделать только позже – когда спустя время ведьма потребует расплаты. К рассказу об этом мы и перейдем сейчас.
Лес, росший на горе, казался короной, надетой на ее мягкую голову. Птицы трещали вовсю, насекомые жужжали, совершая стремительные короткие перелеты. Разгорячилось лето – еще одно в Волосянке. Тут все шло своим чередом, парни с девушками сходились и расходились, но чаще сходились, чтобы прожить вместе всю жизнь, новые люди нарождались, старые умирали, но, по обыкновению, смертью своей. Так что после Дарки, умершей насильственной смертью, принятой от микроавтобуса, таких случаев ни в самом селе, ни с его жителями больше, слава богу, не происходило. Да и то, что произошло с Богданом, Светланкой и Даркой десять лет назад, уже забылось. И в том своя суровая деревенская закономерность была – к чему помнить о тех, кто ушел в землю, не оставив после себя ничего, кроме страшных рассказов, которые помотались, помотались по селу, да и ушли себе, вытесненные новыми событиями, происшествиями и впечатлениями. А уж впечатлений в селе стало куда больше, когда нагрянувшая одновременно с теми печальными событиями, о которых речь шла выше, свобода пооткрывала все границы, и просторы зарубежные распахнулись до отказа – езжай не хочу. И правда, для того чтобы границу с польским государством пересечь, теперь достаточно было иметь одно желание. А из Польши дальнейшие горизонты открывались – европейские. Туда и потекла молодежь – на заработки. Как там ее привечали – по-хорошему или по-плохому, – судить не возьмемся, но возвращались они с деньгами, и на деньги эти тут, в Волосянке, можно было безбедно жить.
Постепенно жизнь выравнивалась – сельчане пошли дома новые строить взамен старых. И каждый старался, чтоб его дом был больше и приятней для взгляда, чем у соседа. Так и проходила жизнь сельчан в работе и соревнованиях – у кого достатка больше. Только Богдан один маялся. В мешковатой одежде, бывало, появлялся на сельской дороге, ходил вдоль и поперек Волосянки, всем улыбаясь, со всеми вежливо здороваясь, и напоминал одним видом своим о временах нестабильных и мутных, которые, как о том молились старики, лучше б сюда больше не возвращались.
Было три места в селе, у которых обыкновенно останавливался Богдан. Одно – дом, в котором жил отец Дарки с дочкой Стасей – Сергий. Ничего особенного в том доме не было – один этаж, выстроенный из красного кирпича, и обычный двор, загороженный уже не деревянным, а железным забором. Теперь-то дом этот не шел ни в какое сравнение с домом школьного директора Тараса, который когда-то считался в селе самым зажиточным. А до того Сергий считался мужичком убогим, и казалось, что все, на что ему даны способности, – это крутить руль колхозного грузовика. Сейчас же Сергий неделями колесил по Польше за рулем КамАЗа, перегоняя европейские грузы. Еще поговаривали, что из Львова в Польшу он возил сигареты и продавал их там в три, а то и в четыре раза дороже. Вот и неудивительно, что заработал он на дом из кирпича и новую оградку и вообще достатка достиг повыше, чем большинство сельчан. Хотя были в селе люди, которые, как Тарас, не сумели приспособиться к новой жизни и привыкнуть к тому, что знания больше не имели цены. Ценным был физический труд, а вместе с ним – желание пересечь границу. Профессорами ведь, докторами и учителями волосянские в Европах не становились. Трудились они там руками, ногами и всеми своими жилами, не гнушаясь тянуть последние на такой работе, делать которую сами европейцы давно отказались.
Но вернемся ненадолго к Богдану. Во время редких прогулок по селу первую остановку делал он напротив дома Сергия и, улыбаясь, смотрел через оградку. Но не подумайте, что улыбался он самому дому или кому-нибудь из его обитателей. Ничуть. Богдан Вайда любовался цветами, которые пестрели то тут, то там по двору. На смену тюльпанам приходили рыжие лилии, произрастающие вблизи от только начинающих поднимать головы пионов. Но особенно хороши были мальвы – такого яркого цвета, что глаз от них горел. Высаживала их Стася, которой теперь было пятнадцать лет. Бывало, что Богдан заставал и саму Стасю копавшейся перед домом в земле.
– Добридень, дядь Богдан! – окликала она его.
Богдан улыбался ей той же улыбкой, какой теперь встречал каждого сельчанина. Хотя справедливости ради стоит сказать, что в глазах Богдана, спокойных, как стоячая вода, появлялась толика интереса, когда Стася опускала в ямку луковицу цветка – осторожно и с каким-то даже торжеством, словно та была сокровищем. Потом Богдан наведывался сюда снова – и всегда ровно в тот самый срок, когда цветок, вошедший в землю луковицей, уже начинал разворачиваться лепестками. И настолько Богдан в этом был точен, что впору было подумать, будто с каждым цветком он держит отдельную связь. Но сам цветов не сажал. Во дворе хаты, в которой он после смерти матери остался один, обосновались куры и петухи, которых Богдан резать жалел и развел в немыслимом для хозяйства количестве. Они чинно прохаживались по двору – и старые и молодые, – как и положено птицам, никогда не видавшим, как к горлу их сородичей приставляется нож.
– Богдан, на що тебе три петуха? – однажды обратился к нему Лука, в то время самолично взявший на себя роль сельского старосты. – Или к твоим курам особый подход требуется? Смотри, разборчивыми они у тебя станут. Зарежь самых старых петухов, они только объедают тебя. Одного молодого петушка оставь, он всех курей твоих оприходует.
И ведь в любом месте найдутся люди, которые считают, что без их участия течение дел застопорится, то хорошее, что должно произойти, не произойдет, а то плохое, которого никто и не ждал, непременно случится. И случится лишь потому, что у них совета не спросили и не привлекли к деятельному участию. Таким был и Лука – широкоплечий, с толстой короткой шеей, плоским лицом и нехорошими шутками.
– Хай живуть, – серьезно ответил ему Богдан.
И Лука, покрутивший неодобрительно бритой своей башкой, понес на языке трех Богдановых петухов по селу, словно те были и не птицами разной степени зрелости, а диковинкой, что давала повод посмеяться над человеком. А уж над таким, как Богдан, грех было не посмеяться. Отчего ж не посмеяться над тихим человеком, который сдачи не даст, не позубоскалит в отместку?
– Хай смеются, если им хочется. Это хорошо, когда люди смеются, – сказал только Богдан, когда Лука разнес смех по всему селу, присовокупляя теперь к петухам Светланку, извлеченную его языком из десятилетнего забытья. Намекал он на то, что, мол, Светланке когда-то, как и Богдановым курам, одного петуха не хватило, она и пана Степана к рукам прибрала. И кто его знает, не было ли там третьего петушка, раз у Богдана в курином хозяйстве троица обосновалась.
Если сам Богдан не злился, не слышал и не слушал, то был один человек в Волосянке, который красной злостью от таких разговоров надувался. То был пан Степан, который, к слову сказать, давно женился на своей однокласснице Анне – некрасивой и, чего уж правду таить, оформившейся на тот момент в старую деву так прочно, что спасти от безбрачия ее могло только чудо. Таким чудом и стал для нее пан Степан. Хоть и попахивало от того чуда гнильцой, веявшей от могилы первой его жены Светланки, но не лучше ль вот так, чем всю жизнь одной? Говорят, что Анна, приняв предложение пана, правильно рассудила. Да и пан был прав – только такая, как Анна, могла за него пойти – после Светланки-то, умершей в первую брачную ночь. А слухи об той ночи в селе разные ходили. Уши одного только пана Степана они обошли стороной – село, оно ведь такое, нехорошие слова в нем будут роиться, словно пчелы, и каждый житель успеет взять на язык их яду, да не по одному разу лакнет, а по многу, но вот тебя самого – предмет этих обсуждений – слова облетят стороной. Потому как небезопасно яд языком лакать в присутствии того, о ком этим языком треплешься.
Но разве ж пан сам не знал, что им было содеяно? Знал. Лучше других знал. И вот до того, что было на самом деле, и до того, что знал пан знанием стойким, языкам сельским было ой как далеко. А потому, хоть и не слыша слов осуждающих, пан все же побаивался свататься к тем, чью чистоту ни разу не поганили языки. Он и сам внутренне сторонился той чистоты – до чего б явно на ней проступили его собственные грехи. А Анна не была чиста. Ничего дурного эта женщина не сделала. Единственными грехами ее были некрасивость и чрезмерная угрюмость, которая все прибавлялась по мере того, как незамужние годы шли. Вот рядом с такой женщиной пан не побоялся в церкви под венцом встать, и еще вид имел такой надутый и важный, словно Анна благодарить его должна за то, что на ней женился. Впрочем, так думало и все село – Анне, мол, повезло. И если б не смерть Светланки, такой человек, как пан, к ней в жизни б не посватался, и пусть, мол, благодарит чужое несчастье, из которого она вынула свое счастье. Да, тут уж ничего не попишешь – в таких селах, как Волосянка, женское одиночество пятнает сильнее, чем страшный мужской грех.
Так вот. Даже спустя десять лет пан злился на Луку до красноты, но возмущения своего вслух не высказывал – кто знал, что ему могли на этот раз припомнить? До каких выкрутасов словесных могли дойти слухи, утяжеленные десятью прошедшими годами? С одной стороны, эти годы стерли, уничтожили доказательства его виноватости. Но с другой стороны, через срок и невинность доказать было трудней.
А Луке же простим его нетактичность. Все равно ведь не зло его за язык тянуло. Уверен он был, что как раз в его совете и нуждаются и что без подсказки сам человек никогда не догадается, как правильно поступать. То есть действовал Лука, как ни крути, из лучших побуждений. Они и подтолкнули его как-то раз, остановившись у дома Сергия ровно там, где Богдан обычно остановки брал, отдуваясь от ходьбы и фыркая при каждом слове, обратиться с советом к Стасе.







