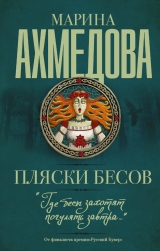
Текст книги "Пляски бесов"
Автор книги: Марина Ахмедова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Ты б, девочка, лучше цветы у церкви посадила, – заговорил он с ней через оградку строгим голосом. – Толку было бы больше.
– Не больше, дядько Лука, – ответила Стася. – Там забор высокий. Прохожие цветов не увидят.
– Зато Бог увидит, – наставительно протянул Лука.
– Важнее, чтоб люди увидели, – выглянула Стася из-за бутонов кустовых роз, которые так сильны были приятным запахом, что удавалось ему проплыть через весь двор, перелезть через оградку и там пощекотать кончиком в ноздрях у Луки.
– А зачем тебе, чтоб люди их видели? – гнусавым голосом спросил тот.
– Ну как… – задумалась над ответом Стася. – Пройдет человек, увидит красоту, и она его спасет.
– Эх-хе-хе-хе-хе, – засмеялся Лука и потом еще долго не переставал похихикивать, идя дальше по своим делам, ерзая в тесном пиджаке плечами и выхрюкивая из ноздрей цветочный аромат.
В дальнейшем еще не раз приходилось ему намекать на то, что не один Богдан у них в Волосянке такой интересный. Мол, того-то красота уже спасла, и результат спасения «мы все увидели». А стало быть, не дай Боже и не приведи Господь красотой быть спасенным. Оно, конечно, не хотел Лука Стасе зла, но язык человеческий, он ведь такой – не может обойтись без дела. А когда сообщить особо нечего, то и начинает язык жить своей жизнью, выкрутасничать, изобретая то, чего нет, и вытягивая россказни из ниоткуда. И когда Лука вот так сиюминутно молол и перемалывал, не думал он о том, что намолоченное может тяжко лечь на судьбу девочки. А потому простим ему и эту его слабость, как и тем простим, кто намеленное подхватывал. По одной простой причине они прощения заслуживают – делали они то по неведению и не со зла.
Как бы там ни было, село жило своей жизнью – обновленной, сытой. Но все, что в нем случилось когда-то, начиная от основания Волосянки, проходя через пришествие татар, вырезавших почти все село и бросивших у спаленной церкви тяжелую цепь, через крыивки лесные, через первого Богдана Вайду и его дела, через Богдана Вайду, ныне живущего, и доходя до цветов, посаженных в изобилии Стасей у дома Сергия, – все это хранилось под спудом, под ногами, тихое, но готовое в любой момент ожить, потянутое сверху языками тех, кто помнил. Поэтому, выходит, память – все равно что тягач, способный выворачивать самые глубокие пласты. И тем меньше дурного выйдет из тьмы забытья наружу, чем меньше языки примут на себя неправды.
Но сделаем и вторую остановку вместе с Богданом. Она всегда оказывалась у дерева – березы, растущей у заброшенного домишки. А домишко тот стоял под зеленым холмом и служил раньше ветеринарным пунктом. Одноэтажный, на теперешний момент он имел почти новую крышу, положенную лет пять назад. Но деревянные стены были истерзаны дождями, некоторые доски снизу подломились, а окна, и того пуще, были забиты так, что не пропускали нисколечко света. Только смысла в запертых окнах теперь не было никакого – через нижние пробоины, нагнувшись, можно было увидеть внутренность домика от пола до потолка. Дверь стояла еще крепкая с новеньким замком, повешенным на петлю. Но скотину сюда давно не водили – ездили в соседнюю Тухлю, где принимал ветеринар, отучившийся во Львове. Куда делся волосянский скотный врач – неизвестно. Был он не местным и, говорят, не так давно съехал отсюда то ли в Польшу, а то ли в центральную часть Украины.
Конечно, если размотать клубок событий пятилетней давности, то занятная картина обрисовывалась. В ту осень как будто бы свинья одного сельчанина лишилась того скудного ума, что был положен Богом в ее свиную голову. Как-то раз стала рваться со двора, сломала оградку, с громким визгом побежала на горку и там, скорее всего, планировала совершить самоубийство, бросившись сверху вниз головой. Но хозяин ее оказался прытким – догнал свинью и в последний момент ухватил за задние ноги. Беглянку вернули домой, но с тех пор за ней требовался глаз да глаз – свинья так и норовила наскочить толстокожей грудью на вилы, проглотить деревянный кол, предварительно отодрав его зубами от частокола. И все бы ничего, если б это суицидальное поветрие не стало перекидываться на соседних свиней. А Волосянка – она только с виду село тихое. На самом же деле люди тут живут осведомленные, и нет практически ни одной ситуации, даже самой невероятной, в которой сельчанин не знал бы, как себя вести или к кому за помощью обратиться. Тогда-то и вспомнили об отце Василе Вороновском. Вспомнили и то, что после строительства его церкви в Солонке такая же беда происходила с солонскими свиньями. А потому солончане какое-то время протестовали против наличия этой церкви в их селе, считая, что бесы, изгоняемые Вороновским, никуда не деваются, а в селе же и остаются, находя пристанище в теле скота. И то не так обидно было бы, если б поп из своих, из местных жителей бесов изгонял, но ведь со своими бесами сюда каждое воскресенье заявлялись пришлые. А стало быть, конца и края бесам не предвиделось. Уж как отец Василий замял это дело – нам неизвестно. Церковь-то и по сей день стоит. Значит, найдено было решение. А может, то просто чумка свиная была, а люди по своей привычке искать кругом виноватых, а своих собственных ошибок не замечать, обвинили в свиных болезнях силы потусторонние, привлеченные простым попом Киевского патриархата. Ну да не о том речь.
Свинью ту было решено сдать на осмотр сельскому ветеринару. Что и было сделано незамедлительно. И вот в тот-то день домишко, возле которого растет одинокая береза, гремел, подплясывал, ходуном ходил, и казалось, еще чуть-чуть – сорвется с места и побежит бросаться с самой высокой горки крышей вниз. Визги и голоса оттуда доносились столь страшные, что не нашлось любопытных, готовых заглянуть внутрь.
Наконец из дверей кубарем выкатился ветеринар и, утирая с висков пот, помчался по селу, нигде не останавливаясь, чтобы передохнуть. Отдышавшись, он потом рассказывал, будто бы пациентка улыбалась ему во все свиное рыло и вела заумные разговоры человеческим голосом. А когда тот, перепуганный, выглянул в коридор кликнуть хозяина, того уже и след простыл. Пациентка же перевернула лоток с инструментами, визжала и бросалась на стены, ища из ветеринарного пункта выход. Но по словам скотного врача, выглядело все так, будто кто-то искал выход из нее самой. Стоит ли верить ему – это уж вы сами решайте, как хотите. Человек он был грамотный, в институте отучившийся, одним словом, хоть и скотный врач, но приобщенный к некоторой культуре. Тут, правда, всплывало одно обстоятельство, не прошедшее мимо внимания волосянских – говорят, накануне был он в хате у Панаса и отведал там уже известной нам хреновухи. А что после нее с людьми делается и какие страхи им потом мерещатся, уже рассказано на примере пана Степана.
Ветеринар же после счастливого избавления из-под свиных копыт запил и божился, что в пункт приема хворой скотины больше ни ногой. Тогда-то и вспомнили про отца Василия – говорили, мол, по его части это дело. И уже было собрались за ним ехать, но в чем-то дело застопорилось и забылось. Да и свинья та, надо сказать, нашла упокоение на заборе, напоровшись прямиком сердцем на кол. Крови ее сердечный орган испустил немало – целый ручей, вязкий и липкий, потек поперек дороги. Ветеринар, выйдя из запоя, съехал насовсем из Волосянки. Пункт же ветеринарный остался стоять пустым. Сельские еще надеялись, что выпишут им из райцентра другого специалиста по скотским болезням, но такого в скором времени не нашлось, и они приучились ездить в Тухлю или Славское. И наконец все привыкли к тому, что ветеринарный пункт теперь пустует, ничем не занятый. А потом кто-то и окна в нем позаколачивал. И так домик стоял без надобности, доски его гнили снизу – ветшал он, как всегда бывает с деревянными строениями, не согретыми человеческим дыханием. А когда первые доски в нем подломились, то все посмотрели на это обстоятельство как на само собой разумеющееся. Да и мало кто замечал теперь изменения в нем. Так и ходили мимо ветеринарного пункта, выделяя его из общей сельской картины не более, чем дерево или забор. Но как показало дальнейшее развитие событий – зазря списали так рано домишко со счетов. Разве не в том правда, что любое строение, возведенное человеческой рукой, да еще и из дерева, и само живо, и наполнения жизнью требует, и что любому месту предпочтительней не оставаться пустым? И уж если человек обречет его на пустоту, то оно без ведома человека заполнится. А вот чем – это уже другой вопрос.
Что Богдан видел в той березе, стоящей неподалеку от заброшенного ветеринарного пункта, кроме него самого никому не ведомо. То была береза как береза. Да что там была? Она и по сей день стоит. И сам пункт стоит. А не верите, поезжайте в Волосянку. Так вот. В березе той не было ничего такого, на что можно было глазеть часами, как это делал Богдан. Кроме разве что одной особенности, справедливей сказать – изъяна. На стволе имелся нарост – овальной формы, выпуклый. Посредине его рассекала глубокая трещина, из которой виднелась полоска розовой березовой плоти. От нароста снизу по стволу трещина бежала дальше – вниз, до самой земли, и струился из нее скупыми каплями липкий березовый сок, похожий на мутные слезы. И вот если присмотреться к наросту и трещине, если взглядом выделить только их да и обхватить отдельно от всего другого, а еще переключить взгляд так, чтобы не виделось, а казалось, то береза представала как имеющая срамное женское место. И не туда ли смотрел Богдан, который, как известно, после смерти Светланки отношений с женским полом больше не завязывал, а жил себе один в окружении своих кур, кошек и собак? Но имеем ли мы право столь дурно об этом тихом человеке судить? Впрочем, почему-то он ведь выбрал именно эту березу…
Сморгнув видимое с глаз, Богдан отходил от березы и следующую остановку делал у уже описанного выше ветеринарного пункта. Глядел в его заколоченные окна, имея на лице выражение такое, словно вот только что, пока стоял у березы, стал свидетелем некого постыдства, да только не получил от него удовольствия, а одно лишь смущение, какое возникает у детей, когда им невдомек смысл происходящего, но душа их – бессмертная и древняя – замирает и пугается.
Стоя у домишка, Богдан мрачнел и хмурился, сверлил глазами окна, хотя ведь мог бы нагнуться. Дышал тяжело – то споры затхлости находили путь через нижние доски и щекотали в носу, отгоняя отсюда живое. Богдан вздыхал, по всему было видно, мучился, но от домика не отходил. Впрочем, за все годы, прошедшие с тех пор, как он заприметил березу, Богдан в него так ни разу и не вошел. Однако всему когда-нибудь приходит конец. Пришел конец и бездеятельному созерцанию Богдана.
В тот день Богдан, как обычно, собирался отвернуться от домика и идти дальше своей дорогой. Но только он было сошел с места, как из травы, что густо опоясывала домишко, поднялся легкий ветерок и раздвинул ее сочные языки. А из них показался цветок – алый. То был тюльпан. Как брат родной похожий на те, что сажала Стася под окнами своего дома. На Богдана вид тюльпана произвел сильное впечатление. Он задохнулся на вздохе, приложил руку к груди. Растрогался. Пошел к нему через траву, сел перед цветком на колени, аккуратно обнял его головку ладонями и, было б от чего, заплакал. Плакал Богдан навзрыд, судорожно подтягивая к голове плечи и сразу снова роняя их. Слезы его обильно текли по щекам, капали на землю, попадали в чашу лепестков. Плакал Богдан до тех пор, пока не услышал, как из самого домишка доносятся похожие звуки – кто-то поскуливает ему в такт да всхлипывает, на жизнь жалуется. Выпрямился Богдан, выпустил головку тюльпана из рук. Прислушался. И ведь знал, какие истории об этом месте по селу гуляли, а все равно поднялся да и пошел прямиком к двери. Повозился пальцами в замке, а тот на ключик и не заперт оказался. Открыл его и оставил висеть длинным разомкнутым языком на петле. Отворил дверь. В нос ему тут же пахну´ло землей, находящейся в той стадии влажности, когда ей самое время родить здоровых червей. Сощурился от недостатка света. Почесал щеку и наконец различил в темном углу что-то живое, нескладное и невразумительное для человеческого глаза.
А полулежало там, свернувшись калачиком, не то животное, не то человек, а не то рыбина гигантская. Бледная землистая кожа обтягивала длинные тонкие кости, остро проступающие на спине. Голова, засаженная длинными желтыми паклями волос, склонялась вниз, и лица, а то и морды, было не разглядеть. Богдан подошел ближе и теперь увидел, что существо больше на человека было похоже. Увидел и длинные стопы с острыми грязными ногтями. Одна рука – левая – лежала вдоль тела, вывернутая ладонью вверх. Синюшно-бледную кожу прошивали жесткие тугие вены. И попахивало от существа чем-то нехорошим – то ли тиной, то ли водой стоячей. Но было живо оно, потому как впалая спина ходила вверх-вниз, сотрясаясь в рыданиях. Богдан подошел ближе и даже протянул к существу руку.
– Уйди, человек, – проговорило оно.
– Помочь тебе хочу, – ответствовал Богдан.
Рус – а это именно он и был – поднял голову. Его огромные голубые глаза мерцали в темноте, но никакого выражения в них не было.
– Бесу помочь хочешь? – без интереса спросил он.
– А хоть и бесу, – снова заговорил Богдан. – Вон ты плачешь так, что сердце щемит. Я горю твоему помочь хочу, а со своими грехами ты сам разбирайся.
Рус подобрался, присел и положил тупой подбородок на грязные колени. Богдан все стоял перед ним, продолжая тянуть руку. Неожиданно усмехнувшись, бес плюнул в его открытую руку. Богдан обтер ее об штаны и протянул руку снова.
– А ты знаешь дела мои, человек? – присюсюкивая и противно щурясь, поинтересовался Рус.
– Богданом меня звать, – ответил человек. – Дела мне твои неизвестны, и знать их у меня интереса нет. Мне б свое дело сделать – живому существу в горе помочь.
– Грех на душу взять не боишься, бесу помогая? – задал новый вопрос Рус, и слышно было, как с каждым словом голос его крепнет, а в мутных глазах проглядывает нехорошее выражение.
– Моей душе и без того тяжко стало, как только услышал твой плач, – ответил Богдан.
– От помощи твоей не отказываюсь, – отозвался бес, блеснув в темноте глазами. – Но сначала тебе узнать придется о том моем деле, благодаря которому я тут оказался. Вот тогда ты свободно и рассудишь – помогать мне или нет.
– Говори, если потребность у тебя такая имеется, – ответил Богдан, присаживаясь на деревянный гнилой обрубок, который раньше служил стулом. – Но знай, что решение я принял, а выслушать тебя согласен только потому, что тебе самому это требуется. А так бы сразу мне и приступить к делу, а потом разойтись нам – каждому по своей дороге.
– Так не выйдет, человек, – покачал головой бес, – чтобы сразу разойтись, если мы с тобой повстречались… Тогда слушай, – широкие веки скользнули по его рыбьим глазам. – Не далее как пять лет назад, если по вашему времени считать, совокупился я с одной человеческой женщиной… – заговорил Рус и тут же был перебит Богданом:
– Зачем же ты мне пакости такие рассказываешь?
– А что тут пакостного? – захихикал бес. – Человеки с женщинами совокупляются – и мы, бесы, тоже ими не брезгуем. Но ты не бойся, Богдан, об удовольствиях своих тебе рассказывать не стану. Женщину ту ты знаешь и сам ею когда-то побрезговал. То Дарка. Она первая себя в нашу сторону приоткрыла… Продолжать? – спросил бес, заметив, что Богдан приложил к ушам ладони, не желая слушать его. – Вселился я в нее, – заговорил он снова, когда Богдан отнял руки от головы. – И заскучал сразу. Скучная то женщина была, худосочная. Несколько лет она, человек, провела, оплакивая тебя, из дома носа не высовывала, прела в комнатах, в слезах, в одиночестве. С одной стороны, для беса в этом благодать была, но с другой – в такой бабе не лучше, чем в болоте. Стал я изводить ее помаленьку, косточки надгрызать. Ее понесло к Василию – давили мы этого выродка в сорок первом, не додавили, – Рус щелкнул зубами. – Хочешь знать ту историю, Богдан, как Василия Вороновского со всеми его родичами мы давили? Не желаешь… – захихикал он, увидев, как Богдан снова прикрывает уши руками. – Зря от своего прошлого воротишься.
– Яко мое прошлое? – заговорил Богдан. – В сорок першем меня еще на свете не было.
– Тебя не было, а дед твой Богдан Вайда был.
– То дед мой, не я, – отвечал Богдан.
– Вот как ты заговорил, человек, – прошипел бес, приподнимаясь и с каждой секундой наливаясь силой. – То дед твой… – басисто хохотнул он. – А не ты ли – кость от кости деда твоего? Чую я запах твой, человек, и пахнет от тебя Богданом Вайдой и его делами. Нашими общими делами.
– Заканчивай свою историю, бес, – прервал его Богдан.
– А не то передумаешь?
– Обещания своего не изменю.
– Мстить нам он еще в те времена поклялся, Василий этот, – продолжил бес. – Придавить его как муху труда теперь не было б никакого – кости ему мы уже так искрошили, что, того и гляди, шаг ступит, и ноги его по колени рассыплются. Если б не монашеская братия в Киеве. Молятся чернорясные, не переставая. На одних молитвах кости Василия и держатся. До поры до времени… Да ведома ли тебе, Богдан Вайда-младший, история твоей семьи и семьи небезызвестного тебе Панаса и какое самоличное участие в ней твой дед принял? Вижу, неведома. Так и быть, открою ее тебе, – сипел бес, – но не сейчас, а ко времени, оно, – тут он тонко потянул носом, – уже на подходе. Одолел меня Василий не без помощи Панаса. Вышиб из Даркиного тела. Обиделся я тогда. А знаешь ли ты, Богдан Вайда-младший, что нету у беса другого чувства, кроме как обида? Ни радости вашей человеческой, ни злобы мы не испытываем и живем совсем без чувств. А потому знай и то, что я бы тебя не пожалел – неведома нам жалость. Но если уж обидеть беса, то обида его будет такой, что вам, людям, и не снилась. Испытать ее вам и во сне не дано. Бежал я в тот день из церкви, обиженный. Весь мир сузился для меня в одну точку – одинокую звезду на черном небе. И точка эта с ног до головы пронзала меня обидой. Весь мир стал обидой. Обидой, какую не перенести ни горам, ни водам, ни небосклону. И я один, бесовская сущность, отринутая Богом, бежал по миру, созданному им не для меня и не для таких, как я, пронзенный той обидой, какую Бог положил в наказание лишь нам одним, – сипел Рус, продлевая окончания слов, шевеля бескровными губами и широко распахивая глаза, в которых не было ни зрачка, ни радужки. – То была обида – первородная, впервые испытанная падшим, получившим пинок от божественной ноги, и павшим еще ниже, чем собирался. Такая обида дана нам в наказание, и Василий об том знал. Отголоски ее витали над ним во сне, и если как человек он почувствовать на себе ее не мог, то намек ему был дан. А потому, изгоняя беса из тела человеческого, Василий и подобные ему совершают неслыханную, невообразимую и нечеловеческую жестокость. Которая, впрочем, идет аду только во благо великое – столь обширное, что впору утверждать: ад будет существовать вечно. А теперь ты, Богдан-младший, рассуди сам – кто творит ад: бес или человек?
– Не судья я никому, – промолвил Богдан.
– Ха-х, – бес щелкнул пальцами. – Да внук ли ты того Богдана Вайды? Пахнет от тебя им, а речи твои – не его… Тогда слушай дальше. То я направил Даркины ноги под микроавтобус, но в смерти ее повинен Василий. Ему и ответ нести. А в мертвом теле бесу уже делать нечего. Была мысль у меня в сестру ее малолетнюю вселиться. Да тесноты побоялся. Бросился бежать дальше. Так до Волосянки и добежал. Хотел в озерцо бултыхнуться, но притомился в дороге и одолел свинью. Вот тут, на этом самом месте мы с ветеринаром местным и порезвились. А почему мне не жилось в свинье, спросишь… Открою. Животные – они от людей тем отличаются, что беса долго в себе не терпят. А человек терпелив, не по благости своей, не по силе, а по той лишь одной причине, что сущность наша ему приемлема… А дальше ты все сам знаешь. Остался я тут, никем не тревожимый, но и обессиленный. Чуть не сгинул совсем, но девчонка сюда повадилась ходить. Цветов насажала. Один только пророс, но мне, бесу, близости ее хватило, чтоб не загинуть в это лето окончательно – в нежить не превратиться, не сойти со ступени, которая приближает меня к Сатане. А теперь и ты, Богдан, показался. А я, можно сказать, ждал того, кто меня пожалеет. Пожалеть беса лишь исключительному человеку дано, а потому скажу тебе сразу: судьба твоя, Богдан, – исключительная, и на Светланке она не закончилась. С сегодняшнего дня она только начинается. Перемены большие грядут, Богдан. Грядут и неминуемы. И ты в переменах тех участие примешь. С первого раза покажется тебе, что силы потусторонние тебя наставляют, но знай, что в том – личный выбор твой. Ведь беса спасать тебя никто не неволит, за язык тебя, Богдан, никто не тянет. Хочешь уберечься? Одно только слово, Богдан Вайда, и за заслуги деда твоего перед адом еще будет дан тебе выбор. В последний раз спрашиваю – окончательно ты решился беса спасать?
– Слов ты странных наговорил много, – почесал у виска Богдан. Встал. Развел руками. Снова сел. – Многое из тобой сказанного я и вовсе не понял. По-русски говорить отвык. Может, на мове я больше б в разумение взял. А так слова твои мне и обдумывать некогда – дела у меня, куры некормленные с обеда. Пора мне до дома идти. Слов своих назад не беру. Кто б ты ни был передо мной – бес ли, человек ли, скотина ль? – если страдаешь, я тебе помогу. В том доброе я вижу. И одно знаю – в добром деле греха нет.
– Будь по-твоему, Богдан, – бес снова опустился на землю и прикорнул в уголке. Расплакался, застонал. – Снеси меня в полночь до озерца. Ноги мои ослабли, сами не идут. Да мешок покрепче прихвати. Ждать тебя на этом месте буду сегодня же ночью.
– Я приду, – ответил Богдан и отправился прочь.
Пошел Богдан дорожкой привычной. А солнце уже к закату склонялось. Горы вставали перед ним расписные. А уж купола церковные, словно пряники, выпеченные небосводом к великому празднику, теплыми добрыми цветами горели и глаза веселили. Где-то вдалеке через огороды перекликались сельские тетки. За домами проехал мотоцикл, а когда его стрекот умолк, послышался звук вбиваемого колышка в землю – тюк-тюк молотком по шляпке. Вот и вздрогнуло все село, огласилось металлическим звоном, повеселело. Зажмурился Богдан. Открыл глаза, смахнул рукой с лица что-то и пошел по дороге вниз так спешно, словно хотелось ему поскорей унести ноги с этого места, из этого села, из этого лета. А ведь так бывает по лету – и вроде все хорошо, и вроде все звенит и щебечет, и вроде лучше уже на земле быть не может, и негоже другого добра от такого-то всепоглощающего добра искать, а все равно в сердце защемит, и хочется зимы поскорей, и холодов, и ненастий. Бывает такое, бывает. Особенно в деревнях часто такое чувство на человека находит.
Кукушка кукукнула и замолчала, словно кто заставил ее прихлопнуть клюв. Замелькали мимо березы, от старости сбросившие белую кору и обнажившие черный подбой. И солнечные лучи из-за ветвей сбоку били в глаза Богдана яркими вспышками. Вечерние мошки тучкой роились перед его лицом. Полетела низко птица, роняя перо, и то, вертясь медленно по воздуху, приземлилось в траву. Богдан шел вниз, вниз, быстро переставляя ноги. У магазина ему встретился Лука, который выплывал из узких дверей, весь скованный узкими плечами пиджака. Улыбка расплывалась по его широкому лицу. Но, увидев Богдана, он приостановился, улыбка сползла с его лица. Неодобрительно, а можно сказать, что и с укором, он вперился в спину Богдана, вздыхая и качая головой, словно то не человек двигался вниз под горку, а какой-то непорядок, обосновавшийся в селе.
Дальше, дальше. Вниз, вниз. Вот уже и журчание ручья перерезало горло вечерней тишине. Задрал голову Богдан. А с гор-то хорошо различимая темнота на село наползала. И каждое дерево, сливавшееся в единый ковер, словно выталкивало ее из-под своих корней и гнало вниз. И показалось Богдану, что он эту темноту ногами подхватил и понес вниз по селу. А если б не его быстрый ход, может, не скоро бы она еще сюда доползла. Остановился он – в том самом месте, где под ногами его тек ручей. Вот и купола погасли, словно кто-то выключил внутри них подсветку. Птицы примолкли, словно и их клювы, вслед за кукушечьим, заткнули комки темноты – пока невидимой, но готовой вскорости поглотить все вокруг. Вперился Богдан глазами в ручей. А его перерезала та самая дорожка, что отсюда на кладбище вела. Вон и крест, увитый розами, отсюда хорошо виднелся. А ручей не поддался – ручей под землей потек, чтобы, миновав дорогу, снова выйти наружу. Такова она – сила воды.
Но встал Богдан на то самое место, где ручей под землю уходил. Ах, как смело он звенел, как бойко перепрыгивал подводные камушки, как рвался вперед, как озорно дергал за края широких лопухов, растущих по обеим его бережкам. Но каким же тихим он становился, пройдя под землей кладбищенскую дорожку! Какой вялой и застойной казалась его вода, вытекая с другого конца! Став тихой и потемнев, она уже никуда не спешила, словно за короткий миг успела познать вкус смерти. Обернулся Богдан. Посмотрел на церковь, и показалось ему, что та все знала. И то, что темнота нагрянет вот-вот. И то, что с одного конца в ручье журчит живая вода, а пройдя под дорожкой, становится мертвой. И то, что темные дела могут твориться при свете дня, а светлые – под покровом ночи. Но и то, кажется, знала церковь, что, какое бы светило ни вышло на небо, бывают такие дела, цвет которых различить не так-то просто. Светлые ль они, темные ль? Кто в этом разберется? Кто осудит? И в какой цвет покрасится само осуждение? Церковь знала все.
Но день заканчивался. Наступала ночь.
Месяц врезался в небо острым серпом, повернутым в ту сторону, с которой прибыль идет, а не убыль. Небо не было чистым – по нему, уходящему темной бездной вверх, были раскиданы белесые парны́е образования, словно кто-то надышал на теплое небо нездешним хладом. И земля в эту ночную пору была под ногами мягкой, отдающей скопленное за день тепло. Дома, в которых давно уже погасли окна, почти сливались с темнотой, только заборы вырисовывались четко, держа на кончиках колышков звездный свет и пропуская его сквозь щели. А потому многие заборы смотрелись нарисованными серебристым карандашом по темноте. Ну и, конечно же, мальвы, лишь едва сомкнувшие лепестки, скорее не из желания уйти в сон, а из согласия с отправившимся на покой окружающим миром, не переставали собирать ночной свет в свои нежные чаши. Свет съедал их цвет, так ослепляющий глаз днем, что в сравнении с ним все кажется бескровным, а мальва же одна и пьет кровь земли – малиново-алую, нащупав своими чуткими корнями ту самую жилу, по которой струится та. Ох уж этот молодой месяц – как любит он раскрашивать ночной мир на свой манер.
Ночные насекомые стрекотали, и лишь благодаря их стрекоту оставалась надежда, что за темными стенами домов на устах уснувших еще теплится жизнь. Вот в такую пору по деревенской дороге уверенной походкой прошел Богдан. Плечи его распрямились. При свете ночных светил сделался он похож на того Богдана, которого мы знали лет десять назад. И в этот раз он нес под мышкой что-то похожее на свернутый мешок. Впрочем, мешок то и был – из тех, в которых торговцы завозят просо для курей.
Никем не встреченный, он дошел до заброшенного ветеринарного пункта и свернул к нему. Прошуршал по темной траве, приминая ее к горячей земле, но все же обходя тюльпан, крепко закрывшийся от ночи. Уверенно дернул дверь. Язык замка тихо клацнул в ответ. Богдан исчез, поглощенный черной сыростью маленького строения, которое, то ли оттого, что не было вокруг него забора, а то ли оттого, что овраг, стоящий под ним, подрубал луч месяца и оставлял истекать светом внизу, просматривалось с дороги хорошо.
На какое-то время все затихло. Из домика не доносилось ни звука, и оттого казалось, что затхлые споры, среди ночи распространявшие свое влияние далеко, поглотили Богдана и сейчас обгладывают его до белых костей. Но вот тут-то на дороге и возникла крепкая грузная фигура. Остановилась у той самой березы и притаилась.
Вскорости дверь домика скрипнула, и из нее показался Богдан. Теперь походка его стала медленной и тяжелой. Когда он, миновав высокую траву, ступил на дорогу, стало видно, что идет он, согнувшись и неся на спине что-то тяжелое. То был мешок, бугрящийся округлостями в разных местах.
Он поравнялся с березой. Ветви ее зашуршали.
– Богдан, остановись на секунду, – позвал мужской голос.
Богдан тихо вздрогнул и встал. Из-за березы выступил Панас. Вперив руки в бока, он со всей серьезностью своих уже старых глаз осматривал сгорбившегося под тяжестью Богдана. В Панасовых тяжелых глазах появился укор, и он с осуждением покачал головой. Но заговорил он с Богданом как ни в чем не бывало, и в хриплом голосе его не слышалось ни одной дурной нотки.
– Куда путь держишь, Богдан? – спросил он.
– Не твое дело, Панас, – отозвался Богдан, и, несмотря на смысл произнесенных слов, в голосе его тоже не было ничего злого или недоброго.
– Кажется тебе, Богдан, что то дело не мое, – Панас сделал шаг в его сторону, и можно было заметить, как подобрался мешок на спине Богдана, как меньше стали заметны выпуклости на нем. Но сам Богдан не отступил, а только, насколько это возможно было под тяжестью, развернул плечи. – А может так статься, что дело-то мое… – проговорил Панас, – напрямик мое.
– Если кажется тебе, Панас, перекрестись сразу. А то дождись утра и сходи в церковь, – сказал Богдан.
– Слушай меня, хлопец, – Панас еще ближе подступил к нему, и теперь в его манерах не было ничего от заискивания сильного зверя, который по доброй воле выбрал подчиниться человеку, – оставь того, кого несешь, там, где нашел его. Ты не ведаешь, что делаешь. Не ведаешь, какие силы пробуждаешь.
– Ты уже один раз пытался остановить меня, Панас, – напомнил Богдан.
– А был вред от моей попытки? – спросил дед.
– Вреда не было. Но и пользы – также, – ответил Богдан. – Нету эффекта у твоих слов, дед. Слышишь, по-русски тебе объясняю.
– Богдан, хлопец… – проговорил Панас, разводя руками и отступая еще дальше. – Опомнись, ты зло на своем горбу несешь, а вместе с ним нас всех в пекло огненное вгоняешь.
– Я, может, и несу зло, – решительно ответил Богдан. – Або не всегда тот, кто зло на себе несет, к злу дорожку протаптывает. Якие, как ты, Панас, только две дорожки видят. А дорожек, Панас, много. Ты меня не трожь, больше на дороге моей не вставай. Я знаю, кто тебя молоком кормил, – услышав эти слова, Панас отступил еще дальше. – Я знаю, кто ты, Панас. Давно вы засилье над нами взяли. Но придет время, недолго ждать еще, настанет вашей власти конец. Уже все к тому и идет. Уже свободные мы.







