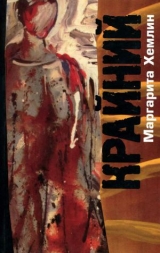
Текст книги "Крайний"
Автор книги: Маргарита Хемлин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
И так это вошло в обычай, что Надина мамаша стала отпускать ее одну. Немцы, конечно, трудились под присмотром. Но мирная жизнь диктовала перемены в отношении, и конвоиры смотрели на общение между народами сквозь пальцы.
Так Надя хорошо познакомилась с неким Вернером Мадером. И даже влюбилась в него. Он отвечал ей взаимностью. Дальше взглядов и рукопожатий дело не двигалось, потому что свобода передвижения у Вернера ограничивалась.
Он строил трехэтажный дом на улице Коцюбинского. Несколько таких уже заселили. Этот был последний на данном участке.
Как раз перед приходом в парикмахерскую Надя побежала навестить Вернера, но увидела, что никого из немцев нет, а только наши строители что-то доводят до победного конца.
Она спросила, когда приведут немцев. Ей ответили, что тут их уже не будет.
Надя в отчаянии завернула в парикмахерскую, чтобы чем-то перебить печаль. Тем более что собиралась косу резать, но со временем, перед экзаменами. А тут одно к одному.
Вопрос в чем? Вопрос в том, не могу ли я найти Вернера. Жизнь или смерть лежит перед моими глазами, и только я могу помочь. Больше никто.
Надя уронила слезу и взяла меня за руку.
– А я ведь даже не знаю, как вас зовут. Я только чувствую, что вы меня спасете.
– Меня зовут Нисл. Фамилия Зайденбанд. И я для вас луну с неба достану, Надя.
– Я так и подумала, что вы еврей. Евреи очень ответственные. Нисл – что это такое, это значит или не значит?
– Есть значение. Орешек. Ну, орех.
– Я люблю понимать смысл. А фамилия?
– Фамилия смешная. Шелковый бант. Примерно так.
– Да. А у меня просто – Надежда Приходько. Вы по-еврейскому говорите, Нисл?
– Говорю. Немного забыл. Но могу вспомнить.
– Жалко, что я не говорю на вашем языке. А то бы мы тайно обговаривали действия, чтоб никто не догадался.
– А как вы с Вернером говорили? По-немецкому?
– И по-немецкому, и по-русскому. По-всякому. Мы мало говорили. Сами понимаете. Больше жестами. Но главное – глаза.
Я согласился.
Когда Надя рассказывала, лицо ее переменилось с грустного на радостное. Но в конце опять вернулось на свою исходную позицию.
– Я мечтаю стать знаменитой артисткой. Я год после школы работаю учетчицей в речпорту Скучно. Мама ругает, чтоб я замуж выходила и не думала про Киев. А как мне не думать, если там мое будущее? Нельзя жить без будущего. Как вы думаете?
– Нельзя. Только не надо меня на «вы» называть. Давай на «ты». Между нами разница небольшая. Тебе сколько?
– Восемнадцать.
– А мне почти двадцать один.
– Я думала – старше. Раз так, можно и на «ты». Когда начнешь искать?
– Сегодня и начну.
– Хорошо. Встречаемся по четным числам тут же, в семь часов утра. Будешь докладывать.
Надя упорхнула, а я бездумно остался в беседке. Позавидовал: у человека будущее. Даже два. Одно – институт, второе – Вернер Мадер. А у меня никакого будущего нету. Такого, чтоб наперед себе представить в общих и целых чертах. Но влюбленность взяла свое. Я направил мысли на выполнение задания.
Дело простое. Для девушки, конечно, неудобное, ходить, выпытывать. А мне как мужчине – ничего.
Отпросился на работе ввиду непредвиденных обстоятельств и прямиком в горисполком. Там работал мой шапочный знакомый – механиком в гараже.
Он посоветовал обратиться к своему знакомому в горкоме комсомола. Я туда.
Из горкома в военкомат. Из военкомата в райком партии. И все по знакомым, по рекомендациям.
День гоняли меня по закоулкам. Но никто на четкий вопрос, как узнать, где конкретный пленный что-то строит, ответить не могли. Смотрели на меня с подозрением: зачем тебе? За войну не насмотрелся на фрицев? Ясно, то были десятые люди, не при должностях, в списки посмотреть возможности не имели. А до тех, кто в списки смотрит, как я понял, не добраться.
День прошел даром.
Назавтра было четное число.
Ровно в семь утра я сидел в беседке.
Надя немножко опоздала. Я сделал комплимент, что короткий волос ей идет.
Тряхнула кудряшками и даже не покраснела.
Я с места доложил ей о временной неудаче.
Она не расстроилась, а напротив – воодушевилась.
– Так еще интересней. Давай дальше ищи. Мне бежать надо.
И быстро зацокала каблучками в удаляющемся направлении. И ноги так высоко назад выкидывала, что я заметил – на каблучках подковки железные. Справа и слева.
Я планировал признаться в своих чувствах. А после подковок полюбил еще сильнее.
Пропускать работу за счет хорошего отношения нехорошо, и я оформил отпуск за свой счет. На неделю. Но предупредил, что, возможно, мне понадобится больше.
Лето наступало все дальше, клиентов видимо-невидимо. Директор меня строго предупредил, чтоб через неделю как штык.
Я рассудил, что самое верное – ходить по городу, где идут стройки. Увижу немцев – буду спрашивать Вернера Мадера.
Так и проходил весь день из конца в конец. Нету и нету.
Потом еще день.
На одной стройке наши мне сказали, что немцев срочно перекинули на железнодорожный вокзал – там намечается торжественный пуск, подмазывают последние кирпичики.
Новое здание вокзала открывалось издалека во всей своей красе: с башней и часами.
Подошел вплотную – оцепление серьезное. С винтовками. Спрашиваю:
– Тут пленные немцы работают?
– Зачем тебе знать?
– Мне один нужен. Кое-что купить хотел. Вернер Мадер. Молодой хлопец. Красивый. – Надя мне портрета Вернера не давала, но я описал, как представлял по логике.
Один постовой меня прогнал, другой прогнал. Третий оказался добрый.
Позвал какого-то немца, спросил:
– Вернер Мадер тут? До нього наш громадянын прыйшов.
Немец посмотрел на меня, кивнул, махнул рукой, чтоб я подождал. Сам кричит, голову наверх задрал, что, мол, к Мадеру еврей явился.
Кто-то из раскрытого окна загоготал и заиграл на губной гармошке. Потом передал эстафету новостей дальше.
И весь громадный дворец загоготал, запиликал на гармошке.
И каждый кирпичик поддакивал:
– Юдэ, юдэ, юдэ!
И вот передо мной человек. Не молодой. Лет тридцати пяти. Не красивый. Но осанистый. Высокий. Черноволосый. Смотрит на меня удивленно и сверху вниз.
По-русски спрашивает:
– Что надо?
– Вернер Мадер?
– Да, я есть Вернер Мадер.
– Надя просила передать привет.
– Надья? Не знать Надья. Никогда не знать Надья.
– На Коцюбинского дом строили?
– Я.
– Туда Надя приходила. Красивая девушка.
– Не знать Надья. Передать Надья, что я ее не знать. Забыл. Я возвращаться на хаус. Майнэ семья. Надья – пшик!
Ясно по глазам бесстыжим – брешет. Мадер повернулся по-солдатски. Быстро двинулся к зданию.
Я за ним. Постовой отвлекся, не заметил. Кругом тачки, возят по доскам битые кирпичи, пыль столбом. Мадер на лестницу, и я тоже. Он побежал, я следом.
Мадер остановился у раскрытого окна на третьем этаже. Рукой об подоконник оперся, как на картине. Стекла только что вставили – замазка еще блестела, мокрая.
Я говорю:
– Мадер, тебе не стыдно? Она девчонка, а ты взрослый дядька. Она тебя полюбила. Ты ей повод давал.
Он смотрит, не мигая.
И я смотрю, ни один глаз не дрогнет.
Мадер говорит:
– Кто она тебе?
– Сестра. Родная сестра.
– Ах, зо. Юдэ. Юдэ Надья. Плен капут. Ферштеен, кляйнэ юдэ?
И в голову мне пальцем, будто курок спускает.
– Пуфф!
Я как стоял, так и вдарил его. И так вдарил, что он отклонился сильно назад. Лучше сказать – переломился. Больше от неожиданности, а не от силы. Какая у меня сила по сравнению. Смешно. И так переломился, что у него в спине треснуло. И в таком полуперевернутом назад положении – ноги тут, а спина с головой наружу и вниз – он застыл. Повисел в неопределенности пару секунд и повалился за окно.
Я кинулся на выход и бежал, пока мое сердце не остановилось. А остановилось оно где-то в районе базара. Километра через четыре.
День хоть и не базарный, но народу крутится много. Кто что пытается продать. Я для вида тыркаюсь то к одному, то к другому. А в голове стучит: убил, убил до смерти.
И тут меня сзади кто-то легонько притиснул кулаком.
– Василь!
Я обернулся. Субботин.
– Украл что-то? Признавайся, а то сейчас в милицию сдам!
Вижу, он выпивши. Не сильно. Но ощущение стойкое.
Я через силу улыбнулся:
– Ой, Валерий Иванович, какой судьбой вы тут?
– Прогуливаюсь. Сегодня у меня праздник. Пойдем со мной. И тебе веселей. И мне компания.
Субботин уцепился за мою руку повыше локтя и крепко повел рядом.
Зашли в столовую возле базара. Субботин трезвым голосом спрашивает:
– Выкладывай. Я насквозь знаю. У тебя лицо, как тогда в лесу. Ты мне такой и снился.
Я понурил взгляд.
Субботин пошел на раздачу, принес две тарелки с перловкой, хлеб, два полстакана водки. Выпил свой. Подвинул мне.
– Пей.
Я замотал головой.
– Пей, а то залью. Я выпил.
– Закуси.
Я закусил. Отхватил шматок толстой хлебной корки, не рассчитал, в рот не полезла. Рукой помог. Жую и ничего не думаю. Только думаю: еще долго, еще все переменится на хорошее – пока прожую, пока еще кусок в рот запихаю.
Субботин не торопит.
Я один кусок съел. Второй. Принялся за кашу.
В голове кружится. Я ложку зачерпну, пока в рот несу, половину по воздуху размажу.
Субботин выхватил из моей руки ложку, бросил на стол.
Закричал:
– Ну, давай! Давай, гадская твоя морда! Колись!
Мужики по соседству насторожились. Уборщица замахала мокрой тряпкой в нашу сторону, как начальник:
– Ну, хлопци, выпылы – йдить на вулыцю. Тут люды голодни, а вы им апэтыт ломаетэ. Йдить по-доброму.
Субботин ее успокоил жестом:
– Мы тихо, мамаша. Не волнуйтесь. – И ко мне: – Ну, Василек, айда на воздух.
Поднял под руки, на ноги поставил. За шиворот вывел за дверь.
Сели на скамейку с краешку палисадника.
Субботин носком ботинка на земле знаки чертит. И я тоже молчу. Язык заплелся за шею.
– Вася, не бойся. Расскажи. Помогу.
И я рассказал. Про артистку Надю Приходько, про ее задание.
Из моего рассказа получилось, что я убил немца из-за Нади. То есть из-за любви. Тогда я тут же перерассказал по-другому, и получилось, я этого Вернера Мадера кокнул из-за того, что он меня как еврея оскорбил по национальному признаку. Но тут же исправился, и еще раз перерассказал, что фриц – поверженный враг, а я его, поверженного, стукнул, что недостойно советского человека.
Как Субботин в своей голове свел три рассказа в один, не понятно. Но сказал он следующее:
– Ох, Вася. Я думал, ты взрослый человек. Я думал, ты казенные деньги растратил или с женщиной замужней связался, а муж застукал. А ты не взрослый.
– Я не Вася. Я Нисл. Я вам тогда в лесу соврал. Чтоб вы меня не прогнали.
– Знаю. Все про тебя знаю. Я у Чубара был. Из Седневского лагеря бежал. Три раза бежал, как в сказке. На третий удачно. Попал к Чубару. Ты тогда с Евтухом по другой линии ходил. Мосты взрывал помаленьку возле Бахмача. Не встретились. Потом меня к Нехамскому перебросили, вашему, из еврейского пополнения, потом я со своей группой немножко в сторону свернул, авангардом разведки, так сказать. А про тебя мне тогда же и рассказали. Геройский дурачок. Еврейчик Вася-Нисл Зайденбанд. А для меня ты Зайченко. Хоть что. Зайченко. Фамилию твою трудную запомнил. А ты вот как. Человека жизни лишил.
Я говорю:
– Букет умер. Собака моя любимая. Друг. А вы в тот день не пришли. Обещали, а не пришли. Я отца встретил, когда с Букетом в мешке шел. Отец тоже умер. И мама умерла. Ничего про них не знаю.
– Как не знаешь? Говоришь – умерли.
– Что умерли – знаю. А больше не знаю.
– Больше и не надо. Поверь мне, Вася-Василек. Больше ни за что не надо. Что делать будешь, хлопец? Ты хоть к Наде еще не бегал докладывать с партизанской прямотой?
– Не. Не успел.
– И не бегай. Забудь ее. Ясно, она роль придумала и перед тобой репетировала. А ты купился. Книжек начиталась и купила тебя своими взглядами да улыбочками.
– Нет. Она по-честному
– Ладно. Пускай так.
Помолчали.
– Я, Вася, в МГБ работаю. Как раз в тот день, когда в парикмахерской встретились, первый раз по Чернигову гулял. Перевели из Брянска. К тебе не пришел, потому что был занят по делу. А сейчас я с тобой буду разбираться.
Субботин решительно встал и скомандовал:
– Следуй за мной.
Он привел меня к себе – в новый красный дом на улице Коцюбинского. С башенками и лепными карнизами. Один из тех, что построили пленные.
Комнатка небольшая, кухня еще меньше. Зато потолок высокий, метра три. Балкончик крохотный, с красивой загородкой из белых столбиков.
Субботин вышел на балкон и показал папиросой вдаль – на развалины города, на Вал, открывающий свою тысячелетнюю историю в неприглядности разрухи.
– Вот, Вася. Это все война. И эту войну сделал Гитлер. А Вернер Мадер ее поддержал. От всего сердца поддержал или по принуждению. Но поддержал. Не застрелился. Не сбежал куда глаза его бесстыжие глядят. А поддержал. Пошел на нашу Родину с автоматом. И убивал советских людей всяких национальностей. И лично тебя бы убил, если бы был встречен тобой на кровавой дорожке войны. Теперь дальше. Я своей властью объявляю тебе амнистию. От имени твоих родителей, в первую очередь. И от себя лично. Сейчас мы с тобой хорошо покушаем с крепким чаем. Я уже свою порцию спиртного выпил. И ты выпил. Больше не станем. А чая попьем. С вареньем. У меня засахаренное, с прошлого года. Женщина одна хорошая мне прошлым летом дала на здоровье. Не сложилось у нас с ней. Варенье осталось. А наша встреча с тобой, считай, посвящена присвоению мне очередного звания – капитана. Показать удостоверение?
– Не надо.
– Ну и не надо.
– Я ваш партбилет порвал. Чтоб врагу не достался. А планшетка ваша у Винниченки осталась. У Дмитра Ивановича. Ее уже на свете нету, планшетки. Он из нее подметки вырезал. Точно вырезал. Там кожа ух какая. До сих пор в глазах стоит.
Субботин взглянул на меня исподлобья. Но ничего не сказал.
Я немного успокоился. Рядом с Валерием Ивановичем я почувствовал себя снова подростком. С пустым будущим.
Попрощались тепло. Договорились, что в случае чего Субботин меня найдет и ничего плохого не допустит.
Дома был переворот.
Школьников припер откуда-то громадный стол овальной формы. Столешница раздвигалась на две половины, и под ней открывалась большая круглая тумба. Самуил Наумович как раз над тумбой и колдовал. Изнутри подкручивал, шкурил, клеил.
Хватал меня за грудки:
– Посмотри, какая работа! Ему лет сто. А почти как новенький. Дерево крепкое, а лакировка! А подогнано как! Ты глянь, глянь! Трофейный. Из самого Берлина перли. Я его сделаю, як лялечка будет. Еще сто лет прослужит. Ты внутрь загляни, в тумбу. Загляни, загляни. Нагнись, нагнись, на самом дне какая фанеровка. Орех! Видишь? На самом дне. А как с лица. От работа так работа! Немцы!
Школьников меня гнул за шею прямо в самое дно, моя спина не гнулась. А он гнул и гнул. Я его оттолкнул от себя.
– Что вы, Самуил Наумович в немецкое дерьмо меня носом засовываете? Не нанюхались сами за войну? Перед фашистами преклоняетесь. И меня преклоняете. Позор вам.
Школьников как обрезался. Воздух ртом ловит, руками водит, а ответить не может.
Зинаида Ивановна говорит, даже заискивающе:
– Нислик, сыночка, ты голодный. Покушай, дытынка. Не нравится тебе стол? И мне не нравится. Всю комнату загородил. А Сема ж, ты знаешь, добро из рук не выпустит. Хай йому грэць, цьому столу. У тумбу я скатерти положу. И шось, мабуть, ще влизэ. Тумба хороша. Глыбока. А так – тьху на цей стол! – и плюнула демонстративно.
Я затаился за занавеской, сказал, что голова болит. Меня не трогали. Школьников больше со столом не возился. Только бесконечно шептался с Зинаидой Ивановной. Я ничего разобрать не мог. А хотел. Прислушивался, прислушивался, без толку. Так и заснул, вроде в глубокую шахту упал.
Проснулся часов в пять утра. Объяснил старикам, что заболел, и неделю буду сидеть дома. Они отнеслись с пониманием.
Самуил Наумович предложил, что если мне стол не нравится, выкинуть его к чертовой матери. Я отказался. Раз припер – пускай стоит. Будем об него бока-колени оббивать, покуда не надоест.
Больше всего меня мучило соображение о том, что я не увижу Надю. А ведь сегодня как раз встреча. Представлял, как она прибежит в беседку, будет ждать меня. Потом решит, что я побоялся выполнить задание, нарушил слово. Скажет, жид – он жид и есть. Кому доверилась – жиду. И забудет про меня с обидой на сердце. Или еще хуже: придет в парикмахерскую, через неделю ж мне выходить на работу, посмотрит мне в мои поганые глаза своими очами. Ничего не скажет. Молча осудит.
Я принял решение идти на встречу.
В беседке просидел два часа. Надя не появилась.
В запале я бросился в речпорт, через четыре ступеньки пробежал длинную деревянную лестницу с Вала вниз, кинулся в контору. Спрашиваю у девушки-машинстки:
– Как найти Надю Приходько?
– А кто вы ей?
– Товарищ.
– Надя с сегодняшнего дня в отпуске. Поехала в Киев сдавать экзамены. Еще позавчера оформилась и поехала. Она в театральный поступает. Знаете? – девушка мечтательно завела глаза вверх.
– Знаю. Когда приедет?
– Как провалится, приедет, – девушка привела глаза в нормальное состояние. – Провалится, провалится. Не волнуйтесь. Приедет ваша Надя. Товарищ.
Я поплелся обратно. Считал ступеньки, а некоторых и не было. Дырки.
Дома валяюсь безвылазно. Не ем, не пью. Только курю. Прямо на месте. Раньше так не делал. Теперь сделал.
Самуил Наумович с утра уходил тихонько, чтоб меня не тревожить. Зинаида Ивановна тоже старалась не произвести лишнего звука. Только спицы стучали. Тут уже она ничего не могла поделать.
Как стукнет спица – ойкает:
– Прости, дытынка, больше не буду.
А мне что. Мне ничего. Считаю дни. А зачем считаю – не понятно. Считаю и чувствую себя со стороны. Я – два оборота одной медали. На одном обороте – человек. На другом – еврей. И вместе два оборота соединить не могу. Не получается. Не склеивается.
И до того довел себя подобными представлениями, что начал себя с головы до ног щупать, ноги-руки. Сколько их. По две или по четыре. И так и дальше.
В какой-то день, когда я совсем запутался, поздно вечером, можно сказать, ночью, в дверь постучали.
Старики спали.
Я бросился к окну – смутно рассмотрел человека, а кто – непонятно. Думаю: открывать не буду. Постучит и уйдет. Но другая мысль затмила: не уйдет. Раз ночью явился – не уйдет. А за калиткой еще трое, наверное, стерегут. И они не уйдут.
Открыл двери. Субботин.
– Кто в доме? – спросил шепотом.
– Двое. Я третий. Спят. Старики.
– Выйдем.
Пошли за дом. В высоких лопухах и крапиве нас не видно. Я хотел закурить.
Субботин отвел руку от спичек.
– Не кури. Слушай внимательно. Собирай манатки и уезжай из города.
– Куда?
– Куда хочешь. Куда можешь. Без разницы. Немец и правда разбился насмерть. Тебя ищут. Приметы сообщили и все такое. Сейчас обстановка сложная. Если б ты хоть не еврей был. А тут сошлось: могут теракт приписать. Вокзал, железная дорога и пошло-поехало. У нас инструкции каждую минуту: еврейский заговор не дремлет. Немца героем сделают, хотел тебе помешать, а ты его и кокнул. С работы завтра с утра увольняйся, спокойненько только, с улыбочкой. Скажи, что по семейным обстоятельствам. Напусти тумана. У вас то еще местечко. Синагога под ногами обкома партии.
– Почему – синагога? – обиделся я.
– Сколько вас работает, бритвами и ножницами махает? Пятеро? Четверо евреев. У нас сигналы поступают.
Я заикнулся, что он амнистию обещал. Субботин меня осадил, аккуратно взял за майку, в кулак собрал материю, аж затрещала:
– Не обсуждать! Делай, что говорю. Сделаешь – может, уцелеешь. Не сделаешь – сам заплатишь. И меня подставишь. И Надю свою тоже. И стариков потянешь. Вася-Василек.
Отпустил майку. Не попрощался.
Я стоял, как закопанный. Крапива жалила голые руки и ноги. Хотел сделать шаг, но не получилось ни в какую сторону. Горела кожа, горело внутри, горело вокруг головы и подступало к глазам.
Как очутился в своей постели – не помню. До скорого рассвета проворочался.
Встал первый. Собрал мешок с вещами, затолкал в угол возле топчана.
Сел за стол, сложил руки крест-накрест, опустил голову и так, с опущенной головой, просипел:
– Вставайте, люди добрые. Прощаться настал час.
Старики повскакивали от таких слов. А только заметили мой вид, совсем испугались. Но я напустил улыбку и продолжил:
– Шутка. Чтоб вам веселей с утра. Я заранее тревожить не хотел. Сегодня уезжаю. Давно собирался. А сегодня-таки еду.
– Что? Куда? Почему?
– Как говорится в стихотворении, «В далекый нэвидомый край, аж на Донбасс», – бовкнул первое, что пришло на ум из школьной программы, – Шевченко Тарас Григорович, – добавил я, чтоб отсрочить время.
– Ну, Шевченко. А ты при чем? И что у тебя волдыри на руках, на шее? По крапиве лазил? – Самуил Наумович вытаращил глаза. – Ты из-за стола обиделся? Я его сейчас топором порубаю. Гада фашистского! Чтоб из-за него ты нас бросал? Скажи! Из-за него?
Схватился за стол и вроде хотел перевернуть. Сил не хватило. Такая махина. Втроем не повернешь.
Зинаида Ивановна к мужу:
– Сема! Нэ чипай його! Он не в себе. Ты ж не в себе, дытынка? Кто в такое время из дома выходит? Никто. И ты не пойдешь. Не пойдешь? Ты поспи, полежи, успокойся.
– Нет. Пойду. Больно мне вас от себя отрывать. Но вы не волнуйтесь. Я вас не брошу. Если живой буду, не брошу. У меня кроме вас никого нету.
Чувствую, приклеенная улыбочка никак не сходит. Рот кривлю на бок, слова кривые. А ничего поделать не могу.
– Может, у тебя любовь? Может, ты с дивчиной какой бежать надумал?
Зинаида Ивановна подошла ко мне, протянула руки, как в народной песне:
– Может, тебя ее родычи нэ прыймають? Кропывою з подвирья выганялы? Дак я до ных пиду, в ноги кынуся, розкажу, якый ты хороший. И бигты нэ трэба. Мэни повирять. Мэни уси вирять.
Я схватился за эту соломинку и с порога сказал последнее:
– Именно из-за любви. Вы ж понимаете. Любовь – сила. Не плачьте. До скорого свидания. Точно вам обещаю.
Выбежал и торбу свою с вещами забыл. Обратно влетел пулей – торбу за плечо закинул. Тут Зинаида Ивановна спросила:
– А деньги у тебя есть? На какие деньги ты едешь, скаженный?
Денег у меня не было. Я так и сказал.
– Господи, с ума сошел! С ума сошел! – Заголосил Самуил Наумович, – Зинаида, дай ему его деньги. Все отдай.
– Где они? Ты ж их без конца перепрятывал. Где? – засуетилась Зинаида Ивановна.
Бросилась к буфету, раскрыла дверцы, пошарила рукой под газетой на одной полке, на второй. Побежала в коридорчик. Загрюкала ведрами, железяками, со стены упало корыто.
Самуил Наумович сдернул скатерть со стола. Раздвинул столешницу, со дна тумбы достал сверток.
– Вот твои деньги. Я брал с того, что ты давал понемножку. На хлеб. Я их тебе собирал. Забирай.
Сунул мне сверток под нос.
– Забирай гроши свои. Мы думали – по-человечески. А раз ты так. Забирай.
Я поцеловал Сему и Зину. Они еле держались на ногах. А стояли или уже упали, когда я калитку закрывал, неизвестно.
Шел зигзагами. Но сколько ни кружил, до открытия парикмахерской оставалось два часа. Пересиживал в сквере. Дворник шваркал метлой у меня под носом. Шваркал и шваркал. Шваркал и шваркал.
Наконец, спросил:
– Приезжий?
– Приезжий.
– Звидкиля?
– Откуда надо.
– Ты не грызись. Время такое. Надо спросить. Для формы.
Я безответно пошел через дорогу. Посидел в следующем месте. Не на просторе, а в кустах смородины. Поел, конечно. Еще зеленоватая. Но пахнет хорошо.
Молодость взяла свое. Заснул на траве. Последняя мысль перед сном была про то, что я не рассказал Субботину об армянском солдате. О том, как тот умер. Как я забросал его ветками. Как последним из всех людей смотрел на него. Дал себе клятву в следующий раз исправиться. Если наступит случай.
Мне снилось, что я лежу в лесу. Надо мной склонился Букет. И солнце пробивается в глубину глаз сквозь его патлатую шерсть.
Проснулся от звуков вокруг. Люди шли в разных направлениях. На меня не обращали внимания. Пристроил свой мешок под кустом, прикрыл травой. Отправился по месту работы.
С увольнением прошло гладко и правдоподобно. Сразу выписали расчет.
Я шутил и намекал, что с невестой уезжаю по оргнабору. Место назначения не объявляю, так как еще не все документы собрал и боюсь сглазить.
Уже на улице стукнуло в голову. Паспорт тут, в кармане штанов. Аттестат за семь классов тут. Трудовую книжку забрал. Справку про партизанский отряд не взял. Осталась запрятанная у Школьникова. Он ее как в первый день куда-то сховал – места и не выдал. Идти просить? Второй раз у мня внутренностей не хватит, чтоб с ними прощаться.
Куда ехать – вопрос не стоял. Туда, где хоть что-то знакомое. В Остёр.
Внутренне я надеялся, что куда-то в другое место. Ноги сами понесли.
Ну, что надо во-первых сказать. Деньги у меня украли с торбой. Когда я добирался на перекладных, близко Козельца шофер сворачивал с моей дороги, я вылез. Стою себе и голосую. Голосую и голосую. А никто не останавливается. Пошел пешком. Торбу волоком тащу. Не сильно тяжелая, а все-таки и ботинки, и пара рубашек, и брюки, и белье две смены. И ножницы Рувима. Возле лесочка зашел вглубь по надобности. Торбу оставил, чтоб с ней не продираться сквозь непролазные кусты. Зашел, видно, далековато. Не спешил. Подышал воздухом.
Выхожу – не в то направление. Поблукал, вышел на старое место. Точно на старое. Дерево то, трава та. Торбы нет. Я туда, сюда, направо, налево. Нет. Искал долго. Не обнаружил.
В карманах, кроме документов, – никаких признаков жизни. Конечно, большое огорчение.
Но добрался. Мир не без людей. Доставил меня один остёрский на подводе за «спасибо». Незнакомый. Послевоенного заселения. Спросил, зачем еду. Я сказал, что с целью навестить знакомых. И первую фамилию болтанул: Винниченко.
Дядька на меня глянул удивленно, поерзал на сене, сплюнул и неопределенно сказал:
– Дак ото ж.
Возле базара я опустился на остёрскую землю.
Остёр предстал передо мной. Садочки, палисадники во всей красе. Хат не видно за цветами и всякой зеленью. А те, которые видно, не хаты, а развалины. Черные печи, трубы, наполовину сбитые войной. Кое-где стройки из подручных материалов.
Иду, руки в карманы, смотрю по сторонам. Куда иду – не знаю. Здороваюсь со встречными гражданами. Знакомых нету.
И только глядя по сторонам, понял окончательно, что я в Остре. И надо искать пристанище на неопределенное время. То есть жить тут. И работать. И кушать что-то.
Добрел до городского парка. Сел на лавочку. Ноги вытянул, руки на груди сплел, голову вверх задрал. Отдыхаю для видимости.
А сердце стучит: чего сюда приперся? Мало тебе страны от края и до края, от Северных гор до Британских степей? Мало.
Как в народной сказке, ждал, что присядет рядом со мной добрый человек и скажет, как быть.
Но в разгар летнего дня такого человека не обнаружилось во всем Остре.
Выбор я сделал себе следующий: искать Янкеля Цегельника. Можно и Гилю Мельника. Но с Гилей у меня на войне не слишком получалось, так как я всегда принимал сторону Янкеля. И Гиля осуждал меня: Янкель людей спасает, а как им спасенным потом жить, не размышляет. А Гиля, значит, размышлял. Ладно, его дело такое.
Я и до войны не знал точно, какой дом Янкеля. А после войны совсем неизвестно. Это при условии, что он вернулся живой.
Логика у меня обычно находилась на должной высоте. Я выяснил у встречных, где райсовет.
Меня с порога встретили, как героя. Председатель – Мельниченко Сергей Миколаевич – партизан, секретарша – Дужченко Оксана – партизанская связная, еще кто-то из нижестоящего персонала – тоже партизанского прошлого. Знакомые лица.
После минутной радости наступила ответственная минута. Мне сообщили, что сюда когда-то своим чередом пришел мой отец Моисей Зайденбанд после мучений в фашистском лагере. Тут ему сказали, где меня искать. Но своими ногами он отсюда не вышел, а был вынесен на руках, так как внезапно утратил возможность передвигаться. Доставили в фельдшерско-акушерский пункт. Там он пролежал две недели рядом с роженицами. Под крики младенцев он приходил с сознание, но все равно уходил. За него боролись самоотверженно. Прогресс отступал и отступал.
И вот, в одно прекрасное утро, отец раскрыл свои настрадавшиеся глаза и сказал:
– Отпустите меня к моему сыну Нислу в Чернигов.
Его не пускали. Но когда сгустилась зимняя темнота, он ушел.
Музыченко рассказывал мне печальную повесть, как равному. Хотя он – большой руководитель. Горе роднит и стирает границы.
Оксана Дужченко его поправляла добавками подробностей, и получилось некоторое разнообразие.
Сергей Миколаевич полагал, что отец ушел прямо из больницы, а Оксана утверждала, что из больницы его забрал к себе Янкель Цегельник, и уже от того отец попал в Чернигов. То есть где-то с месяц кантовался у Янкеля под крышей.
На этом месте я потребовал, чтоб мне дали адрес Янкеля.
Музыченко без запинки дал, но выразил уверенность, что дома я Цегельника не застану. Мотается по селам и хуторам. Оксана во всяком случае вызвалась проводить до Янкелева дома.
По дороге в разговоре я пытался сделать вид, что счастлив. Тем более, что Оксана была не сильно старше меня – лет на пять – и перед ней особенно хотелось показаться.
Но она по-хозяйски меня осмотрела внешне и задала вопрос:
– Невеселый ты, Нишка. Надолго к нам? Погостить?
– Как получится. Соскучился по родной земле.
– Оставайся. У нас в людях недобор. Где твои вещи?
Я машинально ответил:
– Украли.
Она засмеялась. И я засмеялся.
Оксана продолжила расспрос:
– А в Чернигове у тебя кто остался? Успел жениться?
– Не женатый и детей нет.
– У нас женишься. Девчат хоть на хлеб намазывай и ложкой ешь. А вдов еще больше. И молодые, и всякие. Если Янкеля дома не найдем, поселишься у меня. Погуляешь, подумаешь, может, останешься. Какая у тебя специальность?
– Парикмахер. Дамский мастер.
Оксана остановилась и новыми глазами посмотрела в мою сторону:
– Парикмахер? Правда? Не даром Рувим тебя учил ножницами махать. Дал путевку в жизнь. И хороший ты парикмахер?
– Хороший. Зарабатываю – и на хлеб хватает, и на масло, и на сахар.
– У нас мастер плохой. И не мастер, а так. По знакомству. Ленивый. Лишний раз ножницами махнуть боится. До войны, помнишь, Давид Плискер орудовал. Ну, ты маленький был. А я знаю на себе. Теперь – одно расстройство. Только и название на старом месте. Как до революции, под горшок стрижемся. Мы ж молодые, нам хочется и того, и сего. Ты ж понимаешь. А тут горшок предлагается к услугам.
Я не слушал Оксану. Слушал, как поют птички, как шумят сады, как скрипят подводы и с них тихонько падает трава. Она без звука падает, а я чую.
Пришли к Янкелеву дому. Оказалось, тот же, что и до войны. Только подправленный. Небольшой, но добротный. Была большая семья. И дети, и старики, и все. А теперь стоит закрытый. И ставни закрыты.
– Цегельник не женился?
– Нет. Шлендрает по селам, стучит молотками. Теперь работы много. И для дома, и для всего. Сапку хорошую найти – нельзя. А Янкель же ж серьезный мастер. Дошел до того, что в кожаном фартуке и спать лягает. Черт хромой. Прости, Господи. Сейчас есть надежда, что через недельку явится домой. Сидит один. К нему ходят в основном разговоры разговаривать. А он гонит от себя. Наши говорят, от него дымом и огнем полыхает. Сам аж раскаленный. Не успокоится никак. Все ему не устраивает. А что? Сам не объясняет. Не понимает потому что. Музыченко должность Янкелю предлагал хорошую. Отказался. Его воля. А вообще ничего, здоровый. Не молодой, а ничего.








