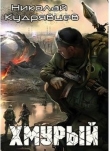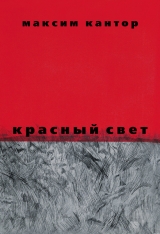
Текст книги "Красный свет"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Как обычно, слова отца подействовали на мальчика магически. Фридрих гулял по Астрадамскому проезду, придирчиво присматривался к отдельным прохожим и прикидывал: «Дядя Алеша Тихомиров – личность или нет? Вряд ли. Не похоже. Скажи ему слово «личность», так он только рот откроет. А тетя Лена Петрова? Тоже, пожалуй, не личность. Куда ей, толстой неграмотной дуре. Знает только свои пирожки с рисом печь. Ничего не читала. Про Гёте, наверное, и не слышала. В ней, если вдуматься, звериного начала даже больше, чем в остальных. В нормальном человеке, папа говорит, половина звериного, а в тете Лене – наверное, три четверти звериного начала. А в Андрее Щербатове?» И Фридрих как-то спросил своего школьного приятеля:
– Скажи, Щербатов, ты – личность?
– Что? – сказал подозрительный Щербатов.
– Как ты думаешь, в тебе чего больше – звериного начала или человеческого?
– Что я, по-твоему, на четвереньках хожу? – рассвирепел Щербатов.
– Не злись, подумай хорошенько. Ты хочешь иметь по всякому вопросу свое мнение, подвергать все сомнению? Хочешь или нет?
– А что – обязательно надо?
– Если хочешь стать личностью.
– А зачем личностью становиться?
– Ну ты даешь! Да это самое лучшее, что может с человеком случиться!
– Ладно, уговорил. Буду личностью. Вот, например, дважды два – четыре. Так в школе сказали. Это надо подвергать сомнению?
Фридрих задумался. С одной стороны, ясно сказано: «Подвергай все сомнению». Но ведь, пожалуй, дважды два всегда будет четыре, подвергай ты этот факт сомнению или нет.
– Чего молчишь?
– Подвергаю сомнению твои слова, – с достоинством сказал Фридрих. – Ладно, дважды два – можно не подвергать.
– А трижды три?
– Вообще можешь не подвергать сомнению таблицу умножения.
– А правила уличного движения? Надо подвергать сомнению или нет?
– Правила движения – тоже не надо.
– Так ведь под машину попадешь, пока личностью станешь, – сказал Андрей Щербатов ядовито. – А время года надо подвергать сомнению? Например, на улице зима, а ты пойдешь в школу в трусах.
– Что ты ко мне пристал!
– Я к тебе пристал? Это ты ко мне пристал. А школьные отметки надо подвергать сомнению?
– Думаю, надо, – сказал Фридрих.
Каждый день, идя в школу, Фридрих напевал вполголоса строки Иоганна Вольфганга Гёте, заученные наизусть. Звучало это так: «Хохстес глюк дер эрденкиндер ист нур ди персонлихкайт!» Последнее слово он выкрикивал громко: «Персонлихкайт!» Звучало более торжественно, чем скользкое слово «личность». Вот бы подойти тогда к Щербатову и спросить: «Ты, Щербатов, – персонлихкайт? Или нет?» И Фридрих бормотал слова песенки, а когда подходило к «персонлихкайту», выкрикивал последнее слово, будто обвинял мир в отсутствии личностей. Немецкие слова выговаривались плохо и «хохстес глюк» постепенно превратилось в «ох ты глюк», а «дер эндеркиндер» стало «дыриндер», а от «ист нур ди» осталось только «и». Сохранилось без изменений только волшебное слово «персонлихкайт». Заклинание стало звучать так: «Ох ты глюк дыриндер и персонлихкайт!»
Подойдя на перемене к Любе Василенко, Фридрих сделал значительное лицо и спросил:
– Тебе, Любовь, прочесть стихи Иоганна Гёте? – и, получив утвердительный ответ, выпалил: – Ох ты глюк дырындер и персонлихкайт!
– А перевести можешь?
– Это стихи о том, что не каждый может стать личностью, но только тот, кто подвергает все сомнению.
– Здорово!
– Подвергать сомнению следует все, но в разумных пределах. Правила таблицы умножения сомнению не подвергают.
– Про это в стихах сказано?
– Я прочитал главную строку. Про то, что надо побороть звериное начало и стать личностью. Ох ты глюк дыриндер – значит: откажись от животного начала в себе! И стань Личностью, человеком с большой буквы. Персонлихкайт, если хочешь по-немецки.
Люба Василенко завороженно смотрела на Фридриха.
– Немецкий – это язык мысли, – заметил Фридрих. – Емкий, сдержанный, логичный.
– Как красиво.
– Я обязательно выучу немецкий и, может быть, даже свой роман напишу по-немецки.
Он всем, с самого детства, говорил, что напишет великий роман. Все это было шестнадцать лет назад – а сейчас отец его умер, они с Любой уже двенадцать лет женаты, вот Паше десять исполнилось, и роман он не написал. А теперь еще и война с Германией.
В газете «Вечерняя Москва» Фридрих Холин должен был сочинять отчеты о жизни прифронтового города – ведь Москва стала прифронтовым городом. Быть советским журналистом и носить имя «Фридрих» стало неудобно. Обнаружилось, что помимо поэта Фридриха Шиллера – имелись еще Фридрих Ницше, который придумал теорию сверхчеловека, и Фридрих Паулюс, гитлеровский генерал. Да еще оказалось, что план нападения на Россию называется «Барбаросса» по имени императора Фридриха Барбароссы, который некогда возглавил крестовый поход. Теперь представляться Фридрихом было неприятно – и Холин подписывался инициалами, чтобы не писать немецкое имя. Впрочем, вскоре он понял, что вся газета состоит сплошь из инициалов.
Газета «Вечерняя Москва» от Московского комитета ВКП(б) и Моссовета, орган печати, москвичами любимый – ответственность огромная. «Пиши проверенные данные, десять раз проверь!» – говорит редактор, но зачем проверять, если ничего конкретного не пишем? Все полгода сводки о боях писали так: «В боях под станицей М. подбиты 18 танков и 25 бронемашин противника… Под селом Н. в боях уничтожено 30 единиц техники».
Эти заметки Холина пугали. Он стал складывать цифры и получил ошеломляющий результат: за первую половину осени фашисты потеряли около шестисот танков – а это целая армия, даже Холин знал. Армия танков горела под Москвой – но почему-то название села указано невнятно. Он спросил у заведующего отделом Щетининой:
– А почему не даем названия села полностью? Шифр зачем?
– Ты хочешь всех оповестить о расположении советских войск? Это, может быть, военная тайна.
– От кого тайна?
– От немцев.
– Неужели немцы сами не знают, где потеряли шестьсот танков?
– Откуда ты взял шестьсот танков?
И Холин стал думать, что причина в другом: вероятно, бои слишком близко от Москвы – и в газете боятся дать реальное название села, чтобы не напугать москвичей. Но если бой победный, почему же не сказать? Ведь радостно знать, что победили! Кому-то станет спокойней за родных. А кто-то захочет поехать туда, поговорить с бойцами. Ведь много пишут про союз тыла и фронта. Вот, например, его жена Люба отвезла бы артиллеристам кастрюлю супа. Так почему же не указать название села?
Вот, скажем, статья о партизанах Югославии. Написано: «В Ягодине уничтожена авиационная база» – это понятно. «В Загребе взорван склад боеприпасов» – тоже понятно. Так там партизаны, в Загребе, им уж точно скрываться необходимо. А у нас регулярные войска.
И вдруг он понял, что это все выдуманные истории: нет никакого села М., нет никакого села Н. Не было победного боя, не подбили семнадцать танков, и восемнадцать танков не подбили тоже. Ничего вообще не подбили, не подожгли бронетехнику врага, катится армия назад, вот уже ставят ежи противотанковые на Можайском шоссе, вот уже и окопы роют. Подбили двести единиц техники у села М.! Покажите, где же это село! Господи, зачем так врать!
Заметки писала лично Фрумкина, ответственный секретарь газеты. Первую половину дня она тратила на собственные сочинения, потом занималась проверкой чужой работы. Страшная Фрумкина, главный цензор Главлита, была переведена в их газету на пост ответственного секретаря дабы вычищать вредные элементы, оставшиеся от политики Зиновьева. Ираида Аркадьевна Фрумкина была особой низкого роста, ходила на кривых ногах и курила папиросы «Тройка». Зубы у нее были желтыми от никотина, а глаза черными, и в ее глазах не отражался свет. Фрумкина подолгу смотрела своими пустыми цепкими глазами в глаза сотруднику, затягивалась желтым дымом, и сотруднику делалось страшно. Посмотрев с минуту неподвижным взглядом, Фрумкина говорила сотруднику: «Здравствуйте», – и проходила мимо, загребая пол кривыми ногами. Никто вслух этого не произносил, но все знали, что в Главлите состав редакции заметно поредел после доносов Фрумкиной. Популярного в Москве журналиста Бориса Сиповского забрали прямо из здания Главлита, зашли в комнату редакции, сказали: «Пройдемте, Сиповский», – и Сиповский прошел. А Ефим Гулыгин, заместитель Фрумкиной, повесился, просто взял – и повесился. Гулыгин жил в коммунальной квартире на Татарской улице, дом номер семь. Жиличка из комнаты напротив хотела одолжить у него денег до вторника (у нее во вторник получка), стучала, звала. Женщина настырная, просунула карандаш в дверную щель, откинула крючок – а он, голубчик, на батарее парового отопления висит, язык вывалил. В чем таком провинился Гулыгин, сотрудники «Вечерней Москвы» не знали – а что повесился, знали отлично.
Ираида Фрумкина читала всякую статью, не пропускала ни единого короткого сообщения без подробного осмотра, она не полагалась ни на редактора, ни на корректора. Читала тексты долго, медленно водя выпуклыми вороньими глазами по строчкам. Со стороны казалось, Фрумкина ощупывает строчки глазами, берет каждую букву, вынимает из слова, разминает, потом ставит на место. На лоб Фрумкиной падала черная челка без единого седого волоска, бодрая такая челочка, боевая, и Фрумкина иногда встряхивала головой, откидывая челку, чтобы не мешала видеть страницу. В этот момент лицо ее делалось задорным, веселым, и казалось, что с ней можно договориться. В один из таких моментов Холин изловчился и встрял с вопросом, зачем так подолгу смотреть на страницу? Фрумкина медленно осмотрела лицо Холина, водя пустыми глазами по его чертам точно по газетным строчкам. Потом сказала:
– Я или делаю свою работу хорошо, или не берусь ее делать совсем, – и опять принялась медленно ощупывать глазами лицо Холина. Ощупала, отвернулась к странице, стала щупать страницу.
Заметка Холина, которую она изучала, называлась «Большой день», и в ней описывался парад на Красной площади Седьмого ноября. Начиналась заметка словами «Падал снег». Фрумкина медленно ощупала эту фразу, перешла к следующей: «Небо, набухшее тучами, не было ярким». Потом прочла следующую: «Но удивительно светлым выглядел этот день в столице». Ощупала и эту фразу.
Дошла до последнего абзаца: «Грозные слова об истреблении всех немцев, пробравшихся в нашу страну для ее порабощения, вновь вызвали гул одобрения народа. «Верно! Надо истреблять! Всех до единого!» И долго, дотемна бурлили улицы великого города в праздничном оживлении». Фрумкина смотрела на этот абзац немигающими вороньими глазами, долго щупала слова.
– Фраза ваша. Про немцев, пробравшихся в нашу страну. По-вашему, немцы пробрались?
А как сказать? Прорвались? Явились? Пришли? Холин не знал, что ответить.
– Пробрались. Воровски.
– Я думала, фашисты напали. А вы пишете – пробрались.
Помолчали.
– В другой заметке (на третьей странице очерк Холина «Герои зенитчики», интервью с лейтенантом Жильцовым) фраза: «Фашистские летчики стали подкрадываться к Москве». Самолеты, по-вашему, подкрадываются?
– Ну, их не ждали, а они внезапно…
– Вот как. Подкрались самолеты. Еще одна фраза ваша. «Долго, дотемна» – как понять?
– Я хотел сказать, что люди на площади гуляли долго, до наступления темноты.
– До наступления темноты – это и означает, что гуляли долго.
И молчит, смотрит, медленно водит глазами.
– Фраза ваша. «Гуляли в праздничном оживлении».
– Люди гуляли в оживлении, – вяло подтвердил Холин, а сам подумал: а как еще гуляют дотемна – без оживления? Хотя, если вдуматься, какое оживление в мороз?
– Гуляли в праздничном оживлении. Странно звучит.
– Так ведь праздник у людей… оживились… – а сам подумал: ничего себе праздник, прямо с парада идут на фронт, а фронт за углом. И метель. – Изменить предложение?
Помолчала.
– Оставьте как есть. Это приметы авторского стиля, – и смотрит внимательно.
Непосредственно рядом с его заметкой была опубликована заметка редакционная – их, как правило, писала сама Фрумкина – «Смелый налет на вражеский аэродром». И пока Фрумкина читала его текст, Холин прочитал статью Фрумкиной. «Летчики-штурмовики энской авиачасти ознаменовали ХХIV годовщину Великой Октябрьской революции смелым налетом на вражеский аэродром. Получен боевой приказ: уничтожить фашистскую авиабазу в пункте Р. Ни одна машина с паучьей свастикой не успела подняться с поля. Все фашистские самолеты были сожжены». Сухо пишет Фрумкина, в ее строчках никакого оживления, все по существу. Но что это за существо? Как это понять, господи? Если уничтожили вражеский аэродром, то почему не сказать, где именно аэродром находится? И вот еще одна заметка: «В районе В. младший лейтенант Матюшин сбил «Юнкерс-88» и «Мессершмитт-109». Молодец Матюшин, меткий. Только где этот район В.?
Какая странная газета, думал Холин, пряча взгляд от Фрумкиной.
Фотография поперек полосы: трибуна Мавзолея, на трибуне Комитет обороны в полном составе принимает парад. В самом центре – Буденный с огромными усами. И рука у Буденного большая, в варежке, маршал машет войскам: вперед, мол, на бой! Рядом рослый Каганович в мерлушковой папахе и в пальто с воротником из мерлушки. Никогда бы не подумал Холин, что Каганович такой большой, а рядом с прочими он, оказывается, великан! Тоже рукой машет, рука в тугой перчатке. Подле них Берия в широкой грузинской кепке и обычном пальто, без воротника. Берия руками не машет, на войска не глядит, просто смотрит перед собой. Хрущев в кепке, кепка сдвинута на затылок. Лицо у Хрущева вялое, замерзшее, щеки повисли. Холодно им там стоять, на трибуне. Сорок градусов мороза, воздух белый от холода – каково это в кепочке простоять несколько часов в метель? Но стоит Хрущев, не шевелится, щеки заиндевели, белые совсем щеки на фотографии. Рядом Хрущевым стоит Молотов в меховом пальто, усики подстрижены, очки блестят, он весь аккуратный, закавыченный, как выверенная цитата. А Маленков без перчаток, холодно ему, пальцы свело от мороза. Почему же он без перчаток? Перчаток для Маленкова не нашлось? Так спешил на парад, что перчатки не успел взять? Маленков, как говорят, второй человек в Комитете обороны – если где совсем трудно, шлют его. А вот лицо у него рыхлое, дрожащее, бабье, губы пухлые и сложены бантиком, и фуражка какая-то нелепая: с широким околышем, как у моряка торгового флота. Нет, не спасет такой человек в трудную минуту.
Вот у Сталина фуражка армейская, строгая. И шинель солдатская, сидит на нем ладно. Лицо у наркома спокойное, взрослое лицо, ответственное. Народный комиссар Комитета обороны стоит не в центре, он встал немного сбоку, но руку поднял выше всех, привлекая внимание. Наверное, Сталина сфотографировали в тот момент, когда он начал говорить праздничную речь. Нарком поднял руку, чтобы люди сосредоточились и слушали. Под фотографией и речь напечатана.
Кто в те годы не слышал голос Сталина – а раз услышав, мог забыть? Холин хоть и не слышал этих слов из репродуктора (а странно, что не слышал: речь девять раз повторили за день), но медленный тяжелый голос наркома отдавался в его сознании – голос успокаивал, а смысл сказанного тревожил.
«Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики». Эту фразу Сталина каждый может отнести к себе, во всяком случае Холин понял, что Сталин имеет в виду конкретно его, перепуганным интеллигентиком был он сам. Он уводил глаза от фрумкинских вороньих буркал, но ведь она все чувствует, она ощупывает его лицо и понимает, о чем думает Холин. А Холин не понимал, как это так получается, что каждый день уничтожают рекордное количество техники, а враг все ближе. Сталин сказал с Мавзолея: за четыре месяца войны Германия потеряла четыре с половиной миллиона солдат. А сколько всего в Германии народа живет, интересно? Сколько солдат в армии у них, кто скажет? Наверное, уже почти всю армию перебили. «Уничтожены лучшие дивизии и лучшие части» – но скажите, сколько осталось? Уничтожили сто машин с пехотой, сто машин с боеприпасами, еще двадцать танков, еще пятнадцать танков, еще восемнадцать машин с пехотой, – ведь если все посчитать, у них ни машин, ни людей уже не осталось. А они все ближе и ближе. Как понять? А вот поразительная строка в соседней статье: «Уничтожили 200 танков противника». Это же форменный разгром! Уничтожили 200 танков у станции М.!
И так пишут каждый день, вот за вчерашний день, судя по газетам, подбили пятьдесят танков, а сегодня аж двести тридцать пять. А если все сожженные немецкие танки посчитать – получится больше тысячи.
«Еще несколько месяцев, полгода, может быть, годик – и Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений». От этой фразы только страшнее делается – потому что фраза туманная. Что за слово такое – «годик»? Сталин взял паузу перед тем как произнести «может быть, годик» – а потом проронил слова сквозь усы, небрежно сказал, презрительно: «полгода… может быть… годик». Слово «годик» Холина покоробило. Повоюем еще годик! Ничего себе! Так можно сказать про что-то другое, скажем, «поживу у тети годик». Еще годик войны – как это понять? Нет, не понимаю. И сколько же немцев мы убьем, если еще годик повоюем? Прикинул, получилось, если такими темпами фашистов убивать, еще десять миллионов точно убьем. Видимо, так в Комитете обороны и подсчитали, когда сроки устанавливали – к этому времени всю гитлеровскую армию перебьем, тогда можно и войну заканчивать.
Холин чувствовал нечто недостоверное в речи наркома – газетчик обязан чувствовать неточность – и чувствовал он так не зря. К моменту нападения на Советский Союз общая численность вооруженных сил Германии составляла 8,5 миллиона человек, из них в Восточной группировке войск Германии и ее союзников находилось 5,5 миллиона человек, в боях было задействовано 47 тысяч орудий и минометов, 4 тысячи танков и около 5 тысяч боевых самолетов. Иными словами, если бы за четыре месяца боев с Россией погибли четыре с половиной миллиона гитлеровцев, то группам «Норвегия» (той, что дралась за Мурманск и районы выше по карте), «Центр» (той, что занимала фронт от Голдапа до Влодавы, отвечала за захват Белоруссии, Смоленска, Москвы), «Север» (той, что шла на Ленинград) и «Юг» (той, что двигалась по всему фронту на Правобережной Украине), – всем этим группам германских войск пришел бы конец. Если бы за четыре месяца уже подбили тысячу танков, наступление врага захлебнулось бы, – но цифры эти действительности не соответствовали. Сталин говорил неправду, и Сталин врал с таким перехлестом, что даже Семен Буденный (человек, влюбленный в Иосифа Виссарионовича) дернул щекой. А вот Вячеслав Молотов не шелохнулся. Да, речь прочитают многие, в том числе союзники. И скажут, что цифры неверны. И что с того? Он, нарком иностранных дел, отлично знал, что врут все и всегда, он знал, что, как и где соврали Черчилль и Рузвельт. Так уж устроено, полагается врать, соврем и мы сегодня. Ну да, четырех с половиной миллионов немцев мы не убили. Все обстоит ровно наоборот. Потеряли миллион своих, и два миллиона наших солдат попали в плен. И еще на захваченных противником территориях остались примерно два с половиной миллиона потенциальных призывников – итого потерь примерно пять миллионов за четыре месяца. Кому надо это знают. Но сегодня уместно сказать то, что говорит Сталин. Сталин превосходно знал, что среднесуточные безвозвратные потери составляют две тысячи триста двадцать человек – или, выражаясь русским языком, каждый день убивают две тысячи триста двадцать русских людей. И это только на западном направлении, это без учета того, что делается на захваченных территориях, где айнзацкоманды проводят массовые расстрелы и жгут заживо, это без учета голода в осажденных городах, без учета боев на юге и севере. Это без учета бомбардировок наших заводов на Кавказе, наших верфей в Севастополе, наших городов в Донецком бассейне. Только здесь, на фронте длиной шестьсот километров, убивают каждый день столько народу. Председатель Государственного комитета обороны знал, сколько убивают. Но с народом надо говорить именно так, как говорит он, – весомо, спокойно, с паузами, взвешивая каждое слово неправды. Надо медленно и убедительно говорить неправду, и она станет необходимой правдой. Что полезнее сегодня, в осажденном городе, в мороз, в метель? Знать, сколько конкретно твоих сограждан погибло, – или что мы уже громим врага?
Почему не предвидел заранее, что фашисты нападут, почему допустил вероломное нападение, почему не угадал точное время – его еще спросят об этом. И спал, когда Жуков позвонил, и в себя пришел не сразу. Молчал, слушал слово «война». «Война, товарищ Сталин!» А он молчит. Еще раз, громче: «Война! Бомбят советские города!» И объявил о войне по радио не он, Молотов объявил о войне. И уже кто-то пустил слух, будто он, растерянный, не выходил с дачи. И скажут: пил. Он не пил, не прятался, в первый день принял двадцать пять человек, одного за другим, спать не ложился. Все равно скажут: пил. И спросят: а что ж ты не подготовился? А если побоятся спросить в глаза, спросят шепотом, друг у друга. Спросили бы они у Александра, почему дал Бонапарту дойти до Москвы, почему отдал Смоленск, почему проспал осеннюю кампанию? А потому, что другого способа нет в России воевать, не придумали еще другого способа – пусть враги войдут и пройдут как можно дальше вглубь, пусть увязнут в России, пусть застрянут в степях. Попробуй удержи Бонапарта! И Барклай не мог, и Кутузов… А у него нет Барклая, нет у него Кутузова, нет теоретика арьергардных боев, нет гения отступательной войны, нет парфян и братьев Горациев, да и не знает здесь никто про битву братьев Горациев, а есть только механизированные кавалеристы, авторы наступательных теорий.
Генерал Мерецков, которого Сталин помнил еще по Гражданской войне – кавалеристом, Мерецков, проломивший в 1940 году линию Маннергейма, но оставивший в лесах Финляндии тысячи убитых, с подобострастием спросил его две недели назад: «Вы, товарищ Сталин, сознательно выбрали стратегию Кутузова?»
Это была обдуманная, хорошая лесть. Правильно спросил Мерецков, вовремя вспомнил. Вот оно как теперь будет называться – «стратегия Кутузова»! Сталин выслушал вопрос, помолчал, давая время Мерецкову понервничать, зажег трубку, походил туда-сюда, подымил. Потом объяснил. Объяснил подробно, так, чтобы бывший кавалерист Мерецков донес информацию до друзей:
– Отступление армии Кутузова и сегодняшнее отступление советских войск продиктованы необходимостью, товарищ Мерецков. Если бы Михаил Кутузов мог разбить Бонапарта в одном-двух сражениях, он бы, думаю, так и поступил. Я лично считаю, что Михаил Кутузов такого шанса упускать бы не стал. Но разбить Бонапарта Кутузов не мог, и поэтому он должен был отступать. Если бы наши войска могли обратить Гитлера в бегство, они бы это сделали. Непременно так бы и поступили. И мы стараемся давать бои гитлеровским войскам там, где есть малейшая возможность удержать поле боя. Разница между тактикой того времени и сегодняшней состоит в том, что мы не оставляем без боя ни один город. Ни один населенный пункт. Если есть возможность обороны дома, советские граждане бьются за каждый дом. Мы изматываем противника боями. Но мы вынуждены пока что отступать. Временно. А в остальном вы правы, товарищ Мерецков, наше отступление напоминает кутузовское. Очень верно подмечено.
Выпустил облачко желтого дыма, помолчал, повторил:
– Очень верная мысль.
И посмотрел на Мерецкова своими желтыми глазами. Кавалерист! Теоретик!
Даешь Варшаву, прорвать линии обороны противника на всю глубину наступательной операцией! Теоретики! Пусть спасибо скажут, что хоть так, с такими вот потерями сумели отойти. Это ведь Ленин их так научил. Его манера, бурное фразерство. «Архиважно взять Варшаву в предельно короткие сроки» Ну, бери, коли можешь. Большие потери за полгода войны – а вы как хотели? А вы бы хотели, чтобы положили вообще всю армию за неделю? Вы бы хотели короткой французской кампании? Только ведь Гитлер уже не придержит танки Гудериана, как под Дюнкерком, когда он дал улизнуть англичанам, – нет, он пришел, чтобы давить и жечь. Сколько, говорите, потерь? Три миллиона? Пять? А вы бы хотели сразу тридцать положить? Еще положим, дайте срок. Пусть спасибо скажут, что успели раздвинуть границы до границ екатерининской державы, удлинили танкам Гудериана дорогу, заставили пехоту маршировать по длинной и глубокой России. Ничего, русский народ потерпит, мужики умеют терпеть. Сегодня надо им сказать, что мы уже побеждаем, и это не ложь, это настоящая правда – надо лишь понимать, что такое общая правда, а что такое правда одного дня.
Сталин стоял на Мавзолее прямой и надменный, и малый рост его казался Молотову монументальным. Учись, Буденный, это тебе не на лихом коне скакать. Молотов не позволил себе повернуть голову в сторону Буденного. Он чуть скривил губы под аккуратными усами и скосил презрительный глаз на нервного Буденного. Уймись, кавалерист, стыдно. И Буденный понял, пригладил рукавицей усища, подтянулся, просиял. Еще годик повоюем!
Холин, перепуганный интеллигентик, читал речь Сталина и сравнивал ее положения с заметками на той же полосе. Вот, допустим, заметка – ее поставили справа от речи наркома обороны. «У станции Р. остановили врага». Где эта станция Р., возле которой врага остановили? А возле других станций что, не остановили?
И совсем странно сказано в отчете о параде: «Для участия в воздушном параде было подготовлено 300 самолетов. Но из-за неблагоприятных погодных условий старт грозной воздушной армады пришлось отложить». Самолеты не взлетели из-за пурги. Даже на параде самолеты не взлетели – а как же они в бой взлетают? «В параде приняли участие грозные танки. Их было 200!» И восклицательный знак – потому что это очень много! – целых двести танков! Но позвольте, 200 танков – это ровно столько, сколько подбили фашистских танков на станции М. Немцы такое количество танков ради какой-то безвестной станции теряют – и ничего! Но если для немцев двести танков – это пустяк, значит, на параде было пустяковое количество танков. Зачем же все это на одной странице давать? И – страшно, оттого что ничего не понятно.
Вот стоят они на Мавзолее – они-то хоть понимают, что творится?
Сталин щурился с фотографии, смотрел желтым своим рысьим глазом. Два месяца назад обменялся он письмами с британским премьер-министром Черчиллем, попросил помощи. Черчилль прислал ему шесть писем, Сталин в ответ – два. А что толку было писать? Третьего сентября написал председатель Совета министров, что Советский Союз «стоит перед смертельной угрозой», и попросил начать активные боевые действия на Балканах или во Франции, чтобы оттянуть хотя бы 30 германских дивизий. Черчилль ответил через три дня – написал, что они смогут вернуться к этому разговору после успешного завершения британской операции в Африке. В Африке в те дни было задействовано около тысячи британских танков и более 700 самолетов – втрое больше, чем под Москвой, – решалась судьба итальянской Ливии, важной колонии, под кем ей быть. Через семьдесят лет операцию против Ливии проведут снова – назовут «Одиссей», а тогда операцию назвали «Крестоносец». Сталин прочитал это письмо, никак не отреагировал. Двадцать второго июня Уинстон Черчилль сказал пламенную речь, в частности сказал и такое: «Каждый, кто борется против нацизма, получит нашу помощь. Мы предложили России любую техническую и экономическую помощь, в которой она может нуждаться». Вот, попросили его, два месяца прошло и попросили… Солгал… Солгал англичанин… Каждый день стоил года; Сталин написал еще через неделю – попросил помощи опять. В те дни маршал фон Бок вышел к Туле. Четвертая пехотная армия группы «Центр» была под Нарофоминском. Сталин попросил у Черчилля военной помощи – прислать в Россию британские дивизии, как некогда посылала Британия солдат во Францию. Шли дни, а Черчилль молчал, а дни были тяжелые. Через две недели Черчилль написал, что со временем будет готов «изучить любую другую форму поддержки», но лишь после того, как война в Ливии будет выиграна. И опять Сталин промолчал, на следующие два письма Черчилля не ответил вовсе – писать было уже нечего.
Газеты не сказали ни слова про эту переписку, Сталин сурово смотрел с фотографий, а про Черчилля и британскую войну в Ливии журналисты не писали вовсе. В одной газете упомянули Тобрук, потом написали про полуостров Киренаику – и Холин еще спросил: а где это, Тобрук? Почему-то подумал про Монголию. Оказалось, в Ливии. И про действия Японии в Тихом океане, про японо-американские переговоры тоже писали мало. Если вспомнить, что Халхин-Гол был вчера, а самураи злопамятны, вопрос возникает сам собой – вдруг еще и оттуда ударят враги? Что-то там у японцев с Таиландом? Флот-то они какой отгрохали! Как на это американцы посмотрят? Спросил корреспондент Кобыляцкий на летучке, какие материалы идут по событиям в Японии, а Фрумкина ему ответила: «Вы, Кобыляцкий, беспокоитесь за американский империализм или за самураев?» Черчилль успеха в Ливии не добился: британцев громили и гнали – точь-в-точь как два года назад по Северной Франции. Но не интересовала никого Ливия, и Тихий океан не беспокоил особенно, даже Британия занимала не очень. Интересовало другое. Как так случилось, что за полгода все поменялось? Вслух спросить было страшно – а про себя думали.
Вчера еще в их газете писали, что Гитлер – друг. Почему так писали – непонятно. Если задуматься хоть на минуту, несуразность союза с фашистской Германией очевидна: как может государство, которое хочет равенства всех людей, заключить союз с государством, которое заявляет, что люди друг другу не равны? Это ведь очевидно. В России говорят, что человек не может угнетать человека, и коллективизацию мы провели, чтобы не было даже незначительного угнетения в деревнях. Мы не могли допустить, чтобы были рабы и господа, – вот и раскулачили зажиточных крестьян, мироедов. И правильно сделали. А в Германии говорят, что одни люди рождены господами, а другие рождены – рабами. Как нам договориться? Непонятно. Даже, допустим, они нам скажут, что мы не рабы. Но ведь кого-то другого они все равно будут считать рабами. Разве мы можем с этим смириться, если мы с кулачеством не смирились? Непонятно.
Непонятно, почему мы прозевали начало войны. Приехал корреспондент газеты «Красная звезда», человек информированный, рассказал, что генерал Павлов в день нападения пошел оперу слушать. И даже связь в театр провели, поставили в фойе театра телефон, наладили линию с Верховным штабом на случай экстренных звонков из Москвы. И, мол, генерал с женой в ложе сидел, но ординарец к ним заглядывал регулярно: дескать, пока не звонили. Из Москвы-то не позвонили, а вот из Берлина прилетели – не тот телефон Павлов установил. Генерала быстро привезли в Москву, судили и расстреляли, говорят, он перед расстрелом выпил бутылку коньяка для храбрости. Впрочем, виноват ли он, непонятно.