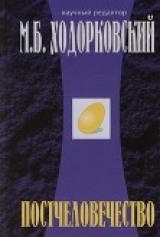
Текст книги "Постчеловечество"
Автор книги: Максим Калашников
Соавторы: Нина Некрасова,Заряна Некрасова,Анатолий Баранов,Михаил Делягин,Наталья Вакурова,Лев Московкин,Владимир Видеман,Владислав Иноземцев,Михаил Ходорковский
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Научный редактор
М. Б. Ходорковский
ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Ф. Фукуяма в книге «Наше постчеловеческое будущее» высказал тезис о том, что ускоряемая развитием технологий биологическая эволюция человека приведет к внутреннему разделению человечества на биологической основе, к выделению из него людей с более высокими интеллектуальными и физическими качествами. Понятно, что подобное развитие событий неминуемо приведет к возникновению новых и усугублению старых разрывов как внутри социумов, так и между ними.
Реалистично ли такое предположение, возникнет ли отчуждение между «новой расой» и остальным человечеством и будет ли оно осознано? Будет ли ситуация разделения относительно устойчивой или же она будет провоцировать конфликты и дестабилизировать человечество? Будет ли «новая раса» сметена массовым протестом против нее с последующей общей варваризацией мира?
Эти ключевые вопросы, при всей своей необычности, а во многом даже и фантастичности для современного российского читателя, сегодня действительно стоят на повестке дня глобального развития.
Помимо них. в предлагаемом вашему вниманию сборнике обсуждаются тесно связанные с ними последствия косвенного влияния технологической эволюции на человека (генетически модифицированная пища, снижение иммунитета, появление новых заболеваний), их социальные и геополитические последствия.
Само открытое и разностороннее обсуждение данных вопросов, неминуемо приобретающее междисциплинарный характер, исключительно важно для оживления и активизации современной научной мысли.
Изучающие общество специалисты привыкли воспринимать человека как нечто целостное и неизменное – да и большинство людей, за исключением узких специалистов, относятся к своей природе гак же. Между тем человек не просто претерпевает эволюционные изменения, но и неосознанно и незаметно для себя подстегивает свою эволюцию самыми разнообразными технологиями. Изменение же его биологического типа весьма существенно влияет на глобальную конкуренцию, отношения в рамках общества и, что очень важно, на самооценку. В частности, все сильнее признаки того, что представители развитых обществ, в том числе в результате разноскоростной и разнонаправленной биологической эволюции, отказываются от гуманистической трактовки отдельно взятого человека как равного всем остальным и обладающего неотъемлемыми правами. Все сильнее признаки приближения но крайней мере практической общественной мысли к расистскому, по сути дела, восприятию представителей разных цивилизаций как не могущих претендовать на общий, единый для всех объем прав.
Принципиально важно, что это кризис не столько общественных наук и технологий глобального управления и самоуправления, сколько самой самооценки человека, крайне опасный и нуждающийся в скорейшем изживании, – а для этого нужно осознать направленность, масштабы и скорость изменений.
Помимо трансформации международных отношений, ускорение биологической эволюции дополнительно ускоряет и наполняет новым содержанием и социальную эволюцию. С одной стороны, получает новое, совершенно неожиданное измерение феномен лидерства и других устойчивых социальных ролей и институтов.
С другой – уже сейчас в развитых обществах наблюдается возникновение качественно нового неравенства – между способными и не способными к творческому труду людьми. В силу качественного роста значения творческого труда это постепенно начинает создавать биологический барьер, преодолеть который, в отличие от социального, почти невозможно. В то же время можно предположить, что технологии будущего позволят преодолевать этот барьер, сделав способность к творчеству по-настоящему массовой, если не вообще всеобщей и повсеместной.
Вместе с тем существенно, что авторы, как представляется, практически упустили из виду одну из актуальных проблем ближайшего будущего – резкое снижение потребности человечества в нетворческом труде.
На протяжении ряда лет говорят, что даже на примере нефтяной отрасли (одной из самых консервативных) заметно разделение специальностей на творческие и нетворческие.
Если по специальностям второго типа условия на рынке в целом диктует покупатель вследствие явно избыточного предложения, то по специальностям первого типа наблюдается явный диктат продавца.
Проблемы очевидны – разрыв в оплате труда автоматически растет. Перспективы еще более печальны: замена второго типа специалистов на машины и технологии – дело исключительно времени и затрат (чем выше затраты на персонал, тем быстрее его замена), и девать этих людей некуда, а их – 90%. Пособие им платить несложно, но обеспечить их работой, не очевидно ненужной, – проблема.
А ведь уже второе поколение сидящих на пособии порождает молодежь, неспособную к труду, и тем самым сокращает число необходимых специалистов первого типа, и что еще более важно – создает ощущение безысходности (справедливое), исключенности из социума неуспешных людей.
Это сейчас проходит Америка. Это грозит России, тем более тяжелая промышленность (сырьевая) особенно быстро сокращает потребность в нетворческом труде, а промышленность высоких технологий эту потребность создает исключительно при гигантских капитальных затратах, да и то весьма ограниченно.
Вот где вопрос, ответ на который исключительно важен, – особенно с учетом того, что, как показывает позиция авторов данной книги, он пока находится вне сферы внимания российского экспертного сообщества.
Весьма возможно, что ускорение биологической эволюции, подстегиваемое как косвенным влиянием традиционных технологий («хай-тек») и целенаправленным применением технологий изменения человека («хай-хьюм»), так и изменением условий его существования, в первую очередь социальных, станет главным, хотя (по крайней мере, на первых порах) и слабо наблюдаемым фактором развития человечества.
Неравномерность же нового витка биологической эволюции поставит исключительно важный, в первую очередь с мировоззренческой точки зрения, вопрос о единстве человечества (как в цивилизационном плане, так и внутри обществ – в зависимости от способности к творчеству), от решения которого будет зависеть будущее не только отдельных обществ, но и человечества в целом.
Заранее дать ответ на него не представляется возможным, однако сама постановка вопроса и его максимально подробное для современного уровня развития человечества рассмотрение уже представляется значительным продвижением вперед, подготовкой плацдарма для будущих прорывов и свершений, позволяющих превратить перечисленные в данном кратком предисловии проблемы в ослепительные возможности.
М. Б. Ходорковский
В. Ж. Иноземцев [1]1
Иноземцев Владислав Леонидович – издатель и главный редактор журнала «Свободная мысль».
[Закрыть]
ON MODERN INEQUALITY. СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРОТИВОРЕЧИЙ XXI ВЕКА
На протяжении нескольких столетий западные социальные философы мечтали об обществе, основными местами которого выступали бы равенство и свобода. Обе эти ценности чистились среди фундаментальных основ христианской традиции, с которой идентифицировали себя европейцы, – и это казалось вполне естественным. С одной стороны, религия, претендующая на универсальный характер, не могла не проповедовать равенство своих адептов – пусть даже такое ограниченное, как равенство перед лицом Всевышнего («Нет предо мною ни Эллина, ни иудея» – говорит Иисус;[2]2
Ап. Павел. Послание к галатам, 3, 28.
[Закрыть] Ветхий Завет рассказывает, что человек был создан Господом одним и единственным – прежде всего для того, чтобы показать, как приятно Ему «единство среди множества».[3]3
См.: St. Augustinus. De civitate Dei, XII, 21.
[Закрыть] С другой стороны, сама идея грехопадения – как и вся моральная доктрина христианства – предполагает за человеком возможность выбора между добром и злом и тем самым утверждает свободу воли, которая лежит в основе всех остальных свобод человека. Таким образом, в рамках христианской традиции удачно соединились идеи равенства и свободы – что и определило способность принявшей эту доктрина цивилизации к быстрому поступательному развитию. Более того; это развитие было тем успешнее, чем жестче церковь была отделена от государства и чем мощнее были ее позиции («подъем христианской церкви [как противовеса мирской власти] – первейший источник свободы на Западе», утверждает Ф. Закария[4]4
См.: Закария Фарид. Будущее свободы. Нелиберальная демократия в США и за их пределами, Москва: «Ладомир», 2004, с. 20.
[Закрыть]).
Однако в XVIII–XIX столетиях западные философы вышли за пределы христианской теории равенства и свободы. Они сочли, что равенство должно распространяться не только на религиозную, но и на социальную сферу, потребовав отмены сословий; и что свобода должна доминировать также и в политической области – вплоть до свободы выбора не только веры, но и правительства. Справедливости ради нужно заметить, что истоки этих представлений вполне могут быть обнаружены у святых отцов западной церкви. Так, например, в начале XIII века св. Фома Аквинский говорил о том, что подчинение слабого сильным, неизбежное в ходе становления общества, не должно стать базой социального строя и в перспективе будет искоренено;[5]5
См.: St. Thomas Aquinas. Summa theologiae, Secunda secundae, qu. 61, art. 4.
[Закрыть] он же настаивал на том, что «если группа свободных людей руководима правителями во имя общего блага всей группы, такое правительство оправданно и справедливо, как отвечающее потребностям людей; если же правительство создается не для общего блага всех, а во имя частного интереса правителя, оно будет несправедливым и извращенным правительством»,[6]6
St. Thomas Aquinas. De regimine principum, I, 1.
[Закрыть] достойным свержения (эти строки, заметим, писались практически в те самые годы, когда боровшиеся за свои привилегии британские бароны принуждали короля Иоанна подписать Великую хартию вольностей [1215 г.]).
При этом по мере распространения эгалитаристских идей они все больше применялись не только к политической, но и к экономической сфере. И если за судьбы политического равенства можно было «не волноваться» уже к началу XIX века, когда американская и французская революции провозгласили равенство граждан перед законом и объявили народ источником суверенитета, то борьба за экономическое равенство только еще начиналась. Сначала т.н. «утописты» начали рассуждать о некоем идеальном государстве, граждане которого хотя и бедны, но уравнены в экономических правах; затем Ш. Фурье и немецкие коммунисты осудили буржуазное общество как воспроизводящее неравенство, и, наконец, К. Маркс и Ф. Энгельс создали концепцию, согласно которой капиталисты обогащаются за счет эксплуатации рабочих, которые лишены средств производства и потому вынуждены продавать свою рабочую силу. Основной задачей с этого момента провозглашалось устранение этой эксплуатации и тех социальных условий, которые делали ее возможной. Основоположники марксизма – и в этом вряд ли стоит сомневаться – были искренне уверены в осуществимости этой благородной задачи и боролись за ее воплощение в жизнь.
Социальное неравенство: несколько слов о классовой структуре
Большинство исследователей – как в прошлом, так и сегодня – полагают, что основой социального (и, в особенности, имущественного, или материального) неравенства выступает классовая структура общества, постоянно воспроизводящаяся и «приписывающая» того или иного человека к исполнению определенного набора социальных функций. Принято считать, что именно деление людей на классы обусловливает несправедливое распределение общественного богатства. Именно поэтому основная часть социальных утопий рисует «справедливое общество» в виде такого, где отсутствует классовое или сословное деление; особенно в этом преуспели классики марксизма, сформулировавшие для обоснования бесклассового характера будущего общества теорию, разделяющую всю историю на «архаический», «экономический» и «коммунистический» периоды – так называемые «общественные формации».[7]7
Подробнее см.: Иноземцев Владислав. Экономическая общественная формация: границы понятия и значение теории. ПОЛИС. Политические исследования, 1991, № 4, с. 35–46; Иноземцев Владислав. К теории постэкономической общественной формации, Москва: Таурус, Век, 1995, с. 113–137; Иноземцев Владислав. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире, Москва: Academia, Наука, 1998.
[Закрыть]
Предполагалось, что общественные классы стали возникать в тот период, когда начались ослабление и распад связей внутри соседской общины – последней из форм бесклассового общества. С появлением избытка продуктов равное распределение – в лучшем случае учитывавшее физические особенности отдельных членов общины – стало анахронизмом, и изъятие непропорционально большой части благ в пользу некоей группы перестало угрожать выживанию общности как целого. Однако это не было связано с контролем над «средствами производства», о котором К. Маркс, а затем и его последователи говорили как об основном признаке класса. Более верным представляется мнение М. Вебера, который, возражая К. Марксу, отмечал, что главным критерием класса следует считать оформившийся хозяйственный интерес его представителей, а не наличие или отсутствие института собственности на средства производства.[8]8
См.: Weber Max. Economy and Society, London: Routledge, 1970, vol. 1, p. 183.
[Закрыть] Интерес этот по необходимости формировался вокруг обладания неким ресурсом или некоей привилегией, которое объединяло представителей доминирующего класса и противопоставляло их остальным членам общества. Характер данного ресурса мог сильно различаться – от предполагаемой близости к «высшим силам», легитимизировавшей жреческое сословие в обществах Древнего Востока, до военной силы, находившейся под управлением военной аристократии римского типа. Неоспоримым выступало только наличие этого ресурса – и контроля над ним.
Этот тезис легко проиллюстрировать кратким обзором различных типов классовых обществ, которые сменяли друг друга в предшествующие исторические периоды.
В античных обществах (которые в XVIII–XIX веках неслучайно назывались периодом классической древности) основой господства свободного класса над зависимым являлась par excellence военная сила. Более того; внутри самого привилегированного класса реальную власть имели, как правило, лица, занимавшие высокие должности в военной иерархии. Как известно, одной из важнейших обязанностей римских консулов было исполнение функций главнокомандующего; во времена упадка республиканского строя все диктаторы выходили из среды военных; имперский режим сформировался в гражданских войнах, а впоследствии немалая часть императоров была свергнута или назначена армейской верхушкой. В рамках данного социального порядка денежное богатство скорее следовало из военного успеха, нежели определяло общественный статус per se, а земельная собственность не имела основополагающего значения, так как в границах метрополии доминировала формально находившаяся в «общем владении римского народа» ager publicus, а суверенитет императоров над отдельными провинциями имел скорее номинальное значение. Напротив, рост влияния земельной собственности и образование больших замкнутых владений при истощении притока рабов и спаде производства в хозяйствах свободных граждан оказались сопряжены с упадком и разрушением античного общества.
В феодальном обществе источником доминантного статуса аристократии была собственность на землю как основной хозяйственный ресурс. Делегирование власти от монархов к вассалам и далее, к мелкому дворянству происходило через жалование прав на земельные владения, аллоды, которые сначала выделялись во временное пользование, затем закреплялись в пожизненное владение, а впоследствии стали наследуемой собственностью. В данном случае обсуждаемый базовый ресурс обрел экономическую природу, так как к времени расцвета западноевропейских феодальных обществ крестьяне не были юридически закрепощены, а изъятие прибавочного продукта происходило не по причине принадлежности работника господину, а через взимание земельной ренты, представлявшей собой плату крестьянина за использование принадлежавшего феодалу надела. Фактор земельной собственности определял иерархическую лестницу феодального общества, и место в ней либо обусловливалось размерами владений того или иного сеньора, либо воплощалось в таковых. Заметим, что «третье сословие» вряд ли столь легко разрушило бы феодальный строй, если бы к соответствующему периоду буржуазия и крестьянство не обеспечили свое доминирование в обществе не только как распределители значительных денежных богатств, но и как собственники большей части обрабатываемых земель.
В буржуазном обществе основным фактором, обеспечивающим принадлежность к верхушке общества, стали финансовые ресурсы. Образование подавленного класса пролетариев произошло вследствие как обезземеливания крестьян, так и разорения мелких ремесленников. Установив контроль за финансовыми потоками, представители капиталистического класса вскоре добавили к нему и монополию на большую часть средств производства, которые в силу в том числе и технологических причин не могли находиться в индивидуальной собственности работников. Несмотря на то, что пролетаризация общества никогда не переходила опасной черты, промышленные рабочие и буржуа оказались двумя главными классами индустриальной эпохи. Учитывая, что самовозрастание капитала, с одной стороны, требовало значительных первоначальных вложений и, с другой стороны, не могло эффективно происходить фактически нигде, кроме как в промышленности и торговле, следует признать, что буржуазия имела в собственности не только основные, но практически все реальные рычаги, необходимые для осуществления эффективного контроля над обществом.
Согласно идеям К. Маркса, как известно, задачей коммунистической революции было политическое свержение господства буржуазии и передача всей власти «трудящимся»;[9]9
См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. М.: Политиздат, т. 2, с. 552–553; т. 25, ч. II, с. 309 и др.
[Закрыть] история показала, что этот сценарий практически нереализуем. В чем же заключалась ошибка? Современные марксисты предпочитают утверждать, что главной причиной неудачи была «бюрократизация» социалистического общества, которая привела к политическому авторитаризму и хозяйственной неэффективности. На наш взгляд, это крайнее упрощение ситуации. Попытаемся понять, почему в разные исторические периоды военная сила, земельная собственность и финансовый капитал выступали доминирующими ресурсами, дававшими их владельцам власть над обществом, а труд, или рабочая сила, никогда не принадлежал к числу таких ресурсов? Первый же приходящий на ум ответ и содержит разгадку – все упомянутые ранее ресурсы обладали редкостью, которая отчасти и делала их столь ценными. В отличие от них труд если и был когда-то редким ресурсом, нехватка которого ограничивала возможности хозяйственного развития, то разве что после страшной эпидемии чумы в XIV веке, которая на время сделала безлюдными целые области в ряде европейских стран. Во все остальные эпохи предложение трудовых ресурсов было избыточным. С нарастанием глобализационных явлений редкость трудовых ресурсов становится все менее несущественным фактором: параллельно идут как процесс вынесения трудоемких производств за пределы индустриально развитых стран, так и переселение в эти государства низкоквалифицированных работников, успешно восполняющих дефицит трудовых ресурсов в наиболее богатых регионах мира.
Все это делает шансы на превращение пролетариата в новый доминирующий класс крайне незначительными. В то же время в XX веке стали видимыми и более знаменательные тенденции, нежели сохранение подчиненной рола груда. В короткие сто лет уместились феноменальные трансформации, серьезно снизившее значимость и всех прочих ресурсов, которые в предшествующие исторические эпохи обеспечивали доминирование тем или иным господствующим классам. В первые годы XX столетия ведущие европейские державы заканчивали формирование своих колониальных империй; в начале XXI самое мощное в военном отношении государство мира – США – не может установить эффективный контроль над относительно небольшой ближневосточной страной, Ираком. Военная сила утрачивает былую эффективность, а во внутренней политике вообще не выступает значимым аргументом. В начале XX века почти половина населения развитых стран жила в сельской местности; сегодня правительства развитых стран готовы платить своим крестьянам за то, что они не обрабатывают свои земли. Собственность на них сегодня также не может считаться аргументом доминирующего класса. Капитал пока остается востребованным, но нельзя не видеть, что его предложение все чаще превышает спрос – об этом говорят и близкие к нулевому значению процентные ставки в Японии и Швейцарии (а в 2002–2004 гг. – и в США), и фондовые «пузыри», образующиеся всякий раз, когда владельцы свободных денежных средств массово вкладывают их в самые рискованные активы в надежде на высокую прибыль. Хотя капитал сегодня несомненно остается одним из важнейших производственных ресурсов, он уже не сталь редок, как в начале XX века, и не может так же, как прежде, диктовать обществу свою волю. Какой же ресурс выступает сегодня наиболее востребованным, какой класс он выводит на историческую арену и какими могут оказаться дальнейшие судьбы этого социального слоя? Данный вопрос встал перед социологами не сегодня и не вчера, и история возможных ответов на него изучена сегодня уже достаточно подробно.
Новый доминирующий класс: рациональны ли ожидания?
В первые послевоенные годы самым распространенным ответом на вопрос о том, кто может стать новым господствующим классом формирующегося общества (которому в то время еще даже не давалось определенного названия), было указание на некую абстрактную «управляющую элиту», или «класс менеджеров» «…кто же составляет правящий класс посткапиталистического общества?» – спрашивал в конце 50-х годов Р. Дарендорф, и отвечал: «Его представителей следует искать на верхних ступенях бюрократических иерархий – среди тех, кто отдает распоряжения административному персоналу».[10]10
Dahrendorf Ralf. Class and Class Conflict in Industrial Society, Stanford (Ca.): Stanford Univ. Press, 1959, p. 301.
[Закрыть] В «„технотронном“ обществе, то есть обществе, формирующемся – в культурном, психологическом, социальном и экономическом плане – под воздействием современной техники и электроники… где индустриальные процессы уже не являются решающим фактором социальных перемен»,[11]11
Brzezinski Zbigniew. Between Two Ages, New York, London: Penguin, 1971, p. 9.
[Закрыть] новая элита должна в первую очередь обладать способностями контролировать и направлять процессы, диктуемые логикой технологического прогресса – считал Зб. Бжезински. Предельно широкое определение этой социальной страты, которая была названа им «техноструктурой», дал Дж. К. Гэлбрейт, в 1969 г. отмечавший, что «она включает всех, кто привносит специальные знания, талант и опыт в процесс группового принятия решений».[12]12
Galbraith John К. The New Industrial State, 2nd ed.,London, New York Penguin, 1991, p. 86.
[Закрыть] Еще раньше К. Райт Миллс отметил, что новая социальная элита представляется не элитой богатства, а элитой статуса;[13]13
Wright Mills, C. The Power Elite, New York, Oxford: Oxford Univ. Press, 1959, p. 6.
[Закрыть] его подправил А. Турен, указавший, что технократический класс не только занимает доминирующие позиции в новом обществе, но выступает субъектом подавления прочих социальных слоев и групп.[14]14
См.: Touraine Alain. The Post-Industrial Society. Tomorrow’s Social History: Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society, New York: Random House, 1974, p. 70.
[Закрыть]
Параллельно социологи искали позитивное определение новой элиты. Хотя многие исследователи вплоть до середины 70-х годов предпочитали говорить о «новом классе», «доминирующем классе», «правящем классе», «высшем классе» и т.д.,[15]15
Подробнее см.: Giddens Anthony. Social Theory and Modem Sociology, Cambridge: Polity, 1987, pp. 263-264; Pakulski, Ian and Waters, Malcolm. The Death of Class, London, Thousand Oaks (Ca.): Sage Publications, 1996, p. 55, и др.
[Закрыть] не давая ему четких определений, особо проницательные авторы недвусмысленно связывали социальный статус с интеллектуальными и творческими способностями человека. При этом характерно, что перспектива формирования новой социальной реальности порождала не столько надежды, сколько ощущение опасности. Еще в 1958 г. М. Янг в фантастической повести «Возвышение меритократии» в гротескной форме обрисовал конфликт между интеллектуалами и остальным общество как опасное противоречие следующего столетия.[16]16
См.: Young, Michael D. The Rise of Meritocracy, 1870–2033: The New Elite of Our Social Revolution, New York: Random House, 1958.
[Закрыть] В 1962 г. Ф. Махлуп, вводя в научный оборот показательный термин «работник интеллектуального труда (knowledge-worker)»,[17]17
Подробнее см.: Hepworth Mark E. Geography of the Information Economy, London: Pinter, 1989, p. 15.
[Закрыть] указывал на то, что работники нового типа изначально ориентированы на оперирование информацией и знаниями; фактически индифферентны к форме собственности на средства и условия производства; крайне мобильны; и, как правило, стремятся заниматься деятельностью, открывающей широкое поле для самореализации и самовыражения, хотя бы и в ущерб сиюминутной материальной выгоде. О. Тоффлер вынужден был признать, что традиционное обществоведение, изучающее «переход власти от одной личности, одной партии, одной организации или одной нации к другой», теряет свое значение в условиях, когда основными становятся «скрытые сдвиги во взаимоотношениях между насилием, богатством и знаниями».[18]18
Toffler, Alvin. Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21th Century, New York: Bantam Books, 1991, p. 464.
[Закрыть] Основатель теории постиндустриализма Д. Белл подытоживал: «Если в течение последних ста лет главными фигурами были предприниматель, бизнесмен, руководитель промышленного предприятия, то сегодня „новыми людьми являются ученые, математики, экономисты и другие представители новой интеллектуальной технологии“».[19]19
Bell Daniel. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Books, 1976, p. 344 (см. также русское издание: Белл, Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования, перевод с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Москва: Academia, 1999).
[Закрыть]
Однако перемены происходили не только на одной стороне социального спектра. С другого фланга отмечалось постепенное накапливание негативных явлений, казавшихся ранее преодоленными как самим промышленным капитализмом, так и развитием системы социального обеспечения. Еще в начале 60-х годов Г. Маркузе отметил, что новая высокотехнологичная деятельность резко сокращает потребность в прежних категориях трудящихся, и традиционный рабочий класс становится далеко не самой заметной социальной группой современного общества.[20]20
См.: Marcuse Herbert. One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, London, New York: Routledge, 1991, p. 31.
[Закрыть] Если в нем и растет потребность в труде, то прежде всего в низкоквалифицированном и неквалифицированном; возникает особая страта, которую А. Горц назвал «неклассом нерабочих», или «неопролетариатом», состоящим «либо из людей, ставших хронически безработными, либо из тех, чьи интеллектуальные способности оказались обесцененными современной технической организацией труда… работники этих профессий почти не охвачены профсоюзами, лишены определенной классовой принадлежности и находятся под постоянной угрозой потерять работу».[21]21
Цит. по: Giddens Anthony. Social Theory and Modern Sociology, p. 279.
[Закрыть] А. Турен предпочитал говорить об «особо отчужденном классе», к которому он относил представителей устаревающих профессий, членов замкнутых региональных сообществ и т.д.; переход же от индустриального общества к новому социальному порядку считался им «переходом от общества эксплуатации к обществу отчуждения».[22]22
См.: Touraine Alain. The Post-Industrial Society, p. 70, 61; Castoriadis, Cornelius. The Imaginary Institution of Society, Cambridge (Ma.), London: The MIT Press, 1987, p. 115.
[Закрыть] Поэтому какие бы возможности ни открывало перед человеком новое «постиндустриальное» общество, оно открывает их в совершенно различной степени – и классовое неравенство, а с ним и классовый конфликт, не уходят в прошлое, а в чем-то становятся даже резче.
На протяжении последних десятилетий эти обостряющиеся противоречия привлекали внимание самых известных западных социологов. В результате сегодня можно констатировать определенный консенсус, который сложился во взглядах и на высший класс «постиндустриального» общества, и на его классовую структуру в целом.
Во-первых, утверждается, что главным объектом собственности, дающим представителям этого нового класса основания занимать доминирующие позиции в обществе, являются уже не «видимые вещи» (такие, как земля и капитал), а информация и знания, которыми обладают конкретные люди (зачастую к этим «активам» также применяется понятие «капитала»[23]23
См.: Wright Mills, С. White Collar. The American Middle Classes, New York, Oxford: Oxford Univ. Press, 1951, p. 269.
[Закрыть]) – и поэтому господствующий класс не так замкнут и однороден, как высшие слои аграрного и индустриального обществ. Эта страта не «наследственна»; она по своей природе не есть аристократия,[24]24
См.: Handy, Charles. «Unimagined Future» in: Hesselbein, Frances, Goldsmith, Marshall and Beckhard, Richard (eds.) The Organization of the Future, New York, San Francisco (Ca.): Drucker Foundation & Jossey-Bass Publishers, 1997, p. 382.
[Закрыть] хотя представители этого нового класса в большинстве случаев оказываются выходцами из состоятельных слоев общества и имеют целый ряд серьезно сближающих их черт.[25]25
Подробнее см.: Wright Mills, C. The Power Elite, p. 278–279.
[Закрыть]
Во-вторых, отмечается, что влияние данной группы определяется прежде всего ее доминирующим положением в соответствующих социальных иерархиях – бизнесе, армии, политических институтах, научных учреждениях; при таком подходе правительственная бюрократия профессиональные и академические эксперты и техноструктура, то есть лица, так или иначе причастные к управлению и стоящие у начала информационных потоков, объединяются в понятие технократического класса.[26]26
См.: Touraine Alain. The Post-Industrial Society, p. 70.
[Закрыть] В силу переплетенности различных социальных институтов попасть в класс технократов можно отнюдь не только на основе способности человека усваивать информацию и генерировать новое знание. При этом, однако, до сих пор считается, что в конечном счете «статус профессионалов определяется в соответствии не столько с их иерархическими полномочиями, сколько с их научной компетентностью».[27]27
Touraine Alain. The Post-Industrial Society, p. 65.
[Закрыть]
В-третьих, большинство авторов так или иначе сходятся в том, что новое общество может стать – и de facto становится – менее эгалитаристским, нежели прежнее, поскольку,хотя «информация есть наиболее демократичный источник власти»,[28]28
Toftler Alvin. Powershift, p. 12.
[Закрыть] капитал как основа влияния и могущества заменяется не трудом, а знаниями которые являются, не в пример труду, «редким (курсив мой. – В.И.) производственным фактором»,[29]29
Geus Arie de. The Living Company, Boston: Harvard Business School Press, 1997, p. 18.
[Закрыть] привлекающим большой спрос при ограниченном предложении. По этой причине складывающееся меритократическое социальное устройство может быть только пародией на демократию, и возникающие новые возможности социальной мобильности не устраняют, а скорее даже подчеркивают его элитарный характер.[30]30
См.: Lash Christopher. The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, New York, London: W.W. Norton & Co., 1995, p. 41.
[Закрыть]
Возникает вопрос: в какой мере способен этот новый высший класс адекватно оценивать стоящие перед обществом проблемы; в какой мере он заинтересован в повышении благосостояния остальных его членов; может ли он определять цели и задачи, которые большая часть социума готова будет воспринять как свои собственные?
Все эти вопросы очень важны, потому что новый господствующий класс кардинально отличается от военной аристократии, феодального сословия или класса буржуа. Все прежние высшие классы были классами статуса: если у феодала отнимали его земли, вместе с ними он лишался власти; если предприниматель разорялся, он мог превратиться в мелкого лавочника или наемного менеджера. Именно об этом говорил К. Маркс, когда он рассуждал о различии между капиталом-собственностью и капиталом-функцией;[31]31
См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд., М.: Политиздат, т. 25, ч. I, с. 406–429.
[Закрыть] класс капиталистов в его концепции воплощал именно капитал-собственность. В то же время принадлежность к новому высшему классу определяется способностями: человек относится к управленческой или научной элитам прежде всего вследствие наличия у него таланта к усвоению информации и превращению ее в новое знание. Однако очевидно, что способность продуцировать новые знания отличает людей друг от друга в гораздо большей степени, чем размеры материального богатства; более того, эта способность не может быть приобретена ни мгновенно, ни в ограниченные сроки, а в определенной мере заложена на генетическом уровне, который определяется межгенерационными отношениями. Таким образом, по мере того, как новый высший класс будет вбирать в себя особо достойных представителей иных слоев общества, потенциал оставшихся будет снижаться. Обратная миграция, вполне возможная в буржуазном обществе, в данном случае более сложна, так как раз приобретенные знания могут только совершенствоваться, но при этом фактически не могут быть утрачены. Поэтому имеются веские основания предположить, что общество XXI века будет жестко поляризованной классовой структурой, которая вызовет к жизни противоречия более острые, нежели те, какими были отмечены предшествующие ступени общественной эволюции.
Сокращение и нарастание неравенства в XX веке
Современные общества Запада стали индустриальным уже в конце XIX века. Однако имущественное неравенство, сопровождавшее процессы промышленного развития, достигло к тому времени уровня, явно угрожавшего социальной стабильности. Первая мировая война обострила существовавшие в обществе противоречия и привела к целой череде социальных взрывов, поставивших под сомнение саму возможность дальнейшего существования капиталистического строя. Ответом на это стали меры, направленные на сокращение имущественного разрыва; наибольших успехов такая политика достигла в Европе после Второй мировой войны, тогда как в США ее интенсивность была существенно меньшей. Поэтому Соединенные Штаты дают более «чистую» картину процесса, к которой мы и хотели бы сейчас обратиться (влияние же тех практик, которые получили распространение в Европе, мы оценим позднее).









