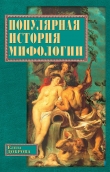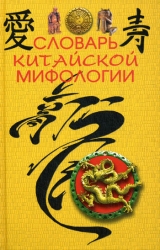
Текст книги "Словарь китайской мифологии"
Автор книги: М. Кукарина
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Китайская мифология в литературе и культуре
Китайская мифология оказывала заметное влияние на художественную культуру страны. Однако в силу рано возникших представлений о божествах как о первопредках, исторических деятелях, развития конфуцианского мировоззрения и отсутствия эпоса и драмы в Древнем Китае мифология мало отражена в словесном искусстве. Кроме творчества поэта Цюй Юаня, образы древнекитайской мифологии разрабатывались лишь в отдельных небольших поэмах, например в «Фее реки Ло» Цао Чжи. В повествовательной прозе, рождающейся в начале средневековья и развивающейся в виде коротких повестей и рассказов, похожих на былички (о встрече человека с духами), представлены образы в основном даосской и низшей народной мифологии. В сказе-бянвэнь, развившемся в VIII–X веках, раскрываются в основном сюжеты буддийского содержания. В них рассказывается о жизненном, философском и религиозном пути будд и бодхисаттв. Зародившаяся в XII–XIII веках музыкальная драма представила интересные, хотя и немногочисленные, образцы произведений на мифологические сюжеты как даосского (например, о восьми бессмертных), так и буддийского характера.
Создававшиеся на основе устного сказа, книжные эпопеи в отдельных случаях также использовали мифологические темы и образы («Путешествие на Запад» У Чэн-эня, «Возвышение в ранг духов» Сюй Чжун-линя, «Сказание о начале мира» Чжоу Ю – все XVI век). Во всех этих поздних эпопеях ощущается заметное влияние народной синкретической мифологии.
Даже в «Сказании о начале мира» наряду с образами древней мифологии, трансформированными авторским сознанием и изображенными с помощью художественных средств, заимствованных из исторических эпопей и романов, упоминаются и некоторые буддийские божества, действующие наравне с китайскими демиургами Пань-гу и Нюйва. В развивающихся (параллельно с повествовательной прозой крупных форм) литературной новелле (с VII века) и народной повести (с XII века) эпизодически используются лишь отдельные образы низшей мифологии. Пример такого рода – новеллистическое творчество Пу Сун-лина (XVII век).
В новейшей китайской литературе примером удачного использования мифологических сюжетов можно считать «Старые истории в новом изложении» Лу Синя. В них автор отчасти с сатирическими и полемическими целями переизложил историю стрелка И и его жены Чан-э, повествование об усмирителе потопа Юе и др.
Мифологические темы также активно развивались в изобразительном и прикладном искусстве (начиная с древней керамики и ритуальной бронзы). При этом в основном изображались зооморфные или иногда зооантропоморфные фигуры.
Мифологические сюжеты присутствуют в основном в рельефах и настенной живописи эпохи Хань (III век до н. э. – III век н. э.), украшавших главным образом могильные сооружения. К числу наиболее популярных тогда сюжетов относятся изображения первопредков полуживотных-полулюдей: Фуси и Нюйвы, Си-ван-му, стрелка И, целящегося в солнце, и других. С распространением буддизма и строительства буддийских и, в подражание им, даосских храмов появляются скульптурные изображения буддийских и даосских персонажей, а также их портреты в виде фресок и настенной живописи. Те же персонажи появляются и в произведениях средневековых китайских художников (Ван Вэй, У Даоцзы, Ма Линь и других), а также в росписях дворцовых комплексов, с развитием ксилографии (с VII–VIII веков) и в гравюре (иллюстрации к произведениям буддийского и даосского канонов, отдельные печатные листки типа бумажных иконок, гравюры – иллюстрации к «Книге гор и морей», к мифологическим эпопеям и т. п.). В период позднего средневековья (примерно с XV–XVI веков) мифологические персонажи синкретического народного пантеона становятся постоянными на народных лубках, заменявших китайцам иконы. Лубки такого содержания печатались до конца 40-х годов в Китае, а в Юго-Восточной Азии (Гонконг, Сингапур и т. д.) распространены и в настоящее время. Своеобразие отражения мифологии в китайской культуре проявляется в том, что одни и те же мифологические сюжеты и представления, начиная со времен древности, несколько по-разному претворялись в образах словесного и изобразительного искусств. В одних случаях изобразительные памятники сохраняли более архаические черты, чем литературные, в других случаях, наоборот, герои-первопредки в памятниках словесного творчества выглядели более архаическими, чем в произведениях изобразительного искусства того же периода.
Поскольку в китайских мифах боги и герои поражают нас смелостью воображения и неожиданной эксцентричностью, их образы до сих пор используют в литературе и искусстве.
К сожалению, древние китайские мифы рано стали исчезать из памяти людей по той причине, что жизнь стала объяснять представления о мире более реалистически, и стала отвергать абстрактные объяснения.
Но мифы Древнего Китая, к счастью, не исчезли полностью. Человека всегда интересовало все необычное и удивительное. Люди стали записывать остатки еще сохранившихся мифов, и они стали частью традиционной китайской истории.
Современные китайские поэты и писатели используют мифологический материал в своих стихах, романах, новеллах и даже в сатирических произведениях.
БОГИ И ДУХИ КИТАЙСКОЙ МИФОЛОГИИ

A
Алмазные владыки неба – в китайской буддийской мифологии четыре духа, братья-повелители стихий и времени. Их звали Мо Лицзин («чистый»), Мо Лихун («суша»), Гуанму Мо Лигай («море») и Мо Лишу («время»). Самым старшим из братьев считается Мо Лицзин семи метров ростом. Его отличительный признак – ярко-рыжая борода и массивный перстень из жадеита. Взмахнув мечом, он поднимает черный вихрь из сотен тысяч копий, пронизывающих тела людей и обращающих их в прах. За ветром следуют десять тысяч огненных змей, сжигающих все на своем пути. Одновременно из земли поднимается густой дым, ослепляющий людей, и никто не может от него спастись. Мо Лихун в руках держит зонт, успыанный множеством жемчужин. Если его открыть, то небо и землю накроет тьма. Повернув его вниз, можно вызывать сильный ветер и сотрясение земли во всем мире. Мо Лигая изображают с четырехструнной гитарой в руках. Звуки, которые она издает, способны воздействовать на землю, воду, огонь или ветер. Своей игрой Мо Лигай завораживает всех. У Мо Лихуна два кнута и сумка из шкуры пантеры, где сидит белая крыса Хуа Худяо, выполняющая все его приказы. Оказавшись на свободе, это существо превращается в белого крылатого слона, пожирающего людей. Иногда она превращается в змею или другое плотоядное существо. Однажды сторонники дома Шан попросили четырех духов Мо прийти к ним на помощь и выступить в войне с Цзян Цзы-я на их стороне. Братья согласились и собрали армию из ста тысяч небесных воинов и, миновав огромное расстояние, через города, поля и горы меньше чем через день подошли к северным воротам Сичжи, где Мо Лицзин разбил свой лагерь и обосновался вместе со своими солдатами. Хуан Фэйху поспешил предупредить Цзян Цзы-я об угрожавшей ему опасности. Противники знали, что духи Мо сильны в магии, и победить их будет не так-то просто. Тогда Цзян Цзы-я решил хитростью заставить противника сдаться. Сначала богатырь Ян Цзян напал на крысу Хуа Худяо, но зверь проглотил его. Оказавшись в животе у крысы, богатырь рассек ее сердце на две части. Выбравшись наружу, Ян Цзян принял облик Хуа Худяо, а ничего не подозревающий Мо Лихун поместил зверя обратно в свою сумку. Ночью Ян Цзян вышел из сумки, чтобы захватить три волшебных предмета, принадлежавшие братьям, но смог унести только зонтик Мо Лихуна. Во время последующего сражения Ночжа, сын бога грома, разбил жадеитовое кольцо Мо Лицзина. Оставшись без своих волшебных предметов, братья оказались практически беззащитными. Тогда Хуан Тянхуа обрушился на Мо Лицзина со своим волшебным оружием. Это был шип длиной 20 сантиметров в шелковом чехле. Он назывался «пробивающий сердце» и испускал такой сильный луч света, что можно было ослепнуть. Хуан Тянхуа вытащил таинственный шип из чехла и бросил его в противника. Шип вонзился в шею великана, и тот упал замертво. Мо Лихун и Мо Лигай поспешили, чтобы отомстить за своего брата, но грозный шип, брошенный еще прежде Хуаном Тянхуа, поразил их прямо в сердце, и братья распростерлись у его ног. Мо Лишу, последний из братьев оставшийся в живых, решил воспользоваться Хуа Худяо. Но он не знал о подмене, поэтому, когда Мо Лишу опустил руку в сумку, чтобы достать зверя, Ян Цзян, притворившийся Хуа Худяо, откусил ему кисть руки. Истекающий кровью и мучимый нестерпимой болью Мо Лишу стал легкой добычей для Хуан Тянхуа. Волшебный шип пронзил и его сердце. Так погибли все Алмазные владыки неба.
А-нюй – в китайской мифологии мать правителя Чжуань-сюя. А-нюй была дочерью или внучкой императора Хуань-ди. По преданию, она зачала Чжуань-сюя, когда луч звезды, подобный радуге, пронзил луну и взволновал ее, в то время как она сидела в уединенных покоях. Так на свет появился Чжуань-сюй.
Ао – в китайской мифологии черепаха, несущая по морю три священные горы: Инчжоу, Пэнлай и Фанчжан, – на которых живут бессмертные. Ао служит символом мудрости и учености.
Ао Бин – в китайской мифологии герой, третий сын Ао Гуана, царя драконов. Его представляли в образе воина, держащего в руках копье и восседающего на морском чудовище.
Б
Ба – в китайской мифологии дух засухи, обитающий на юге, дочь Хуан-ди. Он приносит людям засуху, голод и смерть. Ба изображали в виде женщины, летающей по воздуху. Во время войны Хуан-ди с мятежником Чи-Ю Ба помогла отцу, остановив страшный дождь, напущенный Чи-Ю.
Ба Гуа («восемь триграмм») – восемь сочетаний горизонтальных цельных (символизирующих начало ян) и прерывистых (символизирующих начало инь) линий. В каждом из восьми сочетаний присутствуют три линии, что и дало название «триграммы». По легенде, эти триграммы придумал и ввел в употребление первопредок Фуси, который нарисовал первые триграммы, «вслушиваясь в свист ветров восьми направлений». Позднее триграммы легли в основу системы гадания. Здесь они были усовершенствованны до гексаграмм (комбинаций шести линий), которых насчитывалось 64. Комментатор знаменитой «Книги перемен» Чэн Ичуань так объяснял эту трансформацию: «Когда в глубокой древности совершенномудрые люди начертали впервые восемь триграмм, то в них уже были выражены три мировые силы: Небо – Земля – Человек. Начав с них, они удвоили эти триграммы, чтобы в них полностью выразить то, что проходит как изменчивость во всем мире». Считалось также, что создание «Книги перемен» принадлежит Фуси. А Конфуций, по преданию, даже опирался на нее в своих поучениях. Однако он воспринимал ее как философский трактат, а не как гадательный свод. Кроме того, один из виднейших последователей Конфуция Сюньцзы утверждал, что люди, гадающие по «Книге перемен», не понимают ее истинного назначения. Тем не менее гадания по триграммам и гексаграммам с использованием «Книги перемен» были очень популярны в китайском обществе, а в наши дни пользуются широкой популярностью и в остальном мире.
Басян («восемь бессмертных») – в китайской даосской мифологии легендарные герои, достигшие бессмертия, следуя правилам дао («пути»). Они представляют все стороны человеческой жизни, включая молодость и старость, мужское и женское, богатство и нищету. Их истории служат доказательством того, что бессмертия может достичь каждый, кто следует по правильному пути.

Басян – «восемь бессмертных»
Ба-чжа – в китайской мифологии божество, истребляющее саранчу. Ба-чжа изображался с птичьими лапами вместо ноги с мечом в руке, по пояс его тело было обнажено, ниже пояса – одето в юбку, напоминающую колокол. В правой руке Ба-чжа держал тыкву. По преданию, именно в тыкву бог заманивал саранчу и там уничтожал зловредных насекомых. А в левой руке он держит меч или знамя с надписью: «Собираю саранчу и гублю ее». После ежегодного сбора урожая устраивались благодарственные церемонии в честь Ба-чжа.
Байцзэ – в древнекитайской мифологии мудрый, всезнающий и говорящий зверь. Его изображали в виде белого рогатого льва. Согласно древним мифам, Хуан-ди («желтый государь»), отправившись на охоту, встретил Байцзэ у берега моря. Байцзэ поведал ему о бесах и духах, встречающихся в Поднебесной, которых насчитывалось 11 520 видов. Хуан-ди приказал нарисовать их, чтобы люди знали, как они выглядят.
Бай-ди («белый правитель», «белый император») – в древнекитайской мифологии один из четырех правителей разных сторон света. «Белый правитель», «белый император» – бог планеты Тай-бай Цзинь-Синь (Венеры), правитель Запада. Он ассоциировался с первоэлементом металлом, белым цветом, осенью. Согласно средневековым представлениям, Бай-ди как бог планеты Венеры спускается на землю в пятнадцатый день каждой луны. Бай-ди изображали как женщину с лютней в руке, с изображением курицы в ее прическе (эмблема Венеры).
Бай-ху («белый тигр») – в древнекитайской мифологии один из духов четырех сторон света. Покровитель Запада и дух страны мертвых, враг всякой нечисти. Появление Бай-ху устрашало всех злых духов и одновременно рассматривалось как символ развития мирных наук. Изображения Бай-ху можно встретить на стенах погребальных сооружений, на знаменах, которые во время военных походов несли позади войска.
Бай-хуа («белый цветок») в древнекитайской мифологии женщина-военачальник. Бай-хуа была дочерью одного из китайских полководцев. Все детство она провела с мальчишками, играя в воинов. А когда выросла, то отказалась выходить замуж. Тогда отец отправил Бай-хуа, переодетую в мужское платье, на военную службу. Во время войны Бай-хуа проявила необычайную отвагу и доблесть, за это император назначил ее руководить всеми своими войсками. Бай-хуа уже не нужно было скрывать свой пол, она была жестким руководителем, сама следила за обучением и готовностью своих войск. Войска под командованием Бай-хуа были непобедимы и наводили ужас на своих противников.
Бай-хуа построила великолепный храм богу войны Гуаньди. После смерти ее душа обрела там покой. Когда в стране началось сильное восстание, армия призрачных воинов во главе с Бай-хуа наказала мятежников, посягнувших на храм Гуаньди, где народ приносил жертвы богу войны и духу Бай-хуа.
Бао-гун – в древнекитайской мифологии справедливый и неподкупный судья, почитаемый как один из судей загробного мира. Прообразом этого персонажа стал реальный сановник Бао Чжэн, живший в первой половине XI века и прославившийся своей неподкупностью и умением расследовать запутанные преступления. Он наказывал всех, невзирая на титулы и родство с императором. Первые легенды повествуют о чудесном расследовании преступлений о мышах-оборотнях. Некий студент по дороге в столицу встретил пять мышей-оборотней и рассказал им о своих домашних. Тогда пятая мышь приняла облик студента и явилась к его жене. Вернувшись, студент увидел двойника и подал жалобу, которая дошла до первого министра. Но облик первого министра приняла четвертая мышь, и дело еще более запуталось. Об этом узнали при дворе, но оказалось, что во дворце находятся два государя и две государыни. Двойник оказался и у Бао-гуна, призванного на помощь принцем-наследником. Настоящий Бао-гун в чудесном сне явился к Юй-ди и доложил обо всем. Юй-ди послал на землю Нефритового кота, и тот изловил мышей. В более поздних преданиях изображается сошествие Бао в подземное царство для расследования преступлений, совершенных на земле. Здесь Бао находит исправления в Книге судеб, за взятку сделанные одним из судей загробного мира, и добивается наказания виновного.
Бао-гун изображался с черным лицом, поскольку в Китае черный цвет считался символом неподкупности.
Беюй – в древнекитайской мифологии чудовищная рыба, которую называли рыбой-черепахой или однорогой рыбой-драконом. Спину и живот беюя покрывали острые шипы. Она жила в море, но могла выходить на сушу. Как только рыба появлялась на поверхности, начинал дуть ветер и поднимались волны. Иногда беюя называли лин-юй, или холм-рыба, и говорили, что у него тело рыбы, а голова, руки и ноги – человеческие.
Би-гань – в китайской мифологии гражданский бог богатства (один из цай-шэней). Его изображали в виде благородного мужа, сидящего на троне. Би-гань был легендарным героем древности, пытался остановить жестокости Чжоу Синя (правителя династии Инь). Чжоу Синь в ответ на увещевания казнил Би-ганя. В конфуцианстве Би-гань считался образцом стойкости и преданности делу. Лишь значительно позднее, в раннее средневековье, Би-гань стал считаться богом богатства. Би-гань иногда изображался в паре с Гуаньди, который тоже прославился своей верностью, но только на военном поприще.
Бииняо («птицы, соединившие крылья») – в китайской мифологии птицы-неразлучницы, символ супружества. Их представляли в виде диких уток с одним крылом и одним глазом у каждой, которые могут летать лишь парами. А поодиночке они были способны только ковылять по земле на одной лапе мелкими шажками. Одна из уток изображалась зеленой, другая красной. Считалось, что бииняо обитали на юге.

Бииняо
Бинфэн – в древнекитайской мифологии чудовище в облике двухголового кабана, покрытого черной щетиной. Одна из голов этого чудища находится сзади, а другая – спереди.
Бися Юаньцзюнь («госпожа лазоревых облаков») – в древнекитайской мифологии богиня деторождения и покровительница детей, а также лис, живущая на горе Тайшань, поэтому в китайском фольклоре она в основном носит имя «матушки горы Тайшань» (Тайшань нян-нян). По наиболее распространенной версии, Бися Юаньцзюнь – дочь повелителя горы Тайшань. Ее появление обычно сопровождается ураганным ветром и ливнем, как символом слияния неба и земли, которое дает жизнь всему на земле. С этим, видимо, связано уже и ее почитание как чадоподательницы. Ее также считают седьмой дочерью Хуан-ди, феей гор, обожествленной реальной девушкой.
По одной из древнейших легенд, князь Вэнь-ван (XI век до н. э.) во сне увидел плачущую богиню Тай-шаня, которая сказала, что она выдана замуж за владыку Западного моря. И сейчас она не может вернуться на Восток, так как путь ее лежит через Гуаньтань, правителем которой назначен кудесник Цзян-тайгун, но она не осмеливается пронестись там с бурей и дождем. На другой день Вэнь-ван отозвал Цзян-тайгуна. Тотчас полил ливень. Это богиня промчалась на родину.
Бися Юаньцзюнь изображалась в головном уборе в виде трех птиц с распростертыми крыльями, сидящей на красном троне. По бокам от нее стоят две помощницы: Янгуан няннян («государыня божественного зрения») с огромным глазом в руках, которая охраняет младенцев от глазных болезней, и Сунцзы няннян («государыня, приносящая детей») с новорожденным в руках.
В ее окружении еще шесть богинь-покровительниц различных периодов детства: от богини зачатия до богини, уберегающей от оспы (Доу-шэнь).
Бифан – в китайской мифологии чудесная птица. Она напоминала журавля, но при этом была зеленая, с красными полосами, белым клювом и одной ногой. Ее появление обычно сопровождалось вспышкой удивительного пламени.

Бифан
Бодхисаттва – в буддийской философии и мифологии человек или иное существо, принявшее решение стать буддой. Буддизм Махаяны провозгласил доступность пути бодхисаттвы для всех и каждого. Согласно буддийским сутрам, продолжительность этого пути составляет приблизительно три «неисчислимых» кальпы (единица измерения времени, «день Брахмы»), каждая из которых длится миллионы лет. По истечении третьей кальпы бодхисаттва, многократно перерождавшийся, достигает наивысшего, десятого уровня в своем развитии, и ему остается лишь полностью отрешиться от мира, чтобы стать буддой. В китайской традиции наиболее популярные бодхисаттвы – Гуаньинь и Дицзан-ван.
Будай-Хэшан («монах с мешком») в древнекитайской мифологии бог радости и благополучия, довольства. Отождествляется с деятелем китайского буддизма Ци-цы (умер в 917 году), который якобы был земным перевоплощением Майтреи. Будай-Хэшан изображался в виде жизнерадостного толстого человека с обнаженным животом. Также распространены изображения сидящего Будай-хэшана с четками в правой руке, лежащей на колене.
Будда – в буддизме человек, достигший наивысшего предела духовного развития. Согласно учению Махаяны, во множестве миров находится неисчислимое множество будд, и каждый из них создает собственный мир – буддакшетру (или буддхакшетру). Разрушение мира в конце кальпы будд не затрагивает, они продолжают существовать. В Китае наибольшей популярностью пользуются такие будды, как Амитабха (Амитофо) и Майтрейя (Милэ). Будда Шакьямуни, он же просто Будда, официально признается основоположником буддизма, однако его культ не столь популярен, как культ Амитабхи, например.
Бучжошуань («неполная, ущербная гора») – в китайской мифологии гора, когда-то поддерживающая небо. Во время ее разрушения начался великий потоп. Считалось, что она находится к северо-западу от гор Куньлунь. Однажды в гневе дух вод Гун-гун ударился о нее головой, Бучжошуань сломалась. Одна из сторон земли (юго-восточная) обрушилась, а небосвод наклонился на северо-запад, и в нем тоже появились провалы. Горы и леса охватил огромный пожар. Воды, хлынувшие из-под земли, затопили сушу, и земля превратилась в сплошной океан, волны которого достигали неба. На Бучжошуань растут чудесные плоды, похожие на персики. Тот, кто их отведает, не будет знать усталости.
Бэйдоу («Северный Ковш») – в китайской мифологии дух созвездия Большой Медведицы. Считался распорядителем судеб, противостоял злым силам.
Бян – Хэ в китайской мифологии божество – хранитель драгоценных камней, покровитель ювелиров. Считается, что его образ восходит к реальному чиновнику времен династии Чжоу (VIII век до н. э.). По преданию (трактат «Хань Фэй-цзы», III век до н. э.), Бян Хэ преподнес императору Ли-вану драгоценный нефрит, но необработанный камень выглядел настолько неприглядно, что император обвинил чиновника в мошенничестве и приказал отрубить ему ногу. У-ван, наследник Ли-вана, также не распознал ценность камня и лишил Бян Хэ второй ноги. И лишь император Вэнь-ван принял дар. Император приказал отшлифовать камень – получился превосходный диск драгоценного нефрита (символ неба), который назвали Хэби – «диск Хэ».
Бян Цяо – в древнекитайской мифологии один из богов-покровителей врачевания. В основе этого образа – сочетание двух различных персонажей. С одной стороны, мифический Бян с птичьим клювом и крыльями летучей мыши – сподвижник Хуан-ди, помогавший ему в распознании целебных свойств растений. С другой – реальный знаменитый врачеватель, живший в VI веке до н. э. Цинь Юэ-жэнь. Согласно легенде, Бян перенял свое искусство от бессмертного Чансан-цзюня, который давал ему чудесные капли. Через 30 дней Бян смог видеть сквозь стены и проникать взором во внутренности человека. В 521 году до н. э. Бян Цао, согласно преданию, оживил принца царства Го, после чего слава о его искусстве распространилась по всему Китаю. Впоследствии Бян Цао был обожествлен в качестве покровителя медиков и аптекарей. На древних рельефах он изображен в виде человекоптицы, делающей укол больному.