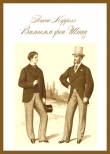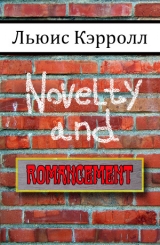
Текст книги "Novelty and Romancement"
Автор книги: Льюис Кэрролл
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Таким человеком был мой дядя; вооруженный его знаниями, я решился лицом к лицу встретиться с подозрительным механиком. На следующее утро я назначил беседу с ним и личный осмотр «товара» (мне так и не удалось заставить себя произнести любимое слово). Я провел беспокойную и лихорадочную ночь, омраченную предчувствием надвигающегося кризиса.
Наконец час настал – час горя и отчаяния. Он всегда наступает, и его нельзя откладывать до бесконечности, о чем свидетельствует мой горький опыт детских визитов к зубному врачу. Ожидание не длится вечно; роковая дверь угрожающе распахивается перед нами, и сердце, которое последние полчаса опускалось все ниже и ниже, пока мы не начинали сомневаться в его существовании, внезапно устремляется в еще неведомую бездну. Итак, повторяю: час настал.
Когда я стоял перед убогой дверью лавки с сильно бьющимся сердцем, полным предвкушения и несбыточных ожиданий, мой взгляд случайно еще раз упал на вывеску со странной надписью. О роковая перемена! О ужас! Что я вижу? Не пал ли я жертвой разгоряченного воображения? Между Roman и Cement зияет чудовищная брешь, превращающая их в два слова вместо одного!
Моя мечта была разбита.
На углу улицы я обернулся, чтобы бросить печальный любящий взгляд на призрак надежды, еще недавно столь дорогой моему сердцу. «Прощай!» – прошептал я, опираясь на трость и утирая непрошеную слезу. На следующий день я вступил в коммерческие отношения с фирмой «Дампи и Спэгг», оптовыми поставщиками вина и крепких напитков.
Вывеска до сих пор скрипит над заплесневелой стеной, но этот звук уже никогда не прозвучит музыкой в моих ушах – ах! – никогда больше!
Перевод Андрея Боченкова
ИСКУССТВО И КРАСОТА
Сначала я испытывал серьезные сомнения, назвать этот отрывок из моей жизни «Стон» или же «Хвалебная песнь» – так много в нем содержится великого и славного и так много мрачного и угрюмого. Пытаясь найти нечто среднее, я, в конце концов, остановился на указанном выше названии – ошибочно, разумеется; я всегда ошибаюсь: но позвольте мне сохранить спокойствие и изложить все по порядку. Настоящий оратор отличается тем, что вначале никогда не поддается взрыву страсти; самые мягкие из общих мест – это все, что он осмеливается позволить себе в начале своей речи, а уж затем экспрессивность его слов постепенно нарастает: «vires acquirit eundo» 15 [15]. Таким образом, прежде всего достаточно сказать, что меня зовут Леопольд Эдгар Стаббс. Я четко заявляю об этом факте с самого начала, с тем чтобы исключить любую возможность того, что читатель спутает меня с известным обувщиком, носящим эту фамилию и проживающим на Поттл-стрит в Камбервелле, или с моим менее почтенным, но гораздо более известным однофамильцем Стаббсом, комиком из Провинций 16 [16], связь с каковыми я отвергаю с ужасом и презрением; однако не желая при этом оскорбить кого-либо из упомянутых личностей – людей, с которыми я никогда не встречался и надеюсь не встретиться.
Вот и все, что касается общих мест.
Скажи мне теперь, о человече! умудренный в интерпретации снов и знамений, как могло случиться, что как-то в пятницу днем, неожиданно поворачивая из-за угла Большой Уэттлс-стрит, я вдруг нечаянно столкнулся с робким индивидуумом, обладавшим непривлекательной наружностью, но взглядом, в котором пылал весь огонь гения? При этом накануне ночью мне был сон, что вскоре суждено сбыться великой идее моей жизни. Какова была великая идея моей жизни? Я вам расскажу. Поведаю со стыдом, а может быть, с печалью.
Моим стремлением и страстью с детских лет (преобладавшими над любовью к игре в шарики и идущими голова в голову с моей слабостью к ирискам) была поэзия – поэзия в ее самом широком и самом буйном смысле, – поэзия, свободная от ограничений законов здравого смысла, рифмы или ритма, парящая сквозь вселенную и эхом отражающая музыку сфер! С юных лет, нет, с самой колыбели я жаждал Искусства: поэзии, красоты, романтики. Когда я говорю «жаждал», я использую слово, мягко выражающее то, что можно считать общим описанием моих чувств в более спокойные моменты: оно столь же способно описать безудержную стремительность моего энтузиазма, сохраненного на протяжении всей жизни, как те опровергающие законы анатомии картины, которые украшают вход в «Аделфи» 17 [17] и представляют гимнаста Флексмора в одной из множества мыслимых поз, о которых дотоле даже не подозревало человеческое тело, передают любопытному посетителю театра истинное представление о подвигах, совершаемых этим необычайным сочетанием человеческой плоти и каучука.
Я отклонился от темы: это замечательная особенность, если мне позволено будет так выразиться, присущая жизни. Однажды, присутствуя на званом обеде (подробности которого за недостатком времени я опущу), я задал риторический вопрос: «В конце концов, что же такое жизнь?» И оказалось, что никто из присутствующих индивидуумов (всего нас было девять человек, включая официанта, и вышеупомянутое наблюдение было сделано, когда уносили суп) не смог предоставить мне рациональный ответ на этот вопрос.
Стихи, которые я писал в ранний период жизни, замечательно выделялись тем, что были полностью свободны от всяких условностей и, таким образом, совершенно не соответствовали современным требованиям литературы: в будущем веке их будут читать и ими будут восхищаться, «когда Мильтон», – как частенько восклицает мой достопочтенный дядюшка, – когда Мильтон и подобные ему будут забыты!» Если бы не этот сочувствующий мне родственник, то, по моему твердому убеждению, поэтические произведения моего толка никогда бы не увидели свет; я все еще помню те волнующие чувства, которые я испытал, когда дядя обещал мне шесть пенсов, если я подберу рифму к слову «деспотизм». Да, верно, что мне так и не удалось найти такую рифму, зато в следующую же среду я написал свой известный «Сонет о мертвом котенке» и в течение двух недель начал три эпические поэмы, названия которых я теперь, к сожалению, уже не помню.
Семь томов поэтических произведений я подарил неблагодарному миру в течение своей жизни; все они разделили судьбу истинного гения – безвестность и презрение. При этом нельзя сказать, чтобы в их содержании можно было найти какие-то недостатки; какими бы ни были допущенные в них промахи, ни один критик до сих пор еще не осмелился их критиковать. И этот факт знаменателен.
Единственным моим сочинением, которое до сих пор произвело хоть какое-то волнение в обществе, был сонет, который я посвятил одному человеку из муниципалитета Магглтон-и-Суиллсайд по случаю избрания его мэром этого города. По большей части сонет был в ходу среди частных лиц, и о нем в ту пору много говорили; и, хотя его герой, проявляя характерную вульгарность ума, не оценил содержащихся в нем тонких комплиментов и, вообще, отзывался о нем скорее неуважительно, чем наоборот, я склонен думать, что этот образчик поэзии обладает всеми элементами великого произведения. По совету приятеля к нему был добавлен завершающий куплет, поскольку, как он заверил меня, необходимо придать ему смысловую законченность, и в этом отношении я положился на его более зрелое мнение:
Когда б Опустошения зловещее крыло
Накрыло каждый град имперский и село;
Когда бы свет, пустой иллюзией рожденный,
Смог осветить лишь камень черный и зловонный;
Когда б монарший род ушел в небытие,
Поспешно растворившись в страшной тьме;
Когда б убийцы подбиралися к границам,
Мечом своим сверкая ненасытным, —
В такой бы час твое величье проявилось, —
Конечно, если бы такое вдруг случилось,
В такой бы час хвалу тебе воспели,
Если не я, то подостойней менестрели;
Все взоры на тебя направят люди наши,
Когда такой настанет час, но уж никак не раньше!
Альфред Теннисон – поэт-лауреат, и не мне оспаривать его претензию на это высокое положение; и все же я не могу избавиться от мысли, что, если бы Правительство в свое время сказало свое веское слово и ввело принцип равного состязания, открыв доступ для всеобщего участия и предложив какую-нибудь тему для проверки способностей кандидата (например «Фремптонова Пилюля здоровья, Акростих»), возможно, тогда мы имели бы совсем другой результат.
Но давайте вернемся к нашим баранам (как исключительно неромантично выражаются наши благородные союзники-французы) и к приказчику с Большой Уэттлс-стрит. Он выходил из маленького магазинчика – грубо сколоченной, чрезвычайно обветшалой и вообще убогой на вид лавчонки; спрашивается, что я увидел во всем этом такого, что внушило мне надежду на наступление в моей жизни великой эпохи? Читатель, я увидел вывеску!
Да. На этой ржавой вывеске, неуклюже поскрипывавшей на единственной петле и скрежетавшей об облупленную стену, была надпись, от одного взгляда на которую меня охватило непривычное возбуждение. «Сайлюн Любкин. Изготовление и продажа искусств». Вот эти самые слова.
Была пятница, четвертое июня, половина четвертого вечера.
Я трижды прочитал эту надпись, после чего вынул из кармана записную книжку, и сразу же переписал; при этом приказчик наблюдал за мной в течение всего этого процесса взглядом, полным серьезного и (как мне тогда показалось) уважительного изумления.
Я остановил этого приказчика и завязал с ним разговор; годы агонии, прошедшие с той поры, постепенно выжгли эту сцену клеймом в моем терзаемом сердце, и я могу повторить все, что произошло, слово в слово.
Обладает ли приказчик (это был мой первый вопрос) родственной душой или не обладает?
Приказчик затруднялся ответить на этот вопрос.
Известно ли ему было (произнесено с придыханием и нажимом) значение этой замечательной надписи на вывеске?
Слава Богу, приказчик о ней знал все.
Не будет ли приказчик (пренебрегая неожиданностью приглашения) возражать против того, чтобы перейти в ближайшую пивную и там обсудить вопрос в более располагающей обстановке?
Приказчик не возражал бы промочить горло. Совсем даже наоборот.
(Перенос заседания, соответственно: бренди с водой на двоих: беседа продолжилась.)
Хорошо ли продается товар, в частности среди простого люда?
Приказчик бросил на меня взгляд, полный снисходительной жалости; товар продается хорошо среди всякого люда, сообщил он, и в том числе среди самого что ни на есть простого.
Почему бы не упомянуть в надписи еще и слово «красота»? (Это был критический момент: я дрожал, задавая свой вопрос.)
Совсем недурная мысль, посчитал приказчик: в свое время можно было бы и написать, мы ведь и правда красивые вещи делаем. Но время, знаете ли, летит.
Был ли приказчик одинок в величии своего дела или еще кто-нибудь торгует товаром в таких же масштабах?
Приказчик мог побожиться, что таких не было.
Для чего используются ваши товары? (Я задал этот вопрос задыхаясь, из-за возбуждения едва смог вытолкнуть из сжавшегося горла эту фразу.)
Люди дарят их друг другу, полагал приказчик, чтобы они не портились и сохранялись подольше.
Эту фразу было трудно истолковать. Я немного подумал над ней, а потом сказал с сомнением: «Я полагаю, вы имеете в виду, что они нужны для того, чтобы их красота вечно оставалась в душе? Вы облекаете в некую жизненную реальность химерические продукты плодотворного воображения, дабы люди всегда могли получать наслаждение от прекрасного?»
Ответ приказчика был краток и невразумителен: «Ну, наверно... мы люди неученые».
На этой стадии беседа явно начала иссякать; я серьезно обдумывал в уме, может ли это действительно быть исполнением мечты всей моей жизни: настолько плохо эта сцена сочеталась с моими представлениями о прекрасном и настолько болезненно я ощущал отсутствие в моем спутнике сочувствия к энтузиазму моей натуры – энтузиазму, до сих пор находившему выход в действиях, которые бездумная толпа слишком часто приписывала простой эксцентричности.
Я вставал с жаворонками – «милыми вестниками дня» (один раз точно, если не больше) – с помощью патентованного будильника и выходил в этот неподобающий час, к большому изумлению горничной, выметающей ступеньки перед входом, чтобы «смахнуть поспешными шагами росу с травинок на лужайке», и лично наблюдал золотистый рассвет собственными глазами, пусть и прикрытыми в полудреме. (Я всегда заявлял своим друзьям, при любом упоминании этого события, что мой восторг в тот момент был таков, что я с тех пор не рискнул вторично подвергнуть себя воздействию столь опасного возбуждения. Однако если говорить по секрету, то признаю, что реальность не дотянула до того представления о восходе солнца, которое сформировалось в моем мозгу за ночь и ни в коей мере не возместило битву с самим собой, которую мне пришлось перенести, чтобы так рано подняться с постели.)
Я бродил по ночам в мрачных лесах и склонялся над покрытым мхом ключом, омывая в его кристальной струе свои спутанные локоны и пылающий лоб. (Что из того, что в результате я слег со страшной простудой и что мои волосы распрямились и мне целую неделю не удавалось придать им должную волнистость? Разве ничтожные соображения, подобные этим, спрашиваю я, умаляют поэтику данного инцидента?)
Я распахивал настежь двери моего маленького, но аккуратно обставленного жилища неподалеку от Сент-Джонс-Вуд и приглашал престарелого нищего «посидеть у моего очага и проговорить всю ночь напролет». (Это случилось сразу же после прочтения «Покинутой деревни» Гольдсмита. Правда, старикан не рассказал мне ничего интересного и, покидая утром мой коттедж, прихватил с собой настенные часы; тем не менее, дядюшка постоянно повторяет, как ему жаль, что его там не было, и что сей инцидент показывает присутствие во мне такой свежести и неискушенности воображения (или «характера», я точно забыл, чего именно), каковых он во мне никогда не подозревал.)
Я чувствую, что обязан более полно углубиться в последнюю тему – историю моего дяди: однажды мир дойдет до того, чтобы преклоняться перед талантами этого замечательного человека, хотя недостаток средств не позволяет в настоящий момент опубликовать великую систему философии, изобретателем которой он является. Пока же из массы бесценных манускриптов, кои он завещал неблагодарной нации, я рискну выбрать один поразительный образчик. И когда настанет день и моя поэзия будет оценена всем миром (каким бы далеким ни казался этот день сейчас!), тогда, я уверен, его гений также обретет свою заслуженную славу!
Среди бумаг этого уважаемого родственника я нахожу то, что выглядит как лист, вырванный из какого-то современного философского труда: подчеркнут следующий отрывок. «Это ваша роза? Она моя. Она твоя. Это ваши дома? Они мои. Дайте мне хлеб(ов). Она дала ему по уху». Рядом с этим местом заметка на полях, сделанная почерком моего дяди: «Некоторые называют это несвязной речью: я имею на сей счет собственное мнение». Последняя фраза была его излюбленным выражением, скрывающим глубину этической проницательности, о которой было бы тщетно рассуждать; в самом деле, настолько непритязательно прост был язык этого великого человека, что никому, кроме меня, никогда не приходило в голову, что он обладает чем-то большим, нежели обычная толика человеческого интеллекта.
Могу ли я, однако, изложить то, как, по моему мнению, дядя интерпретировал этот замечательный отрывок? Похоже, что автор намеревался провести различия между сферами Поэзии, Недвижимостью и Личным имуществом. Вначале исследователь касается цветов, и с какой вспышкой искреннего чувства обрушивается на него ответ! «Она моя. Она твоя». Это прекрасно, верно, хорошо; эти фразы не связаны мелкими соображениями «meum» и «tuum»; они представляют общую собственность всех людей. (Именно с подобной мыслью я начертал когда-то прославленный билль, озаглавленный «Закон об освобождении Фазанов от действия законодательства об охране диких зверей и птиц на основании их Красоты» – билль, который, несомненно, триумфально прошел бы в обеих палатах, если бы члена парламента, который взял на себя заботу о нем, к несчастью, не посадили в приют для умалишенных, прежде чем сей документ приняли ко второму чтению.) Ободренный успехом своего первого вопроса, наш исследователь переходит к «домам». (Недвижимое имущество, как вы убедитесь сами); здесь он сталкивается с суровым, леденящим ответом. «Они мои» – полное отсутствие тех либеральных чувств, которыми продиктован предыдущий ответ, но вместо этого – полное достоинства притязание на права собственности.
Если бы это был подлинный сократовский диалог, а не просто его современная имитация, исследователь, вероятно, перебил бы в этом месте собеседника фразами: «Мне, лично, думается», или «Я, со своей стороны», или «А как же еще?», или каким-либо другим из тех своеобразных выражений, с помощью которых Платон заставляет своих персонажей сразу продемонстрировать их слепое согласие с мнениями учителя и их чрезвычайную неспособность выражаться грамматически правильно. Но автор использует другое направление мысли; отважный исследователь, не обескураженный холодностью последнего ответа, переходит от вопросов к требованиям: «дайте мне хлеб(ов)»; и здесь беседа неожиданно обрывается, однако мораль всего отрывка в целом сконцентрирована в фразе «она дала ему по уху». Это не философия одного индивидуума или нации, это чувство, если можно так сказать, общеевропейское; и моя теория подтверждается тем фактом, что текст явно напечатан тремя параллельными колонками, на английском, французском и немецком.
Таким человеком был мой дядя; и с таким человеком я решил свести лицом к лицу подозрительного приказчика. Я договорился о встрече на следующее утро, сказав, что хочу лично осмотреть «товары» (я не мог заставить себя произнести само возлюбленное слово). Я провел беспокойную и даже тревожную ночь, раздавленный ощущением приближающегося переломного момента.
И наконец час настал – час страдания и отчаяния; он всегда наступает, его нельзя откладывать без конца; даже при визите к дантисту, как можно убедиться на моем собственном детском опыте, мы не можем добираться к врачу бесконечно; роковая дверь неотвратимо надвигается на нас, и наше сердце, которое за последние полчаса постепенно опускается все ниже и ниже, пока мы не начинаем почти что сомневаться в его существовании, неожиданно исчезает, падая в глубины, доселе и во сне не снившиеся. Итак, повторяю, наконец час настал.
Когда я стоял перед дверью этого низменного приказчика с трепещущим и полным ожидания сердцем, мой взгляд случайно упал еще раз на эту вывеску, и я еще раз изучил странную надпись. О! Роковая перемена! О, ужас! Что я вижу? Неужели я стал жертвой разгоряченного воображения? Как мог я не заметить последнего слова на вывеске!
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДАЖА
ИСКУССТВ.
ЦВЕТОВ»!
И тут сон развеялся.
На углу улицы я обернулся, чтобы бросить печальный нежный взгляд на фантом призрачной надежды, которая когда-то была так дорога моему сердцу. «Прощай!» – прошептал я; это было все мое последнее «прости», и, опершись на трость, я смахнул слезу. На следующий день я вошел в коммерческие отношения с фирмой Дампи и Спагг, оптовыми торговцами вином и спиртными напитками.
Вывеска все еще скрипит, ударяясь об облупленную стену, но ее звук больше никогда не зазвучит музыкой в этих ушах – ах! никогда.
ОРИГИНАЛ
Lewis Carroll
NOVELTY AND ROMANCEMENT
I had grave doubts at first whether to call this passage of my life «A Wail», or «A Paean», so much does it contain that is great and glorious, so much that is sombre and stern. Seeking for something which should be a sort of medium between the two, I decided, at last, on the above heading – wrongly, of course; I am always wrong: but let me be calm. It is a characteristic of the true orator never to yield to a burst of passion at the outset; the mildest of commonplaces are all he dare indulge in at first, and thence he mounts gradually; – «vires acquirit eundo.» Suffice it, then, to say, in the first place, that / am Leopold Edgar Stubbs. I state this fact distinctly in commencing, to prevent all chance of the reader's confounding me either with the eminent shoemaker of that name, of Pottle-street, Camberwell, or with my less reputable, but more widely known, namesake, Stubbs, the light comedian, of the Provinces; both which connections I repel with horror and disdain: no offence, however, being intended to either of the individuals named – men whom I have never seen, whom I hope I never shall. So much for commonplaces.
Tell me now, oh! man, wise in interpretation of dreams and omens, how it chanced that, on a Friday afternoon, turning suddenly out of Great Wattles-street, I should come into sudden and disagreeable collision with an humble individual of unprepossessing exterior, but with an eye that glowed with all the fire of genius? I had dreamed at night that the great idea of my life was to be fulfilled. What was the great idea of my life? I will tell you. With shame or sorrow I will tell you.
My thirst and passion from boyhood (predominating over the love of taws and running neck and neck with my appetite for toffee) has been for poetry – for poetry in its widest and wildest sense – for poetry untrammeled by the laws of sense, rhyme, or rhythm, soaring through the universe, and echoing the music of the spheres! From my youth, nay, from my very cradle, I have yearned for poetry, for beauty, for novelty, for romancement. When I say "yearned", I employ a word mildly expressive of what may be considered as an outline of my feelings in my calmer moments: it is about as capable of picturing the headlong impetuosity of my life-long enthusiasm as those unanatomical paintings which adorn the outside of the Adelphi, representing Flexmore in one of the many conceivable attitudes into which the human frame has never yet been reduced, are of conveying to the speculative pitgoer a true idea of the feats performed by that extraordinary compound of humanity and Indian-rubber.
I have wandered from the point: that is a peculiarity, if I may be permitted to say so, incidental to life; and, as I remarked on an occasion which time will not suffer me more fully to specify, "What, after all, is life?" nor did I find any one of the individuals present (we were a party of nine, including the waiter, and it was while the soup was being removed that the above-recorded observation was made) capable of furnishing me with a rational answer to the question.
The verses which I wrote at an early period of life were eminently distinguished by a perfect freedom from conventionalism, and were thus unsuited to the present exactions of literature: in a future age they will be read and admired, "when Milton," as my venerable uncle has frequently exclaimed, "when Milton and such like are forgot!" Had it not been for this sympathetic relative, I firmly believe that the poetry of my nature would never have come out; I can still recall the feelings which thrilled me when lie offered me sixpence for a rhyme to "despotism". I never succeeded, it is true, in finding the rhyme, but it was on the very next Wednesday that I penned my well known "Sonnet on a Dead Kitten", and in the course of a fortnight had commenced three epics, the titles of which I have unfortunately now forgotten.
Seven volumes of poetry have I given to an ungrateful world during my life; they have all shared the fate of true genius—obscurity and contempt. Not that any fault could be found with their contents; whatever their deficiencies may have been, no reviewer has yet dared to criticize them. This is a great fact.
The only composition of mine which has yet made any noise in the world, was a sonnet I addressed to one of the Corporation of Muggleton-cum-Swillside, on the occasion of his being selected Mayor of that town. It was largely circulated through private hands, and much talked of at the time; and though the subject of it, with characteristic vulgarity of mind, failed to appreciate the delicate compliments it involved, and indeed spoke of it rather disrespectfully than otherwise, I am inclined to think that it possesses all the elements of greatness. The concluding couplet was added at the suggestion of a friend, who assured me it was necessary to complete the sense, and in this point I deferred to his maturer judgment:
"When Desolation snatched her tearful prey
From the lorn empire of despairing day;
When all the light, by geraless fancy thrown.
Served but to animate the putrid stone;
When monarchs, lessening on the wildered sight,
Crumblingly vanished into utter night;
When murder stalked with thirstier strides abroad,
And redly flashed the never-sated sword;
In such an hour thy greatness had been seen —
That is, if such an hour had ever been —
In such an hour thy praises shall be sung.
If not by mine, by many a worthier tongue;
And thou be gazed upon by wondering men,
When such an hour arrives, but not till thenl"
Alfred Tennyson is Poet Laureate, and it is not for me to dispute his claim to that eminent position; still I cannot help thinking, that if the Government had only come forward candidly at the time, and thrown the thing open to general competition, proposing some subject to test the powers of the candidate (say «Frampton's Pill of Health, an Acrostic»), a very different result might have been arrived at.
But let us return to our muttons (as our noble allies do most unromantically express themselves), and to the mechanic of Great Wattles-street. He was coming out of a small shop – rudely built it was, dilapidated exceedingly, and in its general appearance seedy – what did I see in all this to inspire a belief that a great epoch in my existence arrived? Reader, I saw the signboard!
Yes. Upon that rusty signboard, creaking awkwardly on its one hinge against the mouldering wall, was an inscription which thrilled me from head to foot with unwonted excitement. "Simon Lubkin. Dealer in Romancement." Those were the very words.
It was Friday, the fourth of June, half-past four p.m.
Three times I read that inscription through, and then took out my pocketbook, and copied it on the spot; the mechanic regarding me during the whole proceeding with a stare of serious and (as I thought at the time) respectful astonishment.
I stopped that mechanic, and entered into conversation with him; years of agony since then have gradually branded that scene upon my writhing heart, and I can repeat all that passed, word for word.
Did the mechanic (this was my first question) possess a kindred soul, or did he not?
Mechanic didn't know as he did.
Was he aware (this with thrilling emphasis) of the meaning of that glorious inscription upon his signboard?
Bless you, mechanic knew all about that 'ere.
Would mechanic (overlooking the suddenness of the invitation) object to adjourn to the neighbouring public-house, and there discuss the point more at leisure?
Mechanic would not object to a drain. On the contrary.
(Adjournment accordingly: brandy-and-water for two: conversation resumed.)
Did the article sell well, especially with the «mobile valgus»!
Mechanic cast a look of good-natured pity on the questioner; the article sold well, he said, and the vulgars bought it most.
Why not add "Novelty" to the inscription? (This was a critical moment: I trembled as I asked the question.)
Not so bad an idea, mechanic thought: time was, it might have answered; but time flies, you see.
Was mechanic alone in his glory, or was there any one else who dealt as largely in the article?
Mechanic would pound it, there was none.
What was the article employed for? (I brought this question out with a gasp, excitement almost choking my utterance.)
It would piece almost anything together, mechanic believed, and make it solider nor stone.
This was a sentence difficult of interpretation, I thought it over a little, and then said, doubtfully, "you mean, I presume, that it serves to connect the broken threads of human destiny? to invest with a – with a sort of vital reality the chimerical products of a fertile imagination?"
Mechanic's answer was short, and anything but encouraging; "mought be – , I's no scollard, bless you."
At this point conversation certainly began to flag; I was seriously debating in my own mind whether this could really be the fulfilment of my life-cherished dream; so ill did the scene harmonize with my ideas of romance, and so painfully did I feel my companion's lack of sympathy in the enthusiasm of my nature – an enthusiasm which has found vent, ere now, in actions which the thoughtless crowd have too often attributed to mere eccentricity.
I have risen with the lark – "day's sweet harbinger" – (once, certainly, if not oftener), with the aid of a patent alarm, and have gone forth at that unseemly hour, much to the astonishment of the housemaid cleaning the door steps, to "brush with hasty steps the dewy lawn", and have witnessed the golden dawn with eyes yet half-closed in sleep. (I have always stated to my friends, in any allusion to the subject, that my raptures at that moment were such that I have never since ventured to expose myself to the influence of excitement so dangerous. In confidence, however, I admit that the reality did not come up to the idea I had formed of it over night, and by no means repaid the struggle of getting out of bed so early.)
I have wandered in the solemn woods at night, and bent me o'er the moss-grown fountain, to lave in its crystal stream my tangled locks and fevered brow. (What though I was laid up with a severe cold in consequence, and that my hair was out of curl for a week? Do paltry considerations such as these, I ask, affect the poetry of the incident?)
I have thrown open my small, but neatly furnished, cottage tenement, in the neighbourhood of St. John's Wood, and invited an aged beggar in to "sit by my fire, and talk the night away". (It was immediately after reading Goldsmith's "Deserted Village". True it is that he told me nothing interesting, and that he took the hall-clock with him when he departed in the morning; still my uncle has always said that he wishes he had been there, and that it displayed in me a freshness and greenness of fancy (or "disposition", I forget which) such as he had never expected to see.)
I feel that it is incumbent on me to enter more fully into this latter topic – the personal history of my uncle: the world will one day learn to revere the talents of that wonderful man, though a want of funds prevents, at present, the publication of the great system of plulosophy of which he is the inventor. Meanwhile, out of the mass of priceless manuscripts which he has bequeathed to an ungrateful nation, I will venture to select one striking specimen. And when the day arrives that my poetry is appreciated by the world at large (distant though it now appear!) then, I feel assured, shall his genius also receive its meed of fame!