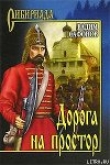Текст книги "Недооцененные события истории. Книга исторических заблуждений"
Автор книги: Людвиг Стомма
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Парижские власти, а также Келлерман настояли, чтобы Армия «Север» отошла на линию реки Марны и там дала прусско-австрийским силам решительное сражение. Поначалу это были намеки, потом рекомендации и, наконец, приказы. Дюмурье отнесся к ним с полнейшим пренебрежением. Он был уверен, что отступление к Марне выведет врага к предместьям Парижа, где весьма ненадежная (ведь рассчитывать приходилось только на энтузиазм) игра случая при столкновении с превосходящими силами противника решит судьбу революции и Франции. При этом Дюмурье рассчитывал, что герцог Брауншвейгский не решится обойти французскую армию, оставив ее у себя в тылу, поскольку это означало бы нарушение всех коммуникаций и путей снабжения. Перед наступлением на Париж герцог наверняка попытается разгромить те силы, которые его советники считают «сборищем босяков». Исходя из этого Дюмурье решил приложить все силы, чтобы увести прусско-австрийскую армию как можно дальше от Парижа, в сторону холмов Шампани, маневрируя таким образом, чтобы противник всегда оказывался с точки зрения топографии в невыгодной ситуации. Хотя, конечно, передвижения неприятеля Дюмурье точно предвидеть не мог. Исходя из маневров противника он перегруппировывал свои части так, чтобы всегда иметь позиционное преимущество на случай вероятного столкновения. Это требовало от армии отчаянного напряжения сил. Ему пришлось отправить далеко в тыл недисциплинированных добровольцев, которые не выдерживали постоянных, дневных и ночных, переходов, обозы также все время отставали, и Дюмурье контролировал только регулярный подвоз боеприпасов. В качестве провизии своим воинам он мог предложить только «Марсельезу». Зато Дюмурье все отчетливее понимал, что неприятель позволит заманить себя в ловушку. В ночь с 19 на 20 сентября, чувствуя за спиной дыхание прусских солдат, французская армия заняла позиции и расставила батареи на возвышенности у деревушки Вальми между Сом Бионом и Орбевалем. Вторая линия под командованием герцога Орлеанского, также располагавшая артиллерией, протянулась перед Орбевалем перпендикулярно к холмам Вальми. Биссектрисой получившегося угла являлась дорога на Шалон-сюр-Марн, по которой двигалась армия герцога Брауншвейгского. Ночью опустился густой туман. Когда часам к одиннадцати следующего утра он рассеялся, французские войска увидели вражеские шеренги. «Они приближались, – вспоминает Луи-Филипп, – в безупречном порядке несколькими колоннами, а затем развернулись напротив нас на огромной равнине, простиравшейся от Сом Биона до Ла Шапель-сюр-Ов. Таким образом, можно было окинуть взглядом сразу сто тысяч солдат, готовых к сражению. На нас это зрелище подействовало тем сильнее, что мы еще не привыкли к виду столь многочисленных армий, с ними нам придется иметь дело позже, а на тот момент минуло уже тридцать лет, как Европа не воевала столь крупными силами. Прусская армия разворачивалась крайне медленно, и лишь к двум часам, а то и позже, когда она окончательно развернулась, мы увидели, что она выстраивается в штурмовые колонны. Мы подумали, что она двинется на нас, и начнется бой, поэтому повсеместно в наших рядах раздались возгласы: “Да здравствует народ!” и “Да здравствует Франция!”». Герцог Брауншвейгский в длинную подзорную трубу осмотрел французские позиции, дабы проверить, каков будет результат столь эффектной демонстрации силы. Однако, вопреки уверениям эмигрантов, паники не наблюдалось. Полковник Анри де Фрежевиль, объезжавший верхом французские части, как сообщает Жан-Габриэль де Монгайар, «сжав кулак и скрестив руки, грозил этим кулаком в сторону пруссаков», что является первым зафиксированным в истории примером демонстрации жеста Козакевича[26]26
Владислав Козакевич (род. 1953) – прыгун с шестом, олимпийский чемпион 1980 г. После своей победы в Москве показал телекамерам и публике, болевшей за его конкурента советского спортсмена Константина Волкова, крайне неприличный жест, получивший в Польше название «жеста Козакевича». Есть знаменитая фотография. – Прим. пер.
[Закрыть].
Увидев решимость французов, герцог Брауншвейгский воздержался от немедленного наступления, решив проверить, как поведут себя «босяки» под массированным артиллерийским огнем. Загрохотали прусские пушки, достойно ответить которым не столь дальнобойные французские не смогли. Мощнейшая в истории Европы канонада продолжалась до темноты. Не было ни кавалерийских, ни штыковых атак, ни перегруппировок и прочих демаршей. Вооруженные подзорными трубами генералы с обеих сторон изучали, каков получается эффект от убойной силы орудий. Французские офицеры повторяли лишь одну команду «Держаться!». Зафиксирован был лишь один момент кратковременной паники, когда рядом с деревенской мельницей в Вальми от вражеского снаряда детонировал ящик с боеприпасами. Порядок был быстро наведен, но до самого вечера на французские позиции сыпались ядра. Прусские источники утверждают, что было их около тридцати тысяч. Сколько пало французов? Луи-Филипп указывал, что «от пятнадцати до шестнадцати сотен». Историки называют более скромные цифры – от четырехсот до тысячи. Да это и не важно. Мишле попал в яблочко, утверждая, что, когда в сумерках «герцог Брауншвейгский навел свою подзорную трубу на холмы, он увидел поразительное зрелище – размахивая надетыми на сабли, пики и штыки шляпами, французские пехотинцы приветствовали ехавшего вдоль строя Келлермана дружными возгласами “Да здравствует народ!”. Крик этот рвался из тридцати тысяч глоток и гремел по всей долине. Крик радости отдавался эхом как минимум минут пятнадцать, а потом звучал снова и снова так, что земля дрожала: “Да здравствует народ!”». Когда канонада прекратилась, крестьяне из соседних деревень привезли французам шампанского (другого вина тут просто не было), хлеб, баранину и фрукты. Запылали большие костры. Внизу голодали прусские и австрийские солдаты, которым не подвезли продовольствие. В деревнях же, которые были уже опустошены во время их марша, поживиться было тоже нечем. Рассвело, но ничего не изменилось. На холмах были видны фигуры одетых в лохмотья, но готовых к бою французов, распевавших во все горло. Герцог Карл Вильгельм первым понял, что все выглядит совершенно иначе, чем ему обещали. Он понял, что наступление снизу вверх на французские позиции, где вражеские орудия смогут легко достать его солдат, означает потерю половины армии. Переговоры после фанатичных криков, которыми он имел удовольствие наслаждаться весь вечер, были изначально бессмысленными, кроме того, он еще хорошо помнил содержание изданного им самим манифеста. Что оставалось делать? После двух дней постоянных передислокаций своих войск, которые не произвели на французов ни малейшего впечатления, герцог приказал трубить отбой.
Так завершилась битва при Вальми, которой по сути дела и не было, или “канонада при Вальми”, как ее окрестил Шатобриан.
Когда непобежденные и никем не потревоженные войска герцога Брауншвейгского разворачивались для отступления, Иоганн Вольфганг Гёте, наблюдавший за событиями с террасы корчмы в Вальми, записал: «Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus» – «Отсюда и с этого дня берет начало новая эпоха в мировой истории». И он был прав. Джон Фредерик Чарльз Фуллер – крупнейший наряду с Клаузевицем военный теоретик – заметил, что Вальми стало «Марафоном революции», а Шарль де Голль во вступлении к «Fil de l’épée» (Paris, 1932) задался вопросом: «Разве без Вальми у революции был шанс на существование?» И они тоже правы. Так что же такого случилось при Вальми на самом деле?
За будничной суетой, которая всегда сопровождает сиюминутные сенсации, современники увидели только первый план этого события. Пруссаки и австрийцы увидели, что имеют дело не с беспомощной толпой, а с людьми, объединенными высокой идеей, за которую они готовы страдать и отдать жизнь на холмах Вальми. А это означало то, что отлично понял герцог Брауншвейгский и поэтому, рискуя навлечь на себя немилость короля, отступил – марш на Париж будет не милой прогулкой, а превратится в кровопролитную войну с непредсказуемым результатом, в которую не стоит втягиваться. Битва при Вальми спасла революцию. Ту самую революцию, которая при всех своих кровавых эксцессах и преступлениях открыла миру новую перспективу и оставила нам в наследство не гильотину (это всего лишь историческая подробность), а права человека и гражданина, актуальные до сих пор. «Люди рождены равными…». Никто и никогда не произносил этого раньше. Но не в этом величие Вальми.
При Вальми свершилось событие, определившее ход истории Европы и всего мира, что с гениальной прозорливостью понял Гёте. При Вальми французы первыми в истории нашей цивилизации стали нацией. Патриотизм, братское национальное единение… эти понятия, как к ним ни относись, родились именно здесь. Все последующие «весны народов», пробуждения наций являлись только калькой с того, что произошло при Вальми. Кто знает, как сегодня определялись бы политические, языковые, религиозные сообщества, если бы с шампанских холмов не раздался тот патриотический возглас: «Да здравствует народ!» Что бы случилось в мировой истории, если бы босые и голодные солдаты Дюмурье не выстояли под прусской канонадой?
Еще один такой маленький appendix. В немногочисленной армии Дюмурье, как уже было сказано, в результате эмиграции дворянства, не хватало офицеров, что здорово способствовало продвижению по службе. Двадцатидвухлетний комендант волонтеров из Бургундии Луи-Николя Даву – будущий маршал и победитель в Йена-Ауэрштедском сражении – стал майором (он стрелял потом в Дюмурье, когда тот перешел на сторону австрийцев). В состав офицеров штаба входил двадцатисемилетний Александр Макдональд, уже через семнадцать лет ставший героем битвы при Ваграме, маршалом и герцогом Тарентским. Были произведены в офицеры, в частности, Жан-Батист Журдан, Никола Шарль Удино, Лоран де Гувион Сен-Сир, Эдуар Адольф Казимир Мортье, Никола Жан де Дье Сульт, Жан Ланн, Луи Александр Бертье, Жан-Батист Бессьер, Франсуа Жозеф Лефевр – все они будущие маршалы Франции эпохи Наполеона, сподвижники в его делах и соавторы его легенды. Стали бы они теми, кем стали, без битвы при Вальми, и кем бы был без них Наполеон – вот хороший вопрос для альтернативной истории. Как видно, и в ней не обойтись без канонады при Вальми.
Сегодня на месте сражения стоит реконструированная (в 1792 г. при отступлении ее приказал сжечь герцог Орлеанский) живописная мельница. Можно заглянуть и в кабачок, откуда за ходом событий наблюдал Гёте. На краю холмика установлен прекрасный памятник… Келлерману. Дюмурье ведь потом стал предателем. Поэтому слава досталась заместителю. На цоколе памятника цитата из Гёте. В общем, все вперемешку. В политике такое бывает, но не в истории. С ее точки зрения при Вальми случился перелом, родилось на свет явление, в которое мы до сих пор верим, которым живем и за которое будущие поколения с нас еще спросят.
Олимпиада 1896 г.
Барон Пьер де Кубертен (1862–1937) был обедневшим аристократом, разделявшим все взгляды и предубеждения своей касты (к примеру, являлся ярым противником Дрейфуса), при этом, дабы сохранить хотя бы видимость принадлежности к аристократии, вынужден был хвататься за любую (понятно, не физическую) работу, способную обеспечить достойный заработок. По протекции высокопоставленных друзей он стал чиновником Министерства просвещения и редактором ежемесячного журнала «Revue Athlétique», предназначенного, прежде всего, для сержантского состава армии, с целью достойно воспитать новобранцев национальной армии. Благодаря этим связям в армии примерно в 1890 г. барон познакомился с греческим майором Евангелисом Заппасом, который, начитавшись трудов немца Эрнста Курциуса, сделался поборником возрождения греческих олимпиад. Мало того, ему уже удалось трижды, в 1870, 1875 и 1889 гг., организовать всегреческие спортивные соревнования, которые пользовались огромным успехом и превратили его из жалкого сержанта в забытом богом провинциальном гарнизоне в уважаемого господина майора, принятого при королевском дворе. Пьер де Кубертен понял, что это шанс, выпадающий раз в жизни. Он рассудил, что раз этот примитивный грек (а какой грек в глазах француза не является дикарем?) сумел организовать Эллинские игры, я сделаю их всемирными… Тут следует отметить, что Пьер де Кубертен был, согласно тогдашней моде, любителем античности, но одновременно и приверженцем строгой общественной иерархии в самом ординарном смысле слова.
Поначалу у барона все шло как по маслу. В июне 1894 г. ему удалось, несмотря на сопротивление британцев и немцев, собрать в парижской Сорбонне представителей без малого двадцати государств, которые приняли постановление о воскрешении олимпиад, причем первая из них (а возможно и все последующие) должна была состояться в Афинах, символизируя единство места и традиции. А вот здесь начались проблемы. В этом вопросе – первая или также все последующие – крылась причина многочисленных разночтений и недоговоренностей, которыми изобилует этот, впрочем, довольно небрежно составленный документ. Даже в первом пункте нет окончательной ясности. Ведь тогдашний премьер-министр Греции Харилаос Трикупис сразу заявил, что его охваченное глубочайшим кризисом государство («считается, что в 1890–1914 гг. эмигрировало 350 000 греков – седьмая часть населения страны», Ричард Глогг, «История современной Греции»; Варшава, 2006) не располагает средствами на столь широкомасштабное мероприятие. Как оказалось, это де Кубертену было только на руку. Игры на 80 % финансировало австро-венгерское правительство в рамках празднования тысячелетия Венгрии. Когда же позднее, убедившись в успешности этого международного проекта, греки выдвинули предложение всегда проводить Олимпиады в их стране, у барона был железный аргумент за то, что Игры должны проводиться в разных странах, тогда как роль арбитра и… вытекающие отсюда гонорары, а также прочие материальные и нематериальные выгоды, оставались при нем.
К сожалению, денег барону требовалось все больше и больше. Если говорить о почетных наградах, то он даже не постеснялся принять золотую медаль в области литературы (до Второй мировой войны присуждали и такие) за поэму «Ода спорту», подписанную двойным псевдонимом Жорж Хород и Мартин Эшбах. Первый якобы был французом, а второй – немцем, а их общее произведение призвано было символизировать примирение этих народов. Текст представлял собой пример жалкой графомании, но жюри, не зная – во всяком случае, так оно заявляло неоднократно, – кто настоящий автор, ни минуты не сомневалось, присудив первое место. И это далеко не конец…
В 1934 г. нацистская Германия, ничуть не скрывавшая собствен ной политики дискриминации по расовому принципу, заявила о желании быть организатором Игр. У барона Пьера де Кубертена всегда были проблемы с признанием дрейфусов, а уж тем более чернокожих, достойными соревноваться с представителями белой расы. После Берлинской олимпиады он написал (Гай Уолтерс, «Олимпийские игры в Берлине»; Познань, 2008): «Какая разница, пропагандировать туризм – как во время Олимпиады в Лос-Анджелес в 1932 г. – или политический ре жим? Самое главное, что олимпийское движение сделало огромный шаг вперед…» Гай Уолтерс назвал это «поразительным высказыванием». И сам же себе противоречит, поскольку он же установил, что Теодор Левальд – председатель Олимпийского комитета Берлинских игр и подчиненный Геббельса – предложил барону в случае избрания Берлина 10 000 марок и 12 300 швейцарских франков. А Пьер де Кубертен это предложение принял. «Сейчас трудно с точностью определить, – пишет Гай Уолтерс, – современный эквивалент двух этих сумм, поскольку покупательная способность обеих валют была различна. И, тем не менее, 10 000 марок 1936 г. соответствуют примерно 350 000 нынешних долларов, а 12 300 швейцарских франков – около 550 000 долларов (…). Слишком большое искушение, чтобы отказаться. Нет ни малейших сомнений, что эти деньги были, по сути, взяткой, ведь в противном случае Левальд не посоветовал бы Кубертену лгать Байе-Латуру (известному бельгийскому дипломату, члену МОК и отличному наезднику, который в личной беседе с Гитлером ставил условием спортивного сотрудничества с рейхом отказ от дискриминации евреев. – Л. С.) и не подчеркнул бы, что данные суммы предназначены исключительно на личные нужды стареющего барона. Для пущей конспирации Левальд, получив согласие Кубертена, по всей вероятности просил Ялмара Шахта, председателя Рейхсбанка и своего старого приятеля, осуществить скрытый перевод денег. А как только Кубертен деньги принял, заискивающий тон Левальда тут же сменился откровенными приказами и выговорами. После получения нацистских денег француз вынужден был исполнить все, о чем его «просили», поскольку не мог признаться в подкупе. А нацисты, взяв Кубертена за горло, получили наконец полный контроль над Играми. «Мало того, что организация перешла полностью в ведение государства, так еще и проводилась по правилам, установленным НСДАП, а не МОК. И уже вскоре четырем тысячам спортсменов пришлось принимать участие в празднике не только спорта, но и нацизма».
По всей видимости, барона де Кубертена это вполне устраивало. Евреев он никогда не любил, а военным порядком и дисциплиной всегда восхищался. Можно сказать, что некоторым образом это отвечало его олимпийским мечтам (Judith Holmes, «Olympiad 1936»; «Blaze of Glory for Hitler’s Reich». Ballantine, 1971). А именно – навести порядок в мире физических развлечений, подчинить их определенной иерархии, вынудить народы соревноваться по строгим правилам, расставить всех по местам. Alain Giraudo («Des jeux de pouvoirs», «Le Monde» от 13.05.1984), так же как и Владислав А. Минкевич («Олимпийская горячка»; Варшава, 1993) хотят видеть в бароне де Кубертене поборника благородной утопии равенства и мира во всем мире. К сожалению, это ничем не подтверждается. На Олимпиаде в Сент-Луисе (1904), где собрались только одиннадцать национальных команд, поскольку для остальных поездка за океан оказалась слишком дорогой, участвовали только белые. А в пригороде одновременно устроили карикатурные anthropological days для «черных, патагонцев, филиппинцев, японцев, турок, арабов и индейцев». И это нисколько Пьера де Кубертена не смущало.
Вдохновляющий пример античности? Олимпиады древних времен, эпоха которых закончилась в 146 г. до н. э. после захвата Греции римлянами, были соревнованиями всех, кому хватило смелости заявить о своем участии. Дабы исключить любые махинации (оставим в стороне ничем не подкрепленные современные гомосексуальные инсинуации), участники состязались обнаженными. Цель, о чем я уже писал (Людвик Стомма, «Культура переменчива»; Познань, 2009), ставилась одна – победить. Не было второго, третьего, четвертого. При этом победитель «получал право выступать на следующих Играх и умножать свои триумфы, как легендарный Гиппостен из Спарты или Милон Кротонский – шестикратный победитель соревнований борцов». По всей Греции, а не только в родном городе, победителя чествовали песнями и празднествами. Стремились запечатлеть и облик победителя, как в случае, пожалуй, с самыми популярными атлетами – дискоболами. Всем известна прославленная статуя скульптора Мирона. Но вот кого победил этот дискобол, с кем боролся Милон? Ответа в хрониках нет. Был победитель, а также претенденты, которым выиграть не удалось. Все, точка. Результаты никогда не фиксировались. И не потому, что это было невозможно – логично, что результаты в беге зафиксировать тогда было проблематично, но в метании это было возможно, – а из глубочайшего убеждения, что день на день не похож. По-разному светит солнце, идет дождь, дует разный ветер или вообще полный штиль. Важно в этот день и час, без учета обстоятельств увенчать победителя лавровым венком (точнее – повесить венок ему на шею). И совершенно не важно, что через несколько лет венок достанется другому. Никто ни у кого ничего не отнимает. Победа – неделима, и только она важна.
Вернемся, однако, к Играм 1896 г. Спортивных дисциплин было немного (к примеру, бег – только мужской – 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м, марафон и бег с барьерами около 110 м), а следовательно, и число государств, способных похвастаться победителями, было бы крайне мало. Отсюда и идея отмечать не единственного победителя, а троих первых. Почему троих, а не двоих или пятерых? Байе-Латур шутил, что дело в Святой Троице. Кемени намекал на масонские символы… На самом деле все обстоит гораздо прозаичнее. В некоторых дисциплинах было так мало участников, что наградить более трех означало бы наградить всех участников. Почему не двоих? Это, скорее, вопрос симметрии, на что сразу обратил внимание Георгиос Аверофф – главный спонсор мероприятия. Почему медали, а не традиционный лавровый венок? На этом, в свою очередь, категорически настаивал сам барон де Кубертен, испытывавший привязанность к армии и военным традициям. Есть такой анекдот «с бородой» о ките-страдальце, который случайно проглотил троих, потерпевших кораблекрушение: еврея, француза и русского:
– Милый, что с тобой? – спрашивает его подплывшая жена. – Что-то ты неважно выглядишь. Ты не заболел?
– Не то слово, рыбка моя. Загибаюсь. Сначала я жида проглотил и двое суток рыгал чесноком. Потом француз попался, думал, сдохну с бодуна от всех вин, коньяков и аперитивов, которыми тот накачался. Но это еще полбеды. Угораздило же меня слопать русского генерала! Третий день блюю орденами.
Анекдот этот польский, а потому традиция обвешиваться орденами здесь приписана русским. Но посмотрите на орденские планки французских или польских военных (да, у них не принято нацеплять знаки отличия в натуральную величину) – разницы вы не почувствуете! Пьер де Кубертен не мог представить себе что-либо иное. Почему золото, серебро и бронза, когда – как втолковывал Кубертену тот же Аверофф – платина ценнее золота, а чистый цинк бронзы? Якобы гордый аристократ ответил, что могущество измеряется в золоте, а платина – ценность нуворишей. А бронзовыми памятниками украшены улицы и площади Парижа. С такими аргументами не поспоришь! Так и повелось.
И хотя Олимпийские игры 1896 г., на которых в марафоне победил греческий рабочий – что сильно покоробило барона, но вызвало энтузиазм не только в Греции, но и за рубежом, – могли послужить началом большого движения, де Кубертен был полон скептицизма.
Очередные пародии Игр он воспринял с истинно олимпийским спокойствием. Осмелюсь утверждать, что даже без учета взяток, Берлинские игры стали осуществлением его мечты. Вместо античного принципа – кто самый лучший – появился сиюминутный и конфликтный – кто лучше. Серебряный призер или бронзовый, бронзовый или спортсмен, занявший четвертое место? Ведь не здесь и не сейчас четвертый спортсмен мог бросить снаряд и дальше бронзового, а, может, и серебряного призера. Таким образом, в спорте появились таблицы. Касаются они не только отдельных спортсменов, но и народов, их физической подготовки и силы (не только физической). А когда в игру вступает национальная гордость целого народа, суть дела меняется принципиально. Чернокожий Джесси Оуэнс рассказал («Exploits Inconnus»; Bruxelles, 1981), что когда он дважды «сгорел», то есть заступил за разрешенную линию в двух первых попытках квалификации по прыжкам в длину, а третий «сгоревший» прыжок равнялся дисквалификации, к нему подошел лидер предварительного конкурса и любимец гитлеровской Германии, рекордсмен Европы Луц Лонг. Он пожал Оуэнсу руку, сказал: «Тебя явно что-то угнетает, но ведь это всего-навсего предварительный отбор. Прыгни даже за полметра от линии, ты же все равно пройдешь. И пусть они там на трибунах хоть лопнут, не дай свести себя с ума». Джесси Оуэнс послушался и на другой день выиграл, прыгнув на 8 м 6 см. Гитлер, чтобы не подавать ему руки, досрочно покинул почетную ложу. Луц Лонг был вторым, и с тех пор о нем больше никто не слышал. Ганс Стерлинг сообщает, что он погиб в России[27]27
Л. Лонг погиб на Сицилии в 1943 г. и там же похоронен на воинском кладбище. – Прим. пер.
[Закрыть], но этому нет достоверных подтверждений. Как бы там ни было, а спортсмен не оправдал оказанного доверия. Ведь уже тогда стало правилом, а теперь это просто аксиома, что спорт – это борьба между народами. И речь вовсе не идет о том, кто «быстрее, дальше, выше» – сентенция, ошибочно приписываемая барону, – и уж тем более не о том, что «важна не победа, а участие». Это опровергается теми самыми предварительными отборами и олимпийскими минимумами. Отдавал ли Пьер де Кубертен себе отчет, какого джинна он выпускает из бутылки? Похоже, что да. Susan Bachran («The Nazi Olympics»; Little. Brown, 2000) уверена, что барон полагал, будто, создавая этакий заменитель борьбы, он предотвратит военное противостояние. Ему и в голову не пришло, что и то, и другое могут прекрасно уживаться, не только не исключая друг друга, а наоборот усиливая.
Разумеется, все происходило постепенно. Катившийся с горы снежный ком еще не превратился в лавину. Маршал Юзеф Пилсудский[28]28
Юзеф Пилсудский (1867–1935) – польский политик, маршал Польши, национальный лидер Второй Польской республики в 1918–1935 гг. – Прим. пер.
[Закрыть] 22 мая 1932 г. (я уже приводил эту цитату в книге «Культура переменчива»; Познань, 2009) на заседании Научного совета по физическому воспитанию говорил: «Никогда не забуду, как на одной иллюстрации мне встретилась некая особа, которая – так мне казалось – занимается странными вещами. Женщина прыгает через барьеры. Кто-то мне сказал, что это наша прославленная барьеристка, некая XY. Я узнал, что она оканчивает гимназию и одновременно является нашей известной барьеристкой. Признаюсь, это меня поразило, особенно то, что ее готовят, как нашу замечательную спортсменку, к выступлениям на международной арене. Я подумал об этой бедной девушке, что ж ей, делать больше нечего, как только скакать через эти барьеры? Раз она готовится к соревнованиям, значит, должна соответственно тренироваться, изменить свой образ жизни; ее ежедневно взвешивают, делают ей массаж, и она все время прыгает через эти идиотские барьеры. Ее цель только в том и состоит, чтобы преодолевать один барьер за другим. И она постоянно этим занимается. Ведь так и жизнь станет немила. Можно унестись в спортивную стратосферу и считать, что целью всей жизни является вытянуть еще минуту, еще миллиметр. Но я не могу не опасаться за эту столь юную девушку, превращенную в знаменитую барьеристку и специалистку по барьерному бегу. Это воистину конец света!» Куда худшего мнения был маршал о футболе, с которым он еще готов был согласиться в качестве недолгой разминки, но не желал видеть в нем изматывающее длительное состязание. И все же ошибался Юзеф Пилсудский, а не барон де Кубертен. Поскольку речь вовсе не идет о так называемой физической культуре или, как хотелось бы маршалу, о подготовке к военной службе. Если бы Пилсудский знал, сколько сейчас может заработать такая барьеристка, которую он искренне жалел, не говоря уж о гранд-мэтрах футбола, возможно, он изменил бы мнение. Но таким богатым воображением, чтобы представить себе нынешнее спортивное безумие, маршал Пилсудский явно не обладал. Сегодня футболист клуба «Барселона» получает в сто раз больше (sic!), чем мог мечтать заработать Эйнштейн. Нобелевская премия равняется приблизительно недельному заработку центрального нападающего третьеразрядного испанского или итальянского клуба. Барон Пьер де Кубертен этого якобы не предвидел. И сегодня его считают провозвестником любительского спорта. Однако этот идеалист был уверен, что награды, присуждаемые победителям, и прежде всего ему, могут быть разными, в том числе весьма солидными, но без всякой идеологии, эдакими сувенирами на память о прекрасных минутах. Барон де Кубертен умер, но идея его живет. Неважно, кто самый лучший. Важно, кто лучше. Один город лучше другого, а эта деревня лучше другой деревни. Так и воспитал Пьер де Кубертен поколение глупцов, загипнотизированных таблицами: кто лучше (а лучшими, конечно, должны быть мы!) в каждой – изобретались все новые – спортивной дисциплине и каждый год, а уж на Олимпийских играх – само собой. Барон под конец сообразил, насколько его идея плодотворна, и успел неплохо набить карманы. Правда, ныне суммы эти никого не поражают.
Мой отец был человеком старой закалки, и по его представлениям спорт – плебейское развлечение, неприличное для серьезных людей. Все мои доводы и тирады упирались в глухую стену. Наверно, поэтому я его так люблю. Он не желал понимать, что достижение толкателя ядра, посылающего семикилограммовый снаряд за достигнутый ранее рубеж, имеет больший общественный резонанс, нежели работа исследователя, переворошившего тысячи архивов. Даже тот факт, что Германская Демократическая Республика построила свою репутацию и завоевала достойное место в мире, благодаря достижениям тщательно взращиваемых с раннего детства спортсменов, нисколько не поколебал отцовских убеждений. Как же далеки мы теперь от этой веры, будто главное – в знаниях, а вслед за ними важен диалог, история, культура. Марк Дойл (The Economist Newspaper Ltd. en association awec Profile Books, 2007) подсчитал, что сумма выплаченных спортсменам в 2006 г. вознаграждений превосходит бюджет нескольких десятков государств мира. И это уже не шутки. До Второй мировой войны все национальные, континентальные или мировые чемпионаты (Therry Terret, «Histoire des sports». Paris, 1996) брали за основу регламенты Пьера де Кубертена. Меняется только одно: по мере распространения радио, а затем телевидения, любительский спорт превращается в издевательство. Один рекламный ролик по телевизору за пять минут до олимпийского старта в беге на сто метров стоит больше, чем вывод на рынок полутора десятка литературных бестселлеров, включая всю прибыль от них. Спорт превратился в экономическую, пропагандистскую и политическую силу. Причем с «физической культурой» спорт теперь не имеет ничего общего, поскольку его звезды – это или будущие инвалиды, или подопытные кролики, которых постоянно пичкают лекарствами в вечной борьбе фармацевтов с антидопинговыми комиссиями. А что до здоровья и гармонического физического развития, то в профессиональном спорте об этом уже можно (за исключением достижений в фармакологии) преспокойно забыть. Однако он породил явление, последствия которого социологи в настоящее время еще до конца не осознали. В мире (ограничим его Европой), где, казалось бы, медленно, но верно исчезает межнациональная рознь, а воинствующий национализм становится неприличным, спорт высоких достижений создал непримиримые анклавы местечкового шовинизма, государственного или расового, скрываемого под вывеской фанатского движения. Вопреки декларациям, осуждающим эксцессы «болельщиков», на них работает практически все. От словесного поноса спортивных комментаторов, через символику (местную, клубную или национальную) на майках, головных уборах, шарфах, вплоть до национальных гимнов, исполняемых со всей возможной торжественностью, прежде чем двадцать два парня начнут гонять кожаный мяч. Ведь никого уже эти злоупотребления не удивляют, не так ли? И ничего удивительного. Традиции-то более ста лет. И это тоже придумка обожавшего военные парады барона Пьера де Кубертена. Интересно, пошла бы история спорта без него иным путем? Вполне вероятно. Олимпийские игры 1896 г. создали матрицу, которую позднее только повторяли и совершенствовали. После Берлинской Олимпиады преемник Пьера де Кубертена Эвери Брендедж (был председателем Международного олимпийского комитета до глубокой старости) заявил, комментируя успехи немецких спортсменов в Берлине 1936 г.: «Соединенные Штаты многому бы могли поучиться у немцев с их превосходной организованностью, интенсивными тренировками и воистину сверхчеловеческой волей к победе. Если мы хотим удержать наши позиции, то должны начать тренироваться не менее напряженно, причем в национальном масштабе. Мы должны превратиться из группки спортивных клубов в общенациональную организацию (…). А также, если хотим сохранить наши традиции, мы должны уничтожить коммунизм. Одновременно нам следует предпринять шаги, предотвращающие снижение патриотизма (…). Немцы, как нация, избавились от апатии, царящей повсеместно пять лет тому назад, обретя новую веру в себя». А в своем дневнике он дописал (Гай Уолтерс, op.cit.): «Гитлер – бог… возвращает чувство собственного достоинства… человек народа».