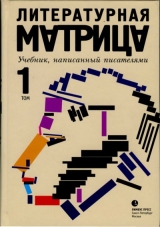
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 1"
Автор книги: Людмила Петрушевская
Соавторы: Татьяна Москвина,Сергей Шаргунов,Павел Крусанов,Майя Кучерская,Михаил Шишкин,Михаил Гиголашвили,Илья Бояшов,Вадим Левенталь,Александр Мелихов,Сергей Носов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Белинский, долгое время признававший в Некрасове лишь талантливого журналиста и ловкого предпринимателя, выслушав стихотворение «В дороге» (1845), по воспоминаниям литератора Ивана Ивановича Панаева, «бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах: – Да знаете ли вы, что вы поэт – и поэт истинный?» Так состоялось благословение Некрасова на поэтическое творчество. Самый влиятельный критик эпохи разглядел в нем поэта. Естественно! Ведь стихотворение «В дороге» вполне отвечало требованиям столь дорогой сердцу Белинского, им же во многом и выдуманной, натуральной школы. Стихотворение рассказывало историю простого мужика, ямщика, которого женили на девушке, воспитанной в господском доме («Слышь ты, смолоду, сударь, она / В барском доме была учена / Вместе с барышней разным наукам, / Понимаешь-ста, шить и вязать, / На варгане играть[26]26
Здесь – играть на фортепиано. Варган – искаженное орган; именование возникло по аналогии с названием старинного народного музыкального инструмента варган. – Прим. ред.
[Закрыть] и читать – / Всем дворянским манерам и штукам..») и так и не сумевшей зажить жизнью мужички, простой крестьянки. Некрасов стилизует стихотворение под народную речь, обильно уснащая рассказ своего ямщика просторечными и народными словечками, что призвано придать истории документальный характер. Наконец, здесь присутствует и социальный протест: «Погубили ее господа, / А была бы бабенка лихая!»
Похвала Белинского явно воодушевила Некрасова. Так он и стал дальше писать – очень просто, прозаично, сюжетно, недаром почти все его стихи легко пересказать «своими словами».
Именно Белинский убедил Некрасова в том, что у натуральной школы должен быть собственный журнал, которым и стал выкупленный у Петра Александровича Плетнева «Современник».
Некрасов сделался его редактором и издателем, и вскоре «Современник» стал одним из лучших журналов эпохи. В нем печатался весь тогдашний литературный свет – Герцен, Тургенев, Гончаров, Островский, Лев Толстой, Тютчев, Фет. Критический отдел в лице Белинского, а по смерти его – Чернышевского с Добролюбовым, определял гражданское лицо журнала, задал его направление – радикально-демократическое, то есть оппозиционное по отношению к официальной правительственной линии. Это согревало мыслящую часть общества и определило успех журнала. «Современник» читали, обсуждали, цитировали и в университетских коридорах, и на бесконечных посиделках «русских мальчиков». Неудивительно, что журнал постоянно подвергался цензурным преследованиям, пока в 1862 году выход его и вовсе не был приостановлен на восемь месяцев из-за «вредного направления». Спустя четыре года, несмотря на отчаянные попытки Некрасова спасти журнал, «Современник» был закрыт.
В 1868 году Некрасов возглавил журнал «Отечественные записки», который стал преемником «Современника», – это подчеркивалось и похожим оформлением «Отечественных записок», и составом авторов. Во второй журнал Некрасов также собрал лучшие литературные силы эпохи – к прежним авторам добавились Салтыков-Щедрин, Достоевский (пусть и с одним романом), Писарев. Здесь царил тот же фрондёрский, оппозиционный дух. Понятно, он был близок Некрасову, но – не станем забывать, с кем мы имеем дело – именно такое направление было самым востребованным, обеспечивая журналу тиражи, а издателям – состояние.
Наделал шума и сборник Некрасова «Стихотворения» (1856), открывавшийся декларативным текстом «Поэт и гражданин», в котором поэту предлагалось посвятить себя гражданскому служению и погибнуть «за убежденье, за любовь». Сборник имел громкий успех, пережил несколько переизданий, и вряд ли его поклонники догадывались, как тщательно сам автор продумывал, на какие клавиши в сердцах читателей следует нажимать, чтобы этого успеха добиться. Именно после первого выхода в свет «Стихотворений» многие поверили, что в России появился «повыше Пушкина поэт». Примерно те же слова прозвучали и над могилой Некрасова – после того как Достоевский сравнил его с Пушкиным, молодежь закричала: «Он был выше Пушкина!»
Не оспаривая этого утверждения, попробуем разобраться в деталях, понять, что же это был за поэт и чем же он взял публику.
МУЗА В КРОВИ
В статье «Русские второстепенные поэты» (1850) сам Некрасов замечал: «Пушкин и Лермонтов до такой степени усвоили нашему языку стихотворческую форму, что написать теперь гладенькое стихотворение сумеет всякий». Как мы помним, на той же самой гладкости он поскользнулся с «Мечтами и звуками», и теперь, поумнев от разговоров с Белинским, сознательно разламывал эту «гладенькость», как ребенок часы, – разбирал, топтал выпавшие винтики ногами, стучал по ним молотком. Делал он это словно на сцене: комментируя смысл и результаты каждого своего действия.
В его стихах, как, быть может, ни у кого, очень много описаний собственной поэтической манеры, или самоосмысления, авторефлексии, сущность которой сводилась примерно к следующему. Поэзии традиционной, пушкинской, слишком долго подражали, ее всё трясли да трясли эпигоны, да так долго, что в конце концов эту прежнюю поэзию хорошенько стошнило, и тут он, Некрасов, не растерялся, подобрал извергнутое и вставил в свои стихи. Не зря Тургенев назвал изготовленное Некрасовым лирическое кушанье – «жеванное папье-маше с поливкой из острой водки». Напомним, что острая водка – это азотная кислота, то есть то, что, как выразились бы сегодня пользователи ЖЖ, – жжот.
Возможно, Николай Алексеевич не обиделся бы на подобное определение, ибо сам нередко описывал собственные поэтические опусы в выражениях, не слишком для себя лестных.
Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!
(«Праздник жизни, молодости годы…»)
Или:
Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагородны и обидны,
Твой стих тягуч.
Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны.
(«Поэт и гражданин»)
А собственную Музу неустанно изображал то в виде родной сестры крестьянки, которую били кнутом на Сенной площади (хотя к тому времени телесные наказания были отменены, а на Сенной и вовсе никогда никого не наказывали), то в виде «вечно плачущей и непонятной девы». В прощальном стихотворении («О Муза! я у двери гроба…») представив ее как «бледную, в крови» и «кнутом иссеченную».
Но кто так жестоко издевался над Музой Некрасова? Кто заставил ее выучить «разгульные песни» и поклониться золоту? (Вот оно, опять. В стихотворении «Муза» прямо сказано, что золото – «единственный кумир» некрасовской Музы.) Кто унижал и оскорблял ее пострашнее, чем отставной майор в Грешневе собственную жену? Главным палачом своей Музы был он сам, Некрасов. Это он выбивал кнутом и издевками из нежного, розового существа, пусть и существа без лица (а у чьей Музы поначалу было свое лицо?), из Музы своих ранних (вполне естественно, что подражательных) стихотворений все светлое и милое, слишком опасаясь, что она так коммерчески невыгодно окажется похожей на вдохновительниц других поэтов. Он не ждал, когда его Муза подрастет, созреет, когда черты ее лица определятся сами собой, по естественному ходу вещей, и безжалостно гнал ее на улицу, требуя, чтобы там она, напитавшись уличными выражениями и занимаясь даже страшно подумать чем, добыла кой-какую казну или, на худой конец, принесла ему кое-что на ужин (как, скажем, героиня некрасовского стихотворения «Еду ли ночью по улице темной…»). И в конце концов добился своего.
ОКРАШЕННЫЙ ГРОБ
Избитая, униженная, лишенная родственных связей с мировой и отечественной поэзией, некрасовская Муза начала нашептывать своему мучителю, что ничего доброго в этой жизни нет и быть не может.
Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела…
(«Муза»)
Неудивительно, что, шагая этими тропами, Некрасов из окружающей вселенной, довольно разнообразной, как вы догадываетесь, по краскам и настроениям, научился выхватывать зрением исключительно безобразное, гадкое. Там, где не было места Насилию и Злу, ему точно бы делалось неуютно…
Вот так он и полюбил ее, вечную свою невесту. Вот отчего так и не женился официально на Авдотье Панаевой и лишь незадолго до смерти и смертельно больным обвенчался (вероятно, из благодарности) с Феклой Анисимовной Викторовой, которую предпочитал называть Зиной. Все потому, что целую жизнь у него была другая. Невеста в белом. Которой он и хранил поразительную верность.
В самом деле: нет в российской словесности другого автора, который оставался бы до такой степени верен все той же теме – теме смерти. Смерть в некрасовском творчестве – вечно господствующая царица. Оттого-то на его улице всегда темно. «Гроб», «могила», «покойник» – непременные насельники его стихотворных сюжетов.
…Начинается день безобразный —
Мутный, ветреный, темный и грязный.
Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть!
Мы глядим на него через тусклую сеть,
Что как слезы струится по окнам домов
От туманов сырых, от дождей и снегов!
(«О погоде»)
«Тусклая сеть» – вот та призма, сквозь которую Некрасов и глядел на мир, берясь за стихи. Само собой, что в такой «безобразный день» ничего хорошего случиться не может.
…Я ушел – и наткнулся как раз
На тяжелую сцену. Везли на погост
Чей-то вохрой окрашенный гроб
Через длинный Исакиев мост.
Но и того поэту с его истерзанной Музой оказывалось мало: через мост везут не просто гроб, но гроб одинокого, никем не любимого человека («Перед гробом не шли ни родные, ни поп. / Не лежала на нем золотая парча…»). И этот гроб неизбежно должен свалиться.
…Съезжая с моста,
Зацепила за дроги коляска, стремглав
С офицером, кричавшим: «Пошел!» – проскакав,
Гроб упал и раскрылся.
Дальше герой выясняет у сопровождавшей процессию старушонки подробности жизни покойного – умер от простуды, мелкий чиновник, которого всю жизнь преследовали сплошные несчастья: потерял во время наводнения жену, «целый век по квартирам таскался / И четырнадцать раз погорал». Гроб опускают в могилу, полную воды, и старушка невольно каламбурит: «Из огня прямо в воду попал!» Эйхенбаум в упомянутой уже статье возводит эту веселую старушонку к «явлениям того же порядка, как и веселые гробокопатели Шекспира». «Просвещенный читатель ведает, – цитирует Эйхенбаум Пушкина, – что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностию сильнее поразить наше воображение». С той же целью, по мнению исследователя, и Некрасов вставляет в свои стихи старушку, каламбурящую на кладбище, – чтобы поразить наше воображение. Безусловно. Но происхождение этой некрасовской героини все же гораздо более древнее.
Старушонка, которая в «мужских сапогах» (доставшихся ей от покойного) прибежала в некрасовские стихи со средневекового карнавала. Карнавальная стихия, где все перевернуто с ног на голову, мужчины одеты в женское и наоборот, нормы поведения нарушены, традиции высмеяны, лучшие произведения исковерканы и перелицованы, бушует во всем творчестве Некрасова. Карнавал – вот еще один ключ к его поэзии.
Взгляните, например, что сделал он с чудной «Казачьей колыбельной песней» Лермонтова. Там, где у Лермонтова – нежность, любовь, тревога («Спи, младенец мой прекрасный, / Баюшки-баю. / Тихо смотрит месяц ясный / В колыбель твою. (…) Богатырь ты будешь с виду / И казак душой. / Провожать тебя я выйду – / Ты махнешь рукой… / Сколько горьких слез украдкой / Я в ту ночь пролью!.. / Спи, мой ангел, тихо, сладко, / Баюшки-баю»), – у Некрасова злобный оскал.
Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой,
Провожать тебя я выду —
И махну рукой!
В день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою…
Спи, пострел, пока невинный!
Баюшки-баю.
Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом…
Сколько здесь – о если бы только отвращения к человечеству (разве всякий чиновник непременно «подлец душой» и «ползет ужом»?) – сколько здесь презрения к первоисточнику. Некрасов не просто пародирует Лермонтова – он насмехается над ним, неталантливо, наивно, жестоко…
И если у Лермонтова младенцу пророчится неспокойное, но славное будущее, последние очертания которого пока не ясны, то Некрасов в конце своего предсказания ставит жирную точку – гаерски обыграв мотив народных колыбельных, отождествляющих сон и смерть.
Заживешь – и мирно, ясно
Кончишь жизнь свою…
Спи, чиновник мой прекрасный!
Баюшки-баю.
Некрасов вообще очень полюбил жанр таких вот предсказаний, пророчеств и, верный себе, обязательно добирался до заветного, самого сладкого. Смерть, гроб, кладбище, могила – вот что неизменно нагадывал Николай Алексеевич своим героям.
Слышь, как щепка худа и бледна,
Ходит, тоись, совсем через силу,
В день двух ложек не съест толокна —
Чай, свалим через месяц в могилу… —
так говорит ямщик о своей вполне живой и как будто любимой супруге («В дороге»).
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь… —
таким видится Некрасову будущее молодой красавицы крестьянки, стоящей на обочине дороги («Тройка»).
Или вот здесь, например, попробуйте сосчитать интереса ради, предвкушением скольких смертей поэт наполнил эти несколько четверостиший:
…Начинается всюду работа;
Возвестили пожар с каланчи;
На позорную площадь кого-то
Провезли – там уж ждут палачи.
Проститутка домой на рассвете
Поспешает, покинув постель;
Офицеры в наемной карете
Скачут за город: будет дуэль.
<…>
Чу! из крепости грянули пушки!
Наводненье столице грозит…
Кто-то умер: на красной подушке
Первой степени Анна лежит.
(«Утро»)
Помимо уже свершившейся смерти неведомого чиновника, впереди – новые и новые: на пожаре, на дуэли, при наводнении…
Некрасов не только мрачно пророчит – с тоскливым и восторженным наслаждением он и фиксирует чужие утраты. С наслаждением, иначе бы не повторял столько раз печального речитатива в стихотворении «В деревне»:
Умер, Касьяновна, умер, сердешная,
Умер и в землю зарыт!
Умер, Касьяновна, умер, болезная, —
Вот уж тринадцатый день!
И так до бесконечности – умер, умер, умер! Это не мать повторяет страшные для нее слова о собственном сыне – это смакует чужое горе поэт и гражданин Некрасов. Не зря Маяковский, любивший «смотреть, как умирают дети», звал его в свою компанию:
А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши, – он и в карты,
он и в стих,
и так неплох на вид.
Знаете его? вот он мужик хороший.
Этот нам компания – пускай стоит.
(«Юбилейное»)
Примеров пристрастия поэта к теме смерти не просто много – трудно найти стихотворение, за строчками которого беззубая не размахивала бы своей косой. Всюду мертвецы, всюду покойники – будь то «детская» поэма «Мороз, Красный нос» или стихотворение «Рыцарь на час», где герой зовет на свидание покойную мать, или хрестоматийная «Железная дорога», в которой поэт напускает на несчастного Ваню целую толпу мертвецов, садистски пугая его жуткими картинами.
Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках;
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах…
Довольно. «Гением уныния» называл Некрасова Корней Чуковский. Нет, это не просто уныние… С точки зрения культурного контекста это, вероятнее всего, невольное воспроизведение средневекового сюжета «плясок смерти». Но если в средневековой традиции скелеты клацали зубами для того, чтобы проповедовать живым бренность всего сущего на земле, если позднее, в эпоху Ренессанса, популярность того же сюжета выразила воистину смертный ужас Европы перед социальными потрясениями (эпидемиями чумы, Столетней войной, падением Византии, плодящимися ересями), – то Некрасов действовал интуитивно. В отличие, скажем, от Блока, который совершенно сознательно дал одному из стихотворных циклов название «Пляски смерти» и сознательно же отсылал читателя в стихотворении «Как тяжко мертвецу среди людей…» к некрасовским стихотворным фельетонам. Вслушайтесь в это стихотворение Блока: «Мертвец весь день трудится над докладом. / Присутствие кончается. И вот – / Нашептывает он, виляя задом, / Сенатору скабрезный анекдот…» В конкретности описаний, сюжетности, подчеркнутом прозаизме и публицистичности содержания блоковских «Плясок смерти» отчетливо проглядывает некрасовское влияние. Сам же Некрасов, повторим, вряд ли осознавал, в русле какой традиции он действует, однако благодаря опыту жизни в массовой, низовой литературе «торгашеской» частью своего существа точно чувствовал: тема смерти способна сбрызнуть и – да, оживить! – любой, даже самый завалящий литературный товар. И расчетливо поливал свою поэзию трупным ядом. Так выразительнее пахнет – а значит, на книжечку обратят внимание и купят.
Хотя, возможно, причина была не только в продаваемости темы: не исключено, что тут вступали в силу и другие механизмы, связанные с психологией личности Некрасова и, быть может, с его тайными душевными травмами (в раннем возрасте, например, он потерял любимого брата, друга юности, и смерть его тяжело переживал), но погружаться в эти материи – не наше дело. И потому остановимся на указании главной, как нам кажется, причины пристрастия поэта к теме смерти: выгода.
НАРОДНЫЙ ПОЭТ
Недаром приглянулся Некрасову и жанр стихотворного некролога – кого только не проводил он своим рыдающим стихом в последний путь: Белинского, Добролюбова, Шевченко, Писарева («Памяти приятеля», «Памяти Добролюбова», «На смерть Шевченко», «Не рыдай так безумно над ним…», поэма «Белинский»). Но все эти безумные рыдания над могилами выводят нас и к другой теме. Почему поэт так об этих людях скорбел? Отчего ему так важно было сказать о них не просто доброе, но и бесконечно идеализирующее их жизнь слово? Дело тут, очевидно, не в одном пристрастии к теме смерти, но еще и в разрывающем чувстве вины перед ними.
Они-то, в отличие от него, и правда жили в нужде, и почти все (за исключением разве что Шевченко) умерли молодыми. А он продолжал жить широко, настоящим русским барином, летом отправлялся в имение, то в одно, то в другое, охотился, гулял, вел переписку, ездил к соседям в гости – зимой плотнее занимался делами журналов, одного, потом второго, обеспечивавших ему совершеннейшее благополучие. Посещал Английский клуб, проигрывал (но и выигрывал) там громадные суммы, мало отличаясь от самых высокопоставленных его членов, которые часто и не подозревали, что сражаются в вист с известным поэтом.
«Балет, рысаки, шампанское, первоклассный портной, даже содержанка-француженка – все делало его вполне своим в этом обществе крупнейших помещиков, чиновников, инженеров, дипломатов, генералов», – пишет Корней Чуковский, один из самых внимательных исследователей творчества Некрасова. Чуковский приводит множество фактов, доказывающих, что в стихах Некрасов писал одно – в жизни делал совсем другое. Скажем, в гневной сатире обличал клуб гастрономов, обжирающихся, когда другие голодают, – а в реальности сам тайно к этому обществу принадлежал.
Чуковский был убежден, что Некрасов сохранял искренность и в том, и в другом. И в обжорстве, и в его обличении, что для него «столь же подлинным и органическим было плебейство», как и барство, и все это свидетельствовало не о «двуличности» поэта, а о его «двуликости». Потому что жизнь Некрасова, справедливо отмечает Чуковский, выстроилась так, что он принадлежал сразу двум слоям общества – разночинному и дворянскому. Так оно и было, конечно, но сам Некрасов остро ощущал именно свою раздвоенность (никакую не двуликость!) – об этом уже разобранное нами «Я за то глубоко презираю себя…», об этом «Рыцарь на час», «Зачем меня на части рвете…», «Скоро стану добычею тленья…» и т. п. И все же это противоречие – живу не так, как пишу, – ему удавалось преодолеть. Внутреннее примирение с самим собой достигалось при помощи простого признания – «я лиру посвятил народу своему». То есть – как бы я сам ни жил, в поэзии я призывал к добру, к состраданию русскому крестьянину.
…Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет Муза,
И в мире нет прочней, прекраснее союза!..
Толпе напоминать, что бедствует народ,
В то время, как она ликует и поет,
К народу возбуждать вниманье сильных мира —
Чему достойнее служить могла бы лира?..
(«Элегия»)
Это, впрочем, никак не разрешало другого, не менее болезненного противоречия.
…Природа внемлет мне,
Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта, —
Увы! не внемлет он – и не дает ответа…
Русский мужик, участь которого столько раз была оплакана, ведать не ведал, о ком там мечтают в редакциях столичных журналов их баре, – одних и других по-прежнему разделяла бездна. Но все же обойтись без народа Некрасов не мог, его «эгоистическая» поэзия нуждалась хоть в каком-то оправдании. И оправданием этим стал народ. «Народ был главным мифом его лирики, величайшею его галлюцинацией (…) Нужно же было ему найти какой-нибудь объект для лирических молитв и плачей. История подсказала ему, что этим объектом может быть только народ», – резюмировал Корней Чуковский.
Подробнее и настойчивее всего Некрасов лепил этот миф в своей эпической поэме «Кому на Руси жить хорошо» – в целом очень сильной, очень талантливой, очень музыкальной, но недаром незаконченной. Некрасов бился над поэмой более десяти лет – и все же не смог ее достроить, додумать. Русский мужик оказался русскому барину не по зубам, русский мужик долго топтался в передней у главного редактора главного журнала эпохи, пока не ворвался в кабинет и не задавил его хозяина своею массою.
Кого только не созвал Некрасов в свою поэму! Обилие персонажей в «Кому на Руси…» поражает – семь мужичков постепенно притягивают к себе и своему вопросу («кому живется весело, вольготно на Руси?») все больше и больше народу: за спинами отчетливых, стоящих на первом плане попа, помещика Оболта-Оболдуева, крестьянки Матрены Тимофеевны, дедушки Савелия, старосты Власа, народного любимца Ермилы Гирина, семинариста Гриши Добросклонова вырастают всё новые персонажи. Поэма взбухает, точно квашня: семинарист Саввушка, дворовый человек Викентий Александрович, смиренный богомол Ионушка, занимавшийся извозом Игнатий Прохоров, носитель вериг Фомушка, посадская вдова Ефросиньюшка, Егорка Шутов, которого мир постановил бить (а за что – неизвестно), – кого тут только нет. Холопы, господа, странники, богомольцы, пьяницы, каменотесы, солдаты, старики, парни, молодки, дети, поименованные и безымянные – голова идет кругом. Но ведь это «эпопея современной крестьянской жизни», как выражался сам Некрасов. Автору эпопеи жадничать не к лицу, в эпопее всего и всех должно быть вдосталь.
С точки зрения поэтического мастерства Некрасову здесь действительно многое удалось. В поэме есть несколько совершенно замечательных по выразительности массовых сцен – задолго до изобретения кинематографа Некрасов сумел выдумать вот такую, например, совершенно кинематографичную сцену, охватив взглядом и объединив в целое громадную толпу на базаре.
И чудо сотворилося —
На всей базарной площади
У каждого крестьянина,
Как ветром, полу левую
Заворотило вдруг!
Он замечательно зорко и быстро двигает свою камеру и в главе «Пир на весь мир», описывая, как крестьянская семья слушает басни захожих странников.
В избе все словно замерло:
Старик, чинивший лапотки,
К ногам их уронил;
Челнок давно не чикает,
Заслушалась работница
У ткацкого станка;
Застыл уж на уколотом
Мизинце у Евгеньюшки,
Хозяйской старшей дочери,
Высокий бугорок,
А девка и не слышала,
Как укололась до крови;
Шитье к ногам спустилося,
Сидит – зрачки расширены, —
Руками развела…
Ребята, свесив головы
С полатей, не шелохнутся…..
Пришла минута страшная —
И у самой хозяюшки
Веретено пузатое
Скатилося с колен.
Завершается сцена описанием хулиганства кота Васьки, который втихую размотал веретено с непряденой нитью. Это кошачье безобразие отлично рифмуется с окончанием рассказа, нить которого тоже оказывается размотана.
Самое распространенное заблуждение, связанное с «Кому на Руси…», состоит в том, что в основу поэмы будто бы положен взгляд народный, что Некрасов точно реконструирует здесь народное мировоззрение и поет голосами реальных русских мужиков. И баб (в главе «Крестьянка»). Реальных хотя бы потому, что в поэме постоянно присутствует фольклор – песни, пословицы, поговорки, приметы, почерпнутые Некрасовым из ставших в 1860—1870-е годы очень популярными сборников Е. В. Барсова, Ф. И. Буслаева, П. Н. Рыбникова, В. И. Даля.
Действительно: открывается поэма загадкой («В каком году – рассчитывай, / В какой земле – угадывай…»), начинается как сказка (здесь появляются и говорящая птица, и волшебная скатерть-самобранка), здесь звучат свадебные песни и т. д.
Все это убедило исследователей творчества поэта в том, что именно так, как написано у Некрасова, думают и говорят простые русские люди. Но, во-первых, фольклорные тексты – это все же не документальное свидетельство о народной жизни. А во-вторых, как буквально на пальцах показал в своей книге «Мастерство Некрасова» Корней Чуковский, даже дословно цитируя народные песни, загадки, сказки и пословицы, Некрасов помещает их в свой, специфический контекст, обрамляя цитаты необходимым ему смыслом. Впрочем, гораздо чаще автор поэмы и вовсе переплавлял, переиначивал, пересказывал фольклорный первоисточник на нужный ему лад. Фольклорные тексты, которые, как трогательно отмечает Чуковский, «украшали действительность», Некрасов переделывал так, «чтобы они правдиво отражали реальность», сгущая революционный пафос, отвращение крестьянина к помещику и общий мрак. И потому, например, влагая Матрене Тимофеевне в уста песню «Спится мне, младенькой, дремлется», заимствованную из сборника П. В. Шейна «Русские народные песни», отсек финальную часть фольклорного текста, в строках которой муж защищает жену от родни:
Мил-любезный по сеничкам похаживает,
Легохонько, тихохонько поговаривает: —
Спи, спи, спи, ты, моя умница!
Спи, спи, спи, ты, разумница,
Загонена, забронена, рано выдадена.
Понятно, что муж-заступник Некрасову, описывающему исключительно несчастья Матрены Тимофеевны, совершенно ни к чему. Филиппушка в «Кому на Руси…» хоть и любит жену, но против родни идти не смеет – напротив, убеждает «молчать, терпеть», а в угоду собственной сестре еще и бьет жену. И таких примеров тенденциозных некрасовских поправок, купюр, переделок в поэме множество.
Так что «Кому на Руси…» – поэма никак не народная. Это поэма, в которой народ, народная речь и образ мыслей вылеплены Николаем Алексеевичем Некрасовым настолько убедительно, что окружающие поверили, будто перед ними не подделка, а самый что ни на есть подлинник. Занятно, что поверил в это (наверняка не без помощи народников-демократов) и сам народ – отдельные стихи Некрасова стали народными песнями.
Поэт и здесь снова устроил карнавал, надел лапти, мужицкую рубашку, портки, созвал ряженых, живых и мертвых, званых, избранных, да и закатил пир на весь мир. На котором мы с вами до сих пор и пируем. И уже не разобрать – по тяжкой ли обязанности или по давней привычке, незаметно превратившейся в привязанность.








