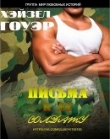Текст книги ""Может быть, я Вас не понял..." (СИ)"
Автор книги: Людмила Райнль
Соавторы: Исаак Дунаевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Но, увы, не могу представить Вам справки о том, что, сотни раз вспоминая о Вас, я чувствовал свою вину перед Вами, ибо Вы могли подумать бог знает что по поводу моего молчания. Если хотите, верьте мне без справки; если не хотите, дуйтесь на человека, который полон к Вам самых нежных чувств, но который достоин сожаления и сочувствия в его безграничной занятости в поездках. (...) Может быть, каменное сердце графини смягчится, если она узнает, что ее маркиз, горячо любимый маркиз, имел грандиозный успех у широких зрительских и слушательских масс и еще раз убедился, что [...] любовь народа к нему, маркизу, осталась незыблемой.
"...На румяных щеках графини появилось нечто вроде улыбки... Ведь она так верила в него и... не ошиблась..."
Итак, прочь шутки! Три дня в Москве оказались вполне достаточным сроком для того, чтобы узнать все сплетни и пакости, привести в порядок очень маленькую часть дел, связанную с бытом, увязнуть в модных сейчас экономических вопросах моего Ансамбля, который я, вероятно, не смогу предохранить от сокращения, и, воспользовавшись воскресеньем, засесть с утра за давно и душевно желанное письмо к «ней». Знайте раз и навсегда, что причиной молчания у меня в отношений Вас бывает часто невозможность написать такое длинное письмо, которое хотя бы немного исчерпало все, что мне хочется Вам сказать. Мне всегда кажется, что скомканным письмом я Вас обижу больше, чем молчанием. А ведь долгов у меня (помимо нот) накопилась уйма. Ни одного письма к Вам (верьте!) я не закончил. Сколько сокровенных тем и мыслей, событий и фактов я должен Вам описать и рассказать! Я еще даже не рассказал Вам о себе, о прошедших годах переживаний, я не рассказал Вам об общественных событиях, касающихся и волнующих меня. А нарастают все новые и новые. Я не рассказал о своем впечатлении от Вашего декабрьского письма, которое я снова перечитал и по которому мы с Вами должны открыть прения. Когда же все это сделать? Или объявить «Людмилину декаду»? «Воскресника» одного не хватит. (...) А как на двух-трех листиках описать все мысли и переживания, то есть поступить в духе той товарищеской дружбы, о которой Вы пишете? Разве, к примеру, Вам не хочется знать обо мне все? Именно все, начиная хотя бы с описания многих незабываемых встреч в поездке? Например, встреча с 2.000 студентов в Одессе? Хочется? А вот я не напишу, потому что мне еще надо сказать Вам, что на улице прекрасное весеннее солнце, что оно гармонирует с моей радостью по поводу того, что я пишу Вам, и что через три-четыре дня Вы перестанете на меня сердиться, и что еще через максимум четыре дня я буду держать Ваше письмо в своих руках, письмо, полное нежности и прощения. Как обидно мне, что среди вороха накопившихся писем я не нашел дома хотя бы одного Вашего, самого важного, которое я всегда распечатываю первым. А разве Вам не хочется, чтобы я описал свои мысли по поводу событий на музыкальном фронте? Хочется? А вот я не напишу, потому что мне еще надо сказать Вам, что «Вольный ветер» утвержден на Сталинскую премию и что со дня на день это должно быть опубликовано. Где же все обнять и все рассказать, когда надо сейчас кончать вступление к новому письму (опять долг!) и крепко поцеловать Вас, пожелав здоровья и всего самого лучшего. Да! Поцеловать! В цитированном выше романе герцога Ровиго дальше сказано:
"...Маркиз прижался губами к ее глазам, помутневшим от тоски и давно неизведанного счастья. Птички пели торжественную поэму любви. Солнце уже давно взошло, опаляя своими лучами алебастровые плечи графини, застывшей в поцелуе..."
Вот видите? Вы, конечно, рассудительно скажете, что, вместо всей этой болтовни, «он» мог бы давно уже кое-что рассказать интересное из обещанных тем. Но моя болтовня является свидетельством сам не знаю откуда пришедшего хорошего настроения, которым я хочу заразить и Вас – на случай, если мое письмо застанет «графиню» в невозмутимом и безразличном состоянии духа.
Ваш И. Д.
До очень скорого письменного свидания!
[Саки, 20 апреля 1948 г.]
Мой дорогой, горячо любимый маркиз!
Правда, в горячей любви графиня маркизу никогда, конечно, не объяснялась, но чувство его не обмануло: он действительно любим. И, откидывая прочь Вашу милую уловку, (...) пренебрегая всеми условностями (все так необычно в наших отношениях!), я могу действительно признаться в любви не только к композитору, но и к человеку (не к мужчине). И я иногда немного грущу о том, что моего чувства и моей преданности Вам никогда не узнать и не оценить в полной мере, потому что Вы – баловень судьбы, а истинное чувство всегда проверяется в беде. Другое дело, если бы Вы были несчастны, одиноки, забыты и покинуты всеми, но этого, слава богу, никогда не будет, поэтому печаль моя светла и прозрачна, как слеза ребенка, и неизменно переходит в радость (вот где диалектика-то!).
Знайте, что я на Вас не только дуться, но и обижаться никогда не буду, так как я понимаю Вас и ценю каждый знак внимания с Вашей стороны, горжусь им. Ну вот, хотела написать шутливое письмо, а вышло такое серьезное! (...)
Вы все время дразните мое любопытство и желание знать все о Вас – берегитесь, я буду платить Вам тем же. Хотите, я заинтригую Вас? Да? Ну так вот – первый сюрприз: письмо это Вы получили с опозданием потому, что только вчера я приехала из Москвы! (Могу представить не только справку, но и железнодорожный билет.) (...)
Я, кажется, начинаю верить в приметы. (...) Стоило Вам умолкнуть (а я действительно нехорошо объясняла себе это молчание), как на меня посыпались удары судьбы.
23-го марта я проездом была в Москве и испытывала почти непреодолимое желание позвонить Вам и послать свой, быть может, прощальный привет. Обстоятельства помешали этому. Потом, живя так близко от Вас, я десятки раз в день удерживалась от искушения услышать Вас, подходила к телефону – и уходила. (...)
Ну вот, хочется ли Вам узнать, что произошло со мной, чем была вызвана эта поездка, как я убереглась от большой опасности, почему сейчас больна и пр., пр.? Тем более что некоторую роль сыграли в этом и Вы. Я обещаю Вам обо всем рассказать подробно, но только после того, как Вы расплатитесь со всеми долгами. (...)
Не обижайтесь за краткость письма – я очень слаба.
Так как целовать себя я Вам не разрешала, то примите обратно свой поцелуй...
Ваш друг. (...)
Москва, 2 мая 1948 г.
Конечно, человеческий род имеет большое количество типовых разновидностей. Но я имею все основания предполагать, что инженер Людмила Райнль, проживающая в г. Саки, в Крыму, представляет собой уникум, давно ждущий научного исследования.
Вы совершенно достойны моей вступительной тирады, так как поступили: а) не как милый человек; б) не как друг вообще; в) не как любящий друг в особенности. Но самое странное это то, что Вы поступили как женщина. Какие бы ни были у Вас причины, чтобы не повидать меня, будучи в Москве,– самый факт никогда мною прощен Вам не будет. Я это говорю вполне серьезно. Вы пишете о большой опасности, которой Вы подвергались. Тем более! (...) Я допускаю, что Вы в Москве не были лишены и без меня дружеской помощи и участия. Это, в свою очередь, подчеркивает тот факт, что наши отношения и наша дружба стали окончательно литературными.
(...) Ну что же? Займемся литературой. Предупреждаю читательницу, что все нижеизложенное не является вымыслом, а сюжет построен на фактах, действительно имевших место.
День 1 Мая (поздравляю Вас!) выдался на редкость удачным. Радио сообщило, что такого теплого 1 мая не было с 1886 года. Так вот в этот день я, как обычно, пользуясь отсутствием телефонных звонков и всяких дел, собирался серьезно поработать. Но, увы! В 9 часов утра сообщили мне, что обворовали мою дачу. А в 1 час дня сообщили об ужасно трагической смерти моего хорошего приятеля и соратника по песням, поэта С. Алымова. (...) Я не могу сказать, что Алымов был вполне моим другом. (...) Но мы творили вместе, и,видимо, в этом все дело. (...) Вы, наверное, знаете такие песни, как «Пути-дороги», «Мечты солдатские», «Новогодний вальс». (...) Я лишился своего поэта, так хорошо понимавшего меня, очень любившего во мне и ценившего мою душу, мое творческое устремление. Я осиротел. Был у меня в прежние годы Лебедев-Кумач. Сейчас он очень болен, работает мало. Да и по-человечески он значительно бледнее Алымова. Повисли в воздухе мои творческие мечты. (...)
Вот, Людмила, какие дела! Я не буду расстраивать Вас дальше своими настроениями. Есть и радостное в жизни, да о нем писать не хочется. Кстати, несмотря на постановление Сталинского комитета об оперетте «Вольный ветер», правительство мне премии не дало. Пять минут продолжалось мое огорчение, уступив место философскому взгляду на вещи. (...) Самое смешное, что 19-го меня поздравлял с премией сам председатель Комитета искусств, газеты уже забрали мое фото, и вдруг... Ну, неважно! Пусть печалятся нищие творческим духом. Я не для премии работаю. Пока голова на плечах, я не унываю. Успех «Вольного ветра» огромен. Разве это не премия? (...)
Засим желаю Вам всего лучшего, здоровья, всяческих радостей. Целую Вас крепко, сержусь на Вас, но всегда люблю Вас и Ваши письма, которые буду ждать с нетерпением.
Умоляю поскорее написать! Не держите писем в кармане! Некрасиво!
Ваш И. Д.
P. S. Уже свернув письмо и положив его в конверт, я, перед тем как запечатать его, решил прочитать снова Ваше письмо. Я почувствовал, что Вы не совсем виноваты, а главное, что в своем ответе, увлекшись переживаниями, опустил то, очевидно, очень серьезное, что грозило Вашей жизни. Я почувствовал, что несправедлив к Вам: может быть, то очень важное, что Вы пережили, вынудило Вас избежать свидания со мной. Я не осуждаю Вас, потому что я очень Вас люблю, люблю все Ваше, люблю давно и как-то странно устойчиво. С тех давних лет, когда Вы впервые улыбнулись мне Вашим чудесным первым письмом. С тех давних лет, когда я так романтично разыскивал Вас. И это живет, живет. Странно, ведь я люблю и любил женщину, близкую мне, дорогую и сейчас. Но почему я так бываю одинок и мне не хочется делить ни с кем своего одиночества? Почему сегодня я так дорого бы отдал за свидание с Вами, моим фантастическим другом? Может быть, Вы боялись вспугнуть реальностью мир наших «волшебных» отношений?
Пойду и напьюсь! Во имя Вашей жизни, Вашего счастья. Мне грустно...
Москва, 16 мая 1948 г.
Людмила, дорогая, что с Вами? Это ни на что не похоже! И все потому, что Вы не докладываете мне о Ваших действиях, живете, совершенно отбившись от рук. Я просто ахнул от тревоги и боялся распечатывать конверт, написанный рукой Вашей мамы! Разве можно так пугать? (...)
Что у Вас? Я немного понимаю в медицине, но мастит – это воспаление грудных желез, бывающее у кормящих женщин... Вы – кормящая женщина? Когда Вы родили, от кого, кого? Как постыдно осознавать, что так называемый друг не считает нужным сообщать об очень важном, что случается в его жизни. (...) Я теперь не верю ни на грош всем Вашим уверениям в дружбе. И не смейте мне о ней больше говорить. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, официально и извольте немедленно написать, как Ваше самочувствие. Вы не подумайте, что я в любую минуту прощу Вас. Только Ваши большие и чуткие поступки могут вернуть Вам мое, увы, потерянное отношение и прощение. Вот как я с Вами буду поступать. И в качестве иллюстрации моей суровости я посылаю Вам мой новейший, несколько кокетливый портрет.
Если у Вас есть любящий и любимый человек, пусть он ревнует Вас, как Отелло.
В этом письме я Вас целовать не буду – Вы не заслужили моей ласки.
С совершенным почтением, милостивая государыня.
И. Дунаевский.
26/V—48 г.
(...) Ну что ж, начну с фактов, а потом попытаюсь объяснить их. Во-первых, сегодня исполняется два месяца моему младшему сыну Сергею, во-вторых, я бесконечно рада, что опасность для меня миновала и дело не дошло до операции, в-третьих, передо мной лежат два письма: отца моего ребенка и Ваше, и я отвечаю Вам первому.
(...) Подумайте только, два года тому назад я была веселой и беззаботной, как птица! На Перекопе, где началась моя производственная работа, я сразу же попала в компанию молодежи, милых и интеллигентных людей. (...) Были счастливы и резвились, как дети. И вот случилось так, что из Симферополя к нам приехал монтажник для установки стационарного киноаппарата в нашем клубе. (...) Сама не знаю как, против моего желания, начался молниеносный роман. Как будто дурманом меня опоил. (...) Но главное – это дети. Он сумел их так расположить к себе, что они в нем души не чаяли, как и моя мама (первое время). Я поверила, что он будет для них настоящим отцом, лучшим, чем их родной отец. И несмотря на то, что я никогда не могла ответить утвердительно на его вопрос – люблю ли я его хоть немного,– несмотря на то, что многое в нем было противоположно моим представлениям о мужском идеале и вызывало во мне какое-то органическое отвращение, я поверила и удивилась его необыкновенной любви. (...) Что он был когда-то женат и имеет ребенка, я знала давно от него, но он вдруг сознался, что до самого последнего момента жил вместе с женой, с которой решил, правда, расстаться, так как она была неверна ему, но которую все-таки бросил только тогда, когда полюбил меня. После этого признания, когда он плакал у моих ног, все сомнение, недоверие и отвращение к нему всколыхнулось во мне с новой силой. И я стала так обращаться с ним, разрешать себе такие поступки, что мне теперь стыдно о них вспомнить. (...) Он терял мое уважение и в то же время поражал силой своего чувства, какой-то собачьей преданностью. Из Перекопа, где не было подходящей для него работы, он по моему совету переехал в Саки, откуда непрерывно звал меня к себе. Я же в это время серьезно подумывала о том, чтобы навсегда разорвать с ним всякие отношения. Но дети уже научились звать его отцом и очень любили его, это и решило мои сомнения. В Саках началась та же история. (...) Эта жизнь продолжалась года полтора, пока я невольно не оскорбила его так ужасно, что он сделался больным от ревности. (...) Как он ревновал к Вашим письмам! И однажды даже унизился до того, что спросил, от кого я получаю письма, так действующие на меня (я помню, что когда я читала одно из Ваших писем, он в это время смотрел на меня, и я почувствовала на своих щеках проступивший румянец).
Мы последнее время все думали о переезде в другое место. (...) Было решено, что Игорь (мой муж) поедет первым, устроится. (...) Но я-таки допекла его окончательно, и он из Москвы прислал мне прощальное письмо. (...) Поступок был, правда, некрасивый, так как я ждала ребенка от него, но мое сердце вдруг пронзила такая острая жалость к нему, тем более что я была вполне согласна с его письмом и чувствовала свою вину перед ним, что я, недолго думая, собралась и поехала в Москву накануне родов. (...)
В Москву я доехала благополучно, где меня на день задержала его тетка, а ночью уже отвела в родильный дом. И вот, вдали от всех близких, родился у меня сын. Тяжело мне было, но не хотелось никого видеть. (...) Все это время, пока не приехал из Данилова Игорь, посещала меня только его тетка. (...) Мы объяснились и решили пожить некоторое время отдельно. (...) В Москве нас очень приглашали на завод возле Свердловска, возможно, туда и поедем и попробуем жить по-новому. Во всяком случае, я постараюсь быть ему примерной женой: если уж этот нежеланный ребенок родился, то я не хочу лишать его отца. (...)
Вот теперь Вы можете судить меня как хотите. И можете решить, могла ли я в таком состоянии и положении стремиться увидеться с Вами, тем более что вы несколько долгих месяцев молчали, и это совпало с отправкой Вам моего злополучного фото, что не могло не внушить мне некоторых мыслей. Кстати, я должна поблагодарить Вас за Ваш замечательный портрет – время, очевидно, не властно над Вами.
Вот исписала убористо четыре листа и так мало сказала! (...) Вы знаете, когда я впервые вышла из больницы и зашла в парк, я увидела сочную, свежую траву между покрытыми свежей листвой деревьями и благоухающими кустами сирени, и мне вдруг захотелось, как девчонке, покувыркаться в этой мягкой траве. Только большая слабость и сознание, что я все-таки мать трех детей, удержали меня от этого легкомысленного поступка. (...)
(...) Так смените же гнев на милость, не браните больше Вашу бедную «смеющуюся Людмилу». (...)
Москва, 5 июня 1948 г.
Прочитал Ваше письмо. Тут уж подлинно скажешь: ...М-да-а-а-а!
Но давайте по порядку. Прежде всего я очень рад, что Вы выздоровели, и, как бы там ни было, прошу принять мои поздравления с рождением сына. Это существо ни в чем не виновато, и давайте пожелаем ему здоровья и хорошего роста. Я немного растерян в своих мыслях и не знаю, выражать ли Вам сочувствие или, честно говоря, ругать Вас.
С одной стороны, передо мной трудный и мучительный, полный тревог и смуты путь человека. С другой – совершенно неожиданное для меня опровержение всех моих представлений о нормальных человеческих характерах, чувствах и взаимоотношениях. А самое главное, Вы предстаете передо мной с таких сторон, о которых я не догадывался и которых, прямо скажу, я не хотел бы знать о Вас. Не то, что Вы разрушили свой образ, живший у меня так нерушимо и целостно до дня Вашего первого письма. Не то, что Вы сами поставили смеющуюся Людмилу в кавычки, тем самым приглашая и меня это сделать. Нет, нет, мои ощущения сложнее. И если я в чем-нибудь разочарован, то это только в том, что мне Ваши переживания казались издали более возвышенными, чем на самом деле. Людмила чудесно и обаятельно смеялась, и я хотел бы, я думал, что горе ее и все мучительные трудности, все пережитое ею за долгие годы,– все это будет светиться тем необычным и чудесным светом, отличающим поэтическую, содержательную натуру, какой Вы являетесь передо мной в Ваших чудесных письмах. (...)
В поисках простого человеческого счастья нельзя губить свою душу, нельзя унижать себя и других, как это Вы сделали; нельзя метаться из стороны в сторону, поддаваясь соблазну дешевого оригинальничания.
Все, что Вы мне описали, свидетельствует лишь о том, что Вы просто плохо знаете и себя и людей. Странно, что неумение определить свои подлинные чувства Вы возвели в некий образ жизни и мышления, в систему взаимоотношений. Не зная, для чего Вам это нужно, Вы чуть ли не из спортивных помыслов увлекаете человека. Не зная, любите ли Вы его, Вы отдаетесь ему. Не зная будущих путей Ваших взаимоотношений, Вы сходитесь с ним для брачной жизни. Измучив человека довольно оригинальной системой обращения, происшедшего только оттого, что Вы не знали, заслуживает ли он Вашей любви и доверия, Вы, после того, как он Вас покинул, рискуя своей жизнью и жизнью будущего ребенка, бросаетесь в путь за ним, за этим человеком, отцом Вашего ребенка. И сейчас, устав от надуманной Вами же борьбы, Вы склоняетесь перед фактами, каковые неумолимо существуют.
Извините меня, мой странный друг, за то, что Ваши мучительные переживания, Вашу боль и слезы, Ваши физические муки я так сухо и, может быть, жестоко вложил в простую, до ужаса простую схему. Но Вы не сможете меня опровергнуть, потому что всю свойственную Вам романтичность и поэтичность, которая Вас не покидает даже при описании, по сути дела, этически отталкивающих вещей, Вы сами разменяли на... пошлость. Вся ведь штука в том, что за красивой природой, за искрящимся смехом, за вальсированием на асфальтовой дорожке, за полнотой мимолетных желаний и капризов, за сладостью тревожащих тело снов идет жестокая, обыкновенная жизнь с ее уплатой по гамбургскому счету.
В том-то и великая трудность человеческого поведения и такта, чтобы сделать переход из мечты в явь возможно более возвышенным и незаметным для внутренних эстетических чувств.
Что же осталось от брызг Вашего обаяния, юмора, радости и солнца, которыми Вы щедро наделяли окружающих Вас и встречаемых Вами людей (в том числе и меня)?
Осталась простая, бедная женщина с тремя детьми, собирающаяся с мужем в дальний, неизведанный путь борьбы за обыкновенное существование.
За все счастье, за все радостное и хорошее, что Вы мне дали своим существованием, своей перепиской со мной, я плачу той болью, которую нанес мне Ваш удар – Ваш последний рассказ. Это не боль жалости к Вам, это не боль разочарования. Это боль протеста против всего того, что Вы сделали с собой. И несмотря на то, что любое наше письмо я не променяю на все Ваши перипетии, я так же, как и Вы, принимаю факты такими, какие они есть. И поэтому, а также и потому, что люблю Ваш привычный образ, я от всего сердца желаю Вам счастья и... покоя. (...)
(...) Мне очень больно, что в Ваших переживаниях Вы всячески избегали обращения ко мне, которого Вы называли другом. Вы хотели не вмешивать меня в Вашу земную жизнь, оставив мне сферу Ваших «небесных полетов». Это очень гордо и красиво, но... я не могу поблагодарить Вас сейчас за это, потому что мне пришлось выпить сразу большой кубок Ваших житейских страданий. И, может быть, если бы я пил вместе с Вами по каплям, моя дружеская любовь, мой разум спасли бы Вас от многих ошибок. (...)
Напишите мне обязательно, куда Вы едете и как мне писать Вам, если Ваш муж позволит нам переписываться. Убедите его в том, что это совсем не опасно для его семейного благополучия.
Ваш И. Д.
Если будете в Москве, я обязательно хочу Вас видеть. (...)
P. S. У меня завелась привычка: после написания Вам письма снова перечитывать Ваше. Так я сделал и в этот раз. Вы пишете, что ждете моего ответа и совета с тревогой.
Что я могу Вам теперь посоветовать? (...) Судя по Вашим собственным высказываниям, Ваши отношения с мужем изрядно покалечены уймой ненормальных элементов. (...) Мне кажется, что если вы оба не проявите достаточной воли и разума к тому, чтобы постараться вытянуть и развить все лучшее, что, несомненно, существует у вас по отношению друг к другу, то вы не уживетесь. Мне также кажется, что если Вы идете в жизнь с человеком как на смирение, сохраняя в душе Вашего мечтательного и поэтически рвущегося куда-то беса, то добра из этого не выйдет. Разные характеры – это полбеды, а вот если в душе звучит разная музыка мира, любви и природы – это уже плохо и добра не сулит. Консерваторий для обучения такой музыке не существует. Увы!
Ваш И. Д.
Людмила! А все-таки УМ – великая вещь. Сейчас Вы должны пользоваться только им.
[Арамиль Свердловской обл.] 24/VIII—48 г.
Дорогой Исаак Осипович!
Я себя сегодня чувствую так, как будто бы проснулась после длительного тяжелого сна, во время которого мне и приснились все мои злоключения. И пробудившая меня музыка была музыкой Ваших мелодий. (...)
Уже без прежней боли я перечла Ваше последнее письмо (письмо, которым Вы меня так глубоко ранили) и еще раз убедилась в силе Вашей логики и анализа. Во всем почти Вы правы, Ваши выводы, правда, беспощадные для меня, помогли мне лучше разобраться в себе самой. Одним только словом нанесли Вы мне пощечину незаслуженно – никогда я не была и не буду пошлой и вообще органически не перевариваю пошлость. Ну, к этому разговору когда-нибудь еще вернемся, сейчас могу только сказать, что, следуя Вашему мудрому совету, взялась за ум и самоанализ. О результатах напишу позже, когда сама буду уверена в них. (...)
Желаю Вам здоровья, счастья и радости.
Л.
Москва, 31 августа 1948 г.
Дорогая Людмила! Ваше письмо вернуло мне веру в Вас, которую я было начал терять. Вы даже не могли предполагать о тех переживаниях, которые я испытывал в связи с Вашим долгим молчанием. Ведь Вы исчезли, не указав в последнем письме адреса. Таким образом, мне казалось, что я снова Вас потерял. (...)
(...) Чувство большой человеческой горечи я сменил на «все равно» и запрятал глубоко-глубоко затаенную надежду, что Вы снова дадите о себе знать когда-нибудь. (...) Так я с Вами попрощался и хотел уже как-нибудь в свободный часок собрать Ваши письма и связать их в пачку как «законченное дело о жизни, дружбе и странном конце хороших взаимоотношений двух рабов божьих, имярек».
Но вот Вы и появились с... Востока. Я подумал сейчас о том, что сказал бы, читая эти строки, Ваш близкий, любящий и любимый человек, например, муж? Имел ли бы он право ревновать Вас? (...)
Ваш образ не мешает и не мешал мне любить, увлекаться и жить, как хочется. Я не «крутил» с Вами романа по переписке, я не ревновал Вас. Наши жизни идут параллельно, не мешая друг другу. И все-таки эти пересечения наших путей, эти иногда нечастые письма всегда создавали такое ощущение, что есть в моей жизни «НЕКТО и НЕЧТО», о чем, хочешь не хочешь, а думаешь, чего, хочешь не хочешь, а ждешь. И это «нечто», такое радостное, такое нужное, всегда было покрыто в душе облачком грустной ласки и нежной благодарности. Вот, пожалуй, я на этом закончу свое затянувшееся вступление, сам испугавшись, как бы не случилось, что, развивая мысли о своих ощущениях, я и впрямь могу доказать, что можно и следует ревновать и такому «нечто». (...)
Я, конечно, несказанно радуюсь, что в Вашем письме прозвучала прежняя Людмила. Но Вы, вероятно, слишком высокого мнения о моих способностях видеть все на расстоянии. Конечно, я могу себе представить, как хорош сосновый бор на Урале. Я могу себе представить также, что новая работа может захватить и что ради нее можно забросить и «домашние дела». Но все же Ваше письмо требует серьезных комментариев, и я думаю, что Вы не замедлите их мне дослать. (...)
Я Вас не собирался преднамеренно оскорблять, обвиняя в пошлости. Я Вас слишком хорошо чувствую, чтобы считать пошлой. (...) Но знайте, что самый лучший, самый светлый человек опошляется, если он летает ниже своих возможностей и если в этом низком полете он кричит: «Как мне хорошо!» А оказывается, что он сам себя обманывает, врет сам себе. И это есть пошлость. (...) В Вас, Людмила, есть подлинная и вместе с тем ясная и простая поэзия. Вы должны в жизни, как бы сказать, жить стихами. Поэтому и подпускать к себе Вы должны людей только таких, которые это понимают. (...) Крылья у Вас целы! Целы! Пригладьте немного помятые перья и пойте во весь голос во славу жизни и неиссякаемой красоты!
О себе мало что могу сказать. Все по-прежнему. (...)
Желаю Вам счастья, здоровья и радости, моя Людмила, мой друг.
Ваш И. Д. (...)
Москва, 19 декабря 1948 г.
Уходят недели, за неделями – месяцы, а Ваших писем нет. Я еще в начале сентября ждал письма Вашего в ответ на мое. Может быть, оно затерялось? Проверил по атласу СССР. Арамиль – город, расположенный чуть к юго-востоку от Свердловска. Значит, это не такая безысходная глушь, какой она мне раньше представлялась. (...)
(...) Ваше молчание начинает меня и удивлять и серьезно беспокоить. (...) Если Вы получите это письмо, черкните мне хотя бы пару слов, даже если эта пара слов будет Вашим нежеланием со мной переписываться. Тогда я просто буду знать, что ждать Ваших писем мне уже не надо.
В качестве вознаграждения за сообщение, что с Людмилой и почему она молчит, я Вам в любом случае вышлю много своей музыки, которую я для Вас собрал. (...)
И. Д.
[Арамиль, 27 декабря 1948 г.]
И как перлы в загадочной бездне морей,
Как на небе вечернем звезда,
Против воли моей, против воли своей —
Ты со мною везде и всегда!..—
сказал Апухтин и я.
Милый друг!
Вот, не писала Вам так долго, а не прекращала ни одного дня душевного общения с Вами. Как странна и удивительна общность наших чувств в нашей необычной дружбе! Когда я читала Ваши строки о «некто» и «нечто», мне казалось, что я читаю свои мысли по отношению к Вам. Одно сознание, что Вы существуете и иногда вспоминаете обо мне, наполняет мою жизнь особым содержанием.
Ну вот – после таких признаний я вряд ли решусь предстать когда-нибудь перед Вашими сиятельными очами.
Теперь о том, что было причиной моего молчания. Почти два месяца я боролась за жизнь своего малышки, сына, который был мне почти безразличен и, во всяком случае, лишним в моей жизни и который теперь мне так дорог. (...)
Я знаю, мне опять достанется от Вас за это. Я понимаю, что так друзья не поступают, что нужно делиться и хорошим, и плохим, но Вы – необычный друг, и я никогда не могу себя заставить относиться к Вам запросто, как отношусь к товарищам своих детских лет. К тому же Ваша жизнь так отличается от моей «борьбы за существование», что Вы не сможете себя представить на моем месте. И то, с чем приходится мне поневоле каждодневно сталкиваться, может произвести на Вас впечатление «житейской грязи», от которой мне всегда хочется оберечь Вас. И еще дьявольская гордость, вернее, ложный стыд мешают просто сказать, что мне сейчас плохо живется. Возможно, это потому, что я с детства избалована. Но должна сказать, что я – заведующая химической лабораторией завода, правая рука главного инженера завода – принуждена урезывать себя и семью во многом для того, чтобы приобрести нужную вещь, не говоря уже о предметах комфорта, которые сейчас для меня недоступны. Приходится, например, только мечтать о хорошем радиоприемнике и довольствоваться репродуктором.
Между прочим, в Крыму, когда у нас был радиоприемник, я как-то слышала Ваше выступление по радио с обработанными Вами негритянскими песнями. Помню, что на меня очень подействовал Ваш голос, взволновал и смутил меня так, что я почувствовала, что краснею, и сердце ускоренно забилось. Это – от одного звука Вашего голоса... [А] что было бы при встрече! Я бы или окончательно смутилась и потерялась, или бы излишней развязностью попробовала перебороть себя.
Ну вот, начала письмо в мажорном тоне, а кончаю в минорном. (...)
Ваше последнее письмо принесло мне большую радость, которая живет во мне и сейчас. Это письмо убедило меня в том, что я для Вас кое-что значу даже теперь, когда Вы узнали все мои недостатки. Правда, мне было бы еще приятнее, если бы Вы не доказывали, что ревновать к Вам не следует. Кстати, нет нужды Вам сейчас об этом беспокоиться, так как я живу одна, без мужа. Переписка с ним оборвалась. (...) Решив, что я теперь для него пожертвую всем, он потребовал от меня, чтобы я своих детей отдала их отцу. (...) Убедившись же в том, что дети у меня на первом плане и для него я ими никогда не пожертвую, он умолк, по-видимому, навсегда. Мне это особой боли не принесло, так как я во всем обвинила только себя. Обидно лишь за сынишку. (...) Ну, о нем довольно. Меня сейчас гораздо больше интересует, как и где Вы отдохнули. Надеюсь, хорошо?
Близится Новый год, а это мой любимейший праздник. Как хотелось бы мне встретить его вместе с Вами! (...)