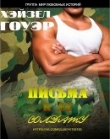Текст книги ""Может быть, я Вас не понял..." (СИ)"
Автор книги: Людмила Райнль
Соавторы: Исаак Дунаевский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Вы постарайтесь все же отыскать мое утерянное заказное письмо, в нем я так много и так подробно говорю о своей жизни – что меня окружает, кто, где, как и чем. Понятно или нет? Столько интимных мелочей, на которые мне хотелось бы получить Ваш отклик.
В отпуск я смогу пойти не раньше 5-го августа. (...) Два-три дня использую на устройство домашних дел, и не позже 10-го августа я – в Москве, при условии, конечно, что Ёжик будет здоров, а Вы никуда не уедете. Я очень хочу этой встречи и по-прежнему боюсь ее.
Уж видно, чем любовь сильнее,
Тем за нее страшнее нам.
(Нравятся ли Вам «Строки любви» Щипачева? Мне – очень.)
Мне хочется рассказать Вам еще одну сказку, читанную в детстве. Все подробности стерлись у меня в памяти, помню только основное. Одна девушка (конечно, необыкновенная красавица) отправляется искать своего верного рыцаря, заточенного в мрачном царстве злыми силами. Многое ей приходится перенести и пережить: для того чтобы перейти пропасть по узенькой доске, кроме решимости, приходится жертвовать русой косой до пят, в другом случае ей приходится отдать румянец щек, нежную кожу, звонкий голос и т. д. В общем, из красавицы она превращается в дряхлую старуху с молодыми, живыми глазами – единственное, что ей разрешено было оставить от былой красоты. Наконец, любовь торжествует, узник освобожден, но, выходя из подземелья рядом со старухой, он не знает, что обязан ей своим освобождением и своей жизнью, не знает, какой ценой они куплены. И, мечтая о своей возлюбленной, он не узнает ее в старушке с удивительными молодыми глазами, пытливо глядящими на него.
Так вот, когда Вы не узнаете своей Людмилы, то вспомните, пожалуйста, эту сказку. Я все та же, но тяжелая многолетняя борьба за жизнь дорогих мне маленьких существ (никому, кроме меня, не нужных) сделала из меня то, чем я стала теперь. Узнайте же свою «маленькую» в большой, постаревшей, неуклюжей от смущения «Людмилище». А было бы замечательно, если бы я чувствовала себя свободно в Вашем обществе.
Я жду Вашего большого и скорого письма и сообщения о том, где Вы будете в августе месяце, будете ли ждать меня.
На прощанье мне хочется поцеловать Вас так, как Вы того заслуживаете. Но, играя струнами моего сердца, умоляю, не порвите их, не разбейте его. Берегите этот мой дар Вам.
Ваша Л.
Благодарю Вас за все!
25.VII.1949 г.
Моя дорогая Людмила! Ничто меня так не радует, как Ваше признание моей дружбы и нежности к Вам. Я должен Вам сказать, что по отношению к Вам я, кажется, собрал в себе всю верность и постоянство, которое я обычно давал людям только по частям. Зародившемуся во мне много лет тому назад чувству светлой дружбы к Вам я не изменил и не изменю. У меня есть жена – любимая женщина, у меня есть большой сын от прежней жены, с которой я формально не разведен, у меня есть маленький сын 4,5 лет от фактической моей жены (весьма сложно – не запутайтесь!), я – человек увлекающийся, жизнелюбивый, может быть, грешный в чувствах своих и стремлениях, но «почему-то» всегда и неизменно радуюсь Вам, радуюсь мысли о Вас, радуюсь Вашему письму, и если нет его долго, то среди всех моих чувств, прихотей, удовольствий, забот и дел находится место для грусти и беспокойства.
Но я не с этого хотел начать свое письмо. Мысль о Вас потянула меня в другую сторону. Я хотел сказать Вам, что радуюсь выздоровлению Вашего Ёжика. Ваша осторожность в оценке его состояния мне понятна, но мне думается, что он на пути к выздоровлению. Я бесконечно благодарен Вам за письмо, которое я ждал с мучительным нетерпением. Ведь я знал, что должен буду простить Вам и долгое молчание, если бы Вы не смогли ответить мне так скоро, как мне хотелось. Но Вы ответили скоро, и я это воспринимаю как акт большой и ласковой чуткости.
Ваши письма я сначала проглатываю, потом откладываю, а потом снова, уже медленно, перечитываю. И перечитав [последнее письмо], я не мог понять, почему в Вас могло шевельнуться враждебное чувство ко мне. И почему, только получив мое письмо, Вы оценили мою дружескую «акцию»? А разве она Вам была не ясна до получения письма?
С некоторых пор я недостаточно ясно понимаю характер Ваших чувств ко мне. Я привык к тому, что в Вас живет дружеская нежность, может быть, даже любовь или, вернее говоря, некоторая разновидность этого чувства, основанная на хорошем доверии, искренности, на вере в мою правдивость и искренность. Я привык к тому, что порою наши «трансцендентальные» отношения вырастали в романтическое представление друг о друге, сливались где-то в нечто большее, чем дружба. Но когда Вы говорите мне о сердце, которое я не должен разбивать, и о его струнах, которые я не должен разрывать, мне начинает казаться, что, сам того не желая, я совершил ошибку, «играя струнами» Вашего сердца, как Вы пишете. И разве в самом деле Вы так воспринимали мою любовь к Вам, мое нежное бережение Вас, как игру на струнах Вашего сердца? Я меньше всего играл на этом инструменте и считал бы такую игру недостойной себя и ненужной для нас обоих. Я хотел, чтобы Вы любили меня так, как я Вас люблю. А я Вас люблю, ценю, уважаю. Люблю Вашу чистоту, ум, волю, борьбу за жизнь, достойную лучших результатов. Люблю мое солнышко, «смеющуюся Людмилу», нежно светившее мне в ту пору, когда мы оба были моложе на одиннадцать лет. Люблю мою привычку любить Вас, хотеть Вашего голоса. Люблю Вашу любовь к моей музыке, хочу, чтобы Вы во мне видели самого большого друга, большего, чем все те, которых Вы любили, любите и будете любить как женщина. Хочу, чтобы через все Ваши чувства и привязанности мой образ светил Вам как нечто особое, стоящее над всем и всеми. Я не знаю, почему это так, но это так. Но... Но в своем захвате Вас, захвате человечески простом, но могущим быть жестоким, я не хочу и никогда не хотел той, другой любви, где сердца и тела сливаются уже в других помыслах, в других влечениях и в другой взаимозависимости.
Это очень сложная сторона чувств, но я думал о том, возможна ли была бы наша физическая близость как некий порыв, выливающийся из длительного душевного общения двух в сущности весьма земных людей, которые остаются таковыми, сколько бы они ни распространялись на тему о «пространственных» чувствах, о «творимых легендах» и «нереальных реальностях»? И я отвечаю на этот вопрос: Да! Возможна! Но только тогда, когда она будет одинаково понята и одинаково прочувствована именно как часть только нам известного, только нами оберегаемого нашего глубокого внутреннего мира, частью которого уже давно стала наша переписка.
Тогда это не будет грехом. Тогда это будет свободное желание, такое же свободное, какими являются все наши отношения.
Когда Вы призываете меня беречь Ваш дар – сердце, то я могу Вам сказать, что Вашу дружбу и человечески свободную любовь, Ваше доверие ко мне я буду свято хранить и беречь и никогда не позволю Вам разочаровываться во мне. Но если под эгим даром я должен понимать родившуюся под влиянием одиночества и неосторожной «игры на струнах сердца» Вашу подлинную и полную любовь ко мне, то я скажу Вам, что где-то я совершил страшную ошибку, в которую вовлек и Вас.
(...) Я буду очень несчастен, если в наши отношения войдут элементы, способные породить страдания. (...)
Я не знаю, то ли я сейчас говорю, так как голова не способна найти формулировки, которые бы объяснили мои мысли и чувства. Это было бы слишком ужасно, если бы я был неверно Вами понят.
Я так ценю все Ваше, что для меня было бы горем потерять хоть крупицу его.
Вы мне снова рассказали чудесную сказку. Но она не совсем подходит ко мне. Я Вас люблю любой. Эстетика моего восприятия Вас не зависит от Вашего реального образа, и этим я подтверждаю все, что я говорил выше о моих чувствах.
А вот существовала когда-то умная, немного «вывихнутая» пьеса Евреинова «Самое главное». Пожалуй, ее содержание ближе к нам. Я Вам о ней расскажу в следующий раз.
Встречи со мной не бойтесь. А стихи Щипачева меня не очень греют. Я вообще считаю, что у нас нет поэзии и поэтов. Поэзия – это творчество тончайших душевных инстинктов. Я знаю лично почти всех «выдающихся» поэтов – моих современников. Сейчас, кроме Исаковского, подлинных поэтов нет! Все остальные – это молотобойцы, которые выбивают стихи, а не пишут на струнах сердца. Кроме того, большинство из них малокультурно и халтурно. Кроме того, они слишком развращены всякими «необходимостями политики», чтобы честно служить своим музам.
10-го августа я буду в Москве. Возможность моего отъезда из Москвы к режиссеру Пырьеву, находящемуся сейчас на Кубани, не исключена, но произойдет [это] не ранее 20-го августа.
Крепко Вас целую, моя Людмила, мой друг любимый.
Ваш И. Д.
P.S. Снова перечитал письмо Ваше. Там есть место, где Вы объясняете мне Ваши чувства. После этих простых слов захотелось уничтожить все, что я Вам наболтал. Но я хочу, чтобы ничто из моих мыслей не было скрыто от Вас. Поэтому я отправляю письмо таким, как оно написано.
Вы – чудесная, Людмила!
Спасибо Вам, что Вы есть.
И. Д.
Уже полное утро!
На конверте адрес «Бобровка». Пишу по нему. Всегда интересовался, почему Ара– миль, а не Бобровка. Штемпель всегда был «Бобровка».
Жалко, очень жалко утерянного письма. Попробую навести справки, хотя, видимо, это безнадежно.
5.VIII.49 г.
Мой милый, дорогой друг!
Вы вызываете меня на разговор о моих чувства к Вам. Ну что же, Ваше желание для меня закон. Я вообще не представляю себе, что я могла в чем-либо Вам отказать. Кстати, может быть, мой самоанализ поможет и мне лучше разобраться в «обстановке». Дело в том, что я сама не могу достаточно ясно разобраться в своих ощущениях и чувствах. Полная это или неполная любовь – не знаю, но что она подлинная – в этом я уверена. Будь я поэтом, я сказала бы, что чувство это нежно и свежо, как легкое дуновение воздуха в знойный летний день, чисто – как душа ребенка, ярко – как солнце, прекрасно – как жизнь, сильно – как смерть! Да, это так! Но кое в чем Вы ошибаетесь. (...)
Знакомо ли Вам выражение «экзотермическая реакция»? Эта реакция не может начаться самопроизвольно. Для нее необходим приток тепла извне. (...) Остановить такую реакцию уже невозможно, она идет самопроизвольно.
Не подумайте, пожалуйста, что я такой вулкан страстных чувств и стремлюсь в Москву для того, чтобы испепелить Вас и сделать несчастным при виде моих страданий.
И напрасно Вы пытаетесь застраховаться на случай моего приезда перечислением своего семейного благополучия, подчеркивая, что обладаете любимой женщиной, а мой удел – только дружеская любовь, которая лишь в нереальности может иногда казаться тем, что Вы называете полной любовью. Подумайте, ведь Вы в этом письме даже ни одного раза не позвали меня, не выразили желания встретиться со мной! После этого я даже не знаю – нужна ли моя поездка, стоит ли мне ехать в Москву.
Да, Ваша правда (я перечитываю Ваше письмо), наша физическая близость возможна, и именно как порыв (это не по Вашей подсказке, а мое убеждение). Но этот порыв я всегда могу подавить в себе. И я смогла бы уйти совсем с Вашей дороги, если бы это потребовалось, если бы Вы этого захотели. (Каюсь, я не могу представить себе, чтобы Вы этого захотели.) Вы предоставляете мне лазейку для объяснения моих чувств. Я не хочу пользоваться ею. Я всегда была откровенна с Вами, и меня больно ранило бы Ваше недоверие. Я чувствую к Вам такое глубокое доверие, что если бы Вы обманули его, если бы я разочаровалась в Вас – жизнь потеряла бы для меня всякую привлекательность. Вот почему я говорила «берегите мое сердце» – оно может сильно и тонко чувствовать, а в Вас оно видит то совершенное, что могли создать Природа и Человек. Впервые в моей жизни в одном человеке сливаются все мои лучшие чувства. Я безгранично уважала, беспредельно верила, самоотверженно любила, но эти чувства делили между собой два человека, один из которых погиб в войну, а другой умер только для меня. Теперь на моем горизонте одно огромное светило, заслоняющее собой все остальные, светило, которое всегда ласково светит мне, нежно согревает душу и растапливает и вызывает к жизни все мои лучшие чувства. (...) Я встаю и засыпаю с мыслью о Вас. Мерилом моих поступков являетесь Вы. (...) Даже если я нравлюсь мужчине, я горда этим за Вас. Но ни одному из них я не могу отдаться, так как считаю их недостойными не столько меня, сколько Вас. Вот какая получается штука! Живя со вторым мужем, я могла допустить флирт с другим мужчиной, даже измену ему, в то время как, не имея на Вас никаких прав, не обольщая себя никакими надеждами (учтите), поступая даже наперекор Вашему желанию, я храню верность Вам. Пока мои чувства и наше общение являются для меня постоянным источником светлой радости. Я не знаю, во что это выльется в будущем, но нет у меня ближе и дороже друга, чем Вы, и не было никогда. А я ведь стала умнее и к людям отношусь скептичнее.
С недавних пор я живу надеждой встречи с Вами, меня уже не удовлетворяют наши письменные разговоры. Я хочу видеть Вас, слышать Ваш голос, прикасаться к Вашим рукам, целовать Ваши глаза, вообще осязать Вас всеми органами чувств. Хочу сказать Вам, чем являетесь Вы для меня. Это тем более странно, что в жизни я не многоречива и не красноречива, скорее наоборот, и никогда не распиналась в своих чувствах. Это – до некоторой степени желание физической близости, но не той, о которой пишете Вы. Вызвано же оно не одиночеством, а продолжающейся самопроизвольно экзотермической реакцией развития моих чувств. Это доказывается хотя бы тем, что я даже мысленно не ревную Вас ни к одной из Ваших женщин, а наоборот, горда теми чувствами, которые в Вас вызываю и которые (так мне кажется) Вы ощущаете впервые, как и я.
Не знаю, что ждет меня в будущем, но если бы Вы даже и стали источником моих страданий, я никогда не упрекнула бы Вас в этом. И если бы суждено мне было начать свою жизнь сначала, я бы молила судьбу о нашей встрече и нашей дружбе, правда, лет на десять раньше.
Вот какое сумбурное письмо получилось. (...) Отпуск мой несколько задерживается, я получу его не раньше 8-го августа, и если Вы отправите ответ авиапочтой – успею получить его вовремя. Я не хочу идти против Ваших желаний и не приеду, если Вы этого не хотите. Но будьте правдивы!
Я не написала Вам о том, что мой Ёжик совсем почти здоров и весел по-прежнему. Я не могу не сознаться, что Ваша «акция» была очень кстати, но как смогу я в будущем посвящать Вас в свои беды, если у Вас при этом в руках появляется открытый кошелек?
До скорого, возможно, свидания!
Ваша Л.
Москва, 8 августа 1949 г.
Дорогая моя Людмила! Я очень хорошо понял, что такое «экзотермическая реакция», и очень хорошо понял, что где-то и когда-то приток тепла от меня возбудил в Вас эту «самопроизвольную» энергию чувств, о которой Вы мне, наконец, написали.
Большое и яркое чувство живет в Вас, мой дорогой друг! И я, вызвавший в Вас это чувство, стою сейчас смущенный перед ним, не в силах справиться со своими мыслями и непосредственными впечатлениями. Только тот человек, кто знает цену дружбы, бескорыстной и бесхитростной, может понять сейчас мою гордость. Только тот человек, кто умеет хорошо разбираться в тончайших извилинах и капризах человеческой мысли, может понять мое смущение.
Откуда и почему оно возникает? Попробую Вам объяснить.
Вы прежде всего неправы, подозревая меня в трусости, в боязни встречи, в перестраховке и т. д. Вы даже не заметили, что этими подозрениями Вы сами становитесь на путь моей дискредитации и снижения. Это неверно и противоречиво! Дело – в ином!
И опять начну издалека. Вам было бы, вероятно, очень интересно почитать Ваши первые письма ко мне. Эти письма, за небольшим исключением, сохранились у меня. Это – документ, свидетельствующий о том, что приток тепла, необходимый для реакции, шел от Вас. Вы меня заразили и наполнили чудесным светом юности и радости. И тут начинается очень сложная и мало объяснимая история, которая вкратце сводится к тому, что я стал тянуться к Вашему свету. Я, уже взрослый, видный человек, не искал в Вас объекта для кружения головы, не искал никаких романтических приключений. Но это была все-таки подлинная романтика. Человек, какой бы он ни был, никогда не идет по жизни самостоятельно и обособленно, а всегда в сопровождении других, смежных жизней, воль, разумов. (...) В какой-то определенный момент блеснула на моем пути Ваша звездочка или, лучше сказать, Ваше солнышко. Оно вошло в мою жизнь и больше никогда не потухало. Таков я!
Я не гашу радостей, освещавших мою душу. И, может быть, в этом и состоит мое резкое отличие от других, схожих по судьбе со мной людей, что в моем сердце живут те люди, которые вместе со мной взбирались, сами того не зная, к вершинам творческих процессов, которые делали мою биографию, сами о том не подозревая. Разве я могу растерять хоть крупицу того счастья, гордости и радости, которые мне дарили люди? (...)
Судьбе было угодно, чтобы Вы, Людмила, среди этих друзей (...) заняли большое и особенное место. Я Вас видел мельком, подробные черты нашей встречи остались в далеком тумане, которые память не в силах ясно воспроизвести. Но Вы остались живой для меня на все эти годы, годы суровых мучений, личных больших переживаний, творческих неудач, многого, многого, что вошло в мою жизнь за это время. И Ваше солнце, Ваш образ остался жить, перекликаясь с новыми явлениями, вошедшими в Вашу жизнь, с Вашими мытарствами, горем, разочарованиями и т. д.
Я Вас всегда любил, Людмила, люблю до сих пор, не снижая ни на йоту ни чистоты, ни особых, непередаваемых свойств моего отношения к Вам. Вот Вы хорошо и просто смогли описать Ваши чувства. О них я скажу позже. А я вот не могу Вам описать своих чувств. Я Вас называл и называю другом. Но это, мне кажется, звучит немного официально, сухо. Нет! Я люблю и любил Вас нежнее, теплее, ближе, чем друга. Может быть, скорее я видел в Вас часть себя, кровное, родное. Мне хотелось вторгаться в Вашу жизнь, влиять на нее, потому что Вы этим как бы поворачивали не только свои жизненные рычаги, но и мои.
Что это за чувства? Почему мне так дорога Ваша жизнь и все, что ее касается?
Извините меня, моя Людмила, но Вы не поймете. Во всяком случае, Вы знаете, что я много раз пытался объяснить Вам хоть сущность этих чувств. Ваши ответные действия свидетельствовали о неполном понимании их. Для Вас ничего не значило подолгу от меня ускальзывать, изымать меня из Вашей жизни, не делать меня участником ее «вульгарных» проявлений, оставлять мне только «цветы жизни». Повторяю, что это свидетельствовало о непонимании моих чувств и отношений. Но я не намерен упрекать Вас в чем-либо. Ваша жизнь всегда была для меня радостью. Я принимал от вас столько, сколько Вы мне давали, никогда не требуя того, что Вы не хотели сами.
Я не искал в Вас «любовницы» даже в письмах и никогда не хотел кружить Вам голову. Часто в моих ночных беседах с Вами мои фантазии поднимались до «телесных» осязаний, до иной любви. Но это были моменты влюбленности, шедшей от большой теплоты и нежности. А нежность с женщиной часто кончается свирепостью желания.
Трудно, ох, как трудно все это формулировать! Теперь передо мной Ваше письмо.
Неужели Вы думаете убедить меня в том, что в мире может существовать чувство, которое не потребует стать полностью разделенным?
Вы все подчеркиваете: близость, но не та! Поцелуи, но не те! Порыв, но не тот! Тот, тот, та, та, черт побери! Именно то самое! Дело ведь не в том, чтобы давить в себе все это! Дело в том, что это или должно не существовать, или должно не давиться в себе! И этого Вы не понимаете или не хотите об этом думать.
Почему я обратил внимание на фразу «берегите мое сердце»? Не потому, что я испугался, а потому, что я смогу оказаться здесь невольным виновником того, что Вы сами не сумеете сберечь своего сердца. Я лично не боюсь никакого «греха» для себя. Я не боюсь никаких приятий чувств! Но я боюсь за Вас, за Вашу душу и сердце. Вы никогда не разочаруетесь во мне, потому что все, что я говорю, чувствую, ощущаю – все это искренно и просто. За это Вы не бойтесь! Я не разобью Вашего сердца пошлостью, потому что я до нее не унижусь. Но мои «гарантии» имеют силу только в пределах моих чувств, таких, какими я их понимаю и ощущаю. Я знаю, что никогда Вы не перестанете меня уважать как нежного и любящего, внимательного и чуткого товарища и друга, которому Вы дали право «вторжения» в Вашу жизнь. Это право Вы никогда не отберете, потому что нет в мире ласки более радостной, чем ласка друга. Но...
Но за пределами моих чувств существуют силы, вне меня стоящие. Я могу призвать все мое самообладание, всю мою осторожность, чтоб удержаться от влияния этих сил. Но если они появятся, возымеют действие? Если целовать глаза, как Вы пишете, окажется далеко не столь безопасным занятием, с точки зрения целостности и цельности двух друзей? Ведь бумага – это одно, а жизнь – другое! Что тогда? (...) Сможем ли мы уберечь Ваше сердце?
Но не пугайтесь моих вопросов, Людмила! Я готов к Вашему приезду, к нашей встрече. Что-то глубоко подсознательное подсказывает мне, что «вопросов» не будет, что наша встреча будет радостной и хорошей, что мы останемся друг для друга такими, какими были все время. И еще добавлю, что, посмотрев друг другу в глаза, мы многое поймем из того, в чем сами сейчас беспомощно барахтаемся.
Я очень хочу Вас видеть, и мне незачем это доказывать. Только, пожалуйста, не тяните. Я ведь очень связанный сейчас человек, а Пырьев со своей картиной, как коршун, может на меня налететь в любой момент.
Крепко целую Вас.
Ваш И. Д.
P.S. У нас могут быть в этом году две встречи: одна в Москве, другая в Свердловске, куда меня очень зовет Филармония для концертов. Захочется ли нам после первой иметь вторую? «Безусловно!» – ответил он. А она?
P.P.S. II. Бесконечно рад выздоровлению Вашего сына. Пусть всегда Ваша жизнь будет радостной, и пусть никогда ее не смущают тревоги и несчастья!
16/VIII. Москва.
Милый друг!
Вчера получила, наконец, долгожданный отпуск и вчера уже была в Москве, тщетно стучась к Вам во все двери, что Вы мне дали.
Я не могу Вас отыскать, а время идет, и меня охватывает тревога, что Вы уедете на Кубань, и наша встреча опять [...]
[Бобровка], 17/IX—1949 г.
Милый друг!
Снова пишу Вам – и кажется, что не разговаривала с Вами целую вечность. Вы мне простите, если я своим молчанием доставила Вам тревогу (а может быть, Вы и не заметили его?).
Ну вот я и в Бобровке. Как сон, пролетел мой отпуск, и вот опять серые будни с их каждодневными заботами и нуждой. Ну что же, все прекрасное на свете мимолетно и быстротечно, но оставляет после себя след, воспоминания, которыми можно жить годы. Я прекрасно понимаю и сознаю правоту философии Омара Хайяма, но органически не могу быть его последовательницей и ловить мгновенья, даруемые судьбой, хоть и конец нашего жизненного пути внушает мне ничем не победимый ужас, и я все чаще задумываюсь о нем.
Ну а сейчас – философию в сторону, так как мне хочется рассказать Вам о своих житейских делах и попытаться немного оправдаться в Ваших глазах, так как мое молчание угнетало меня, пожалуй, больше, чем Вас. Но обстоятельства сложились так, что я не имела возможности писать Вам так, как я люблю. А ведь мне нужно сказать Вам, какой сияющей радостью переполнено мое сердце (выражение неправильное, зато очень точное). Как я рада нашей встрече, нашему общению и как огорчена тем, что они происходили так неравномерно, такими урывками и поэтому так много слов, тем, чувств остались невысказанными, незатронутыми. И кто знает, когда судьбе будет угодно опять столкнуть наши жизненные пути. Я же себя нисколько не обольщаю надеждой на то, что мне удастся устроиться под Москвой, это слишком сложно. Но сейчас, после встречи, пользуюсь случаем сказать Вам, что я буду счастлива, если когда-нибудь в чем-либо понадоблюсь Вам. Что бы с Вами ни случилось, каким бы Вы ни были – вспомните меня в тяжелую минуту и знайте, что я всегда и с радостью встречу Вас как родного, как нежно любимого брата. Это почти как у Нины Заречной: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». [У меня] не так романтично, зато глубоко и реально.
А теперь Вы должны откровенно высказать свое впечатление о нашей встрече. У меня осталось впечатление, что в Вашей «трансценденталыцине» было больше фантазии, чем реальных чувств.
Ну а теперь о том, с чего надо было начинать письмо.
Долетела я благополучно, хотя и не без приключений. (...)
Дома меня восторженно встретили мои милые родственнички, но... Ёжик отвык от меня и первое время не хотел даже подойти. Зато потом опять стал «маминым хвостиком». После первых приветствий и вопросов чемодан был поставлен на стул и вокруг него выстроились мои сорванцы, с нетерпением, написанным на их милых рожицах, в ожидании подарков из Москвы. И даже «ейная матушка», хлопоча в стороне и не выдержав ожидания, бросала деланно равнодушные взгляды на процедуру открытия чемодана, которую я умышленно затягивала.
Люблю я делать подарки, даже, пожалуй, больше, чем получать их! Это у меня отцовская черта. (...)
Не успела я дома оглядеться как следует, как на меня посыпались разные неприятности.
(...) На заводе меня уже с нетерпением ожидали, накопилось много неотложных дел. Да и свои домашние дела требовали немедленного вмешательства: как только я прихожу с работы, так спешу на огород копать картофель. А огород у меня большой, примерно 0,12 га. Выкопаю овощи – нужно будет их убрать на зиму и подготовить жилье к зиме: вставить рамы, обмазать окна и пр., пр. Вам, живущему в столице и на всем готовом, не понять, сколько тяжелой, мужской работы приходится мне повседневно выполнять. А еще говорят о равноправии женщин! Да я любого мужчину за пояс заткну!
Исаак Осипович, я жду с Вашим письмом хоть часть из обещанных мне нот. Вы пошлете мне их, да? И еще попрошу, если это Вас не затруднит, посылайте мне хоть изредка литературные новинки, то, что Вас заинтересует или обратит Ваше внимание. Бедные «лесные женщины» будут очень признательны Вам за такое просвещение.
Мне хотелось бы больше знать о Вашей работе и о Вас. Что представляет собой Ваша новая оперетта «Летающий клоун»? Ее фабула? Какие еще крупные работы намечены Вами в этом году? Помнится, Вы упоминали о каком-то балете. Удалось ли Вам отбрыкаться от поездки на Кубань?
Как это ни странно – я до сих пор не знаю, какое образование Вы получили. Я не сомневаюсь, что музыкальное, но я слышала от кого-то, что Вы окончили консерваторию по классу скрипки, правда ли это?
Вот сколько вопросов Вам на первый раз, хватит на большущее письмо, правда? И я жду его, мой дорогой друг, как всегда, с большим нетерпением.
Будьте счастливы!
Ваша Л.
Омара Хайяма тоже жду.
22/Х—49 г.
Милый друг!
Что могло случиться, что я до сих пор не имею от Вас никаких известий? Даже мое письмо, посланное свыше месяца тому назад, тоже осталось без ответа. А я-то, глупая, могла думать, что мое молчание обеспокоит Вас!
Если я неправа, Вы должны простить меня и успокоить мою мнительность, но я не могу быть уверенной в Вас в том периоде, который последовал за нашим вторичным знакомством. Почему Вы молчите? Поймите, что это жестоко – так томить меня ожиданием. (...) Не забывайте, что любая правда лучше неизвестности. (...) Ваше равнодушие будет мне приговором.
Я прошу Вас ответить мне на это письмо немедленно, хоть два слова. Во имя того, что Вам дорого!
Л.
28/Х.49 г.
Моя Людмила, мой славный друг!
Против всяких моих, даже самых оптимистических, выкладок и планов мне удалось пропаразитировать на берегу Черного моря (Хоста) целых 5 недель. 12 сентября я уехал, два дня пробыл у Пырьева, и 16 сент[ября] я уже был у благословенного рокота прибоя. Я только 24-го вернулся – загорелым, хорошо отдохнувшим и... зверски простуженным в дороге. Ваше чудесное письмо немедленно «выпростал» из кучи корреспонденции и первым прочел. Вы поймете, что я его особенно ждал, как Вы ждете моего письма. Я безумно рад, что наша встреча оставила в Вас хорошее наполнение и хороший, светлый след. Мне казалось, что моментами Вы вот-вот станете дурно и неверно воспринимать эти урывки свиданий, короткие телефонные разговоры – все атрибуты моей суетной жизни. Меня это очень угнетало даже тогда, когда мы с Вами виделись, ибо мне хотелось для Вас большего.
Вы хотите знать мои впечатления?
Мне не хотелось бы рассказывать Вам то особое, что мне сразу бросилось в глаза или, вернее, в душу мою, так тепло к Вам всегда обращенную. Условимся, мой друг, что мы еще не один раз будем возвращаться к этому вопросу, поэтому позвольте мне быть кратким, чтобы не затягивать письма и не откладывать его отправки.
Я увидел человека родного и уже знакомого мне, пусть немного офантазированного, но тем не менее реального человека, о котором я знал, что ему трудно жить, знал, как он мучительно карабкается, обремененный многими заботами и обязанностями. Но я не ожидал увидеть человека, на котором и во всем поведении которого, во всем облике которого эта тяжелая жизнь была бы так ярко отражена. Это было самое страшное, что не покидало моих ощущений в продолжение всего Вашего пребывания. Я уже и раньше в письмах своих знал, чувствовал, что Вы, Ваша вся внутренняя организация созданы для другой жизни. Но мне казалось, что «смеющаяся Людмила» живет наперекор стихиям. Я не увидел «смеющейся Людмилы»! Я увидел тихо говорящего, почти покорного жизни человека. Это заслонило для меня в Вас и женщину, и Ваш внешний облик, и я, право, даже не могу сказать толком, какие у Вас губы, зубы, рот, глаза. Я не думал об этом, потому что я ловил себя на многих других мыслях и ощущениях. При всей близости нашей, созданной письмами, при всей, казалось бы, простоте, на которую мы оба имели право по стажу нашей дружбы, я чувствовал себя чужим со своим благополучием, довольством, квартирой, машиной рядом с Вами, такой тихой, почти покорной, но так хорошо, ценой огромных усилий справляющейся с тяжестью жизни. Мне стало обидно, больно за Вас, за жизнь, которая, право же, не должна быть такой немилосердной в отношении к таким чудесным людям, как Вы. И все мои желания счастья для Вас, которые я так искренно посылал Вам в письмах, показались мне жалкими перед лицом моей беспомощности.
Я играл Вам, будил в Вашей чуткой душе какие-то мечты, думы и переживания. Возможно, что это были хорошие часы, но что же следует после них? Я читаю Ваше письмо и снова вижу ту же мучительную борьбу одинокого человека, работающего на всех, ухаживающего за больными детьми, копающего картошку в огороде... Не слишком ли строго наказывает Вас жизнь за некогда совершенные неосторожности?