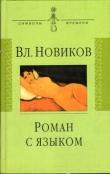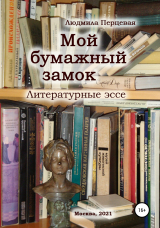
Текст книги "Мой бумажный замок. Литературные эссе"
Автор книги: Людмила Перцевая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
10. «Пирамида» Леонида Леонова
«Пирамида» – роман единственный в своем роде, неповторимый по содержательной философской глубине и богатству языка и, в то же время, осмелюсь утверждать, – типично русский.
Типично русский – не по художественным традициям воплощения, а по неистребимой тяге русского человека пускаться в глубокомысленные рассуждения по всякому поводу, уносясь в ходе мыслительного процесса в заоблачные дали, переплетая личностные переживания и нажитой опыт со всей мировой историей, находками и потерями цивилизации, да еще пытаясь при этом спроецировать полученное в далекое будущее человечества.
Возникает соблазн сравнить эту глыбу с романом Томаса Манна «Иосиф и его братья». Немецкий классик тоже работал над своим произведением в тиши ученых библиотек долгие годы – аж семь лет, обратился к непростому сюжету, навеянному Библией, развил его до тонкости эмоциональных страстей героев, мельчайших подробностей того времени, вывел морально-нравственные итоги из тех далеких эпох, согласовав их, подчинив пониманию современников.
Он не самый читабельный по запросам в библиотеках, но тем не менее движение сюжета в романе Манна подчинено действию героев, согласуется с библейской легендой и лично для меня оно было увлекательным! От этого романа невозможно оторваться, пока не пройдешь с героями от корки до корки, к нему хочется возвращаться, хотя вклиниваться в повествовательную ткань с любого места совсем непросто.
«Пирамида» – принципиально другая книга. И не только потому, что писалась она полвека, что Леонов вложил в нее самого себя, размышления целого поколения, ушибленного атеизмом навсегда – и не до конца. А еще и потому, что в этом романе сюжет движим не действиями героев, да и вообще роман не сюжетом держится, а мыслительным процессом, бесконечными спорами героев – а где-то и с автором – о смысле бытия, о совершенстве мироустройства, о Божьем промысле и происках его визави. В таком объеме богоискательские словопрения, дерзко вплетенные в ткань художественного произведения, мне еще встречать не доводилось. Да ведь не просто окончательно сформулированные мнения сторон, а долгое и трудное рождение истины, которая еще и не истина, а только шаги на подступах к ней.
Дерзновенность и новаторство Леонова состоит еще и в том, что он, делая главным героем МЫСЛЬ, а не ее носителей, лишает высказываемое индивидуальной окраски, лексического психологизма. Он, вступая в разговоры, диктаторски перехватывает и оформляет по-своему всякое высказывание, на своем языке, обогащая попутно авторским комментарием.
А язык Леонова – явление уникальное! Все помнят, что подсчитанный словарь произведений Пушкина содержит 40 тысяч слов, я не могу себе представить, чтобы кто-то, даже с помощью новейших технологий, взялся подсчитать словарь одной «Пирамиды» Леонида Леонова, – оценить же его выразительную высоту и красоту мне и вовсе кажется невозможным!
При всей этой сложности и многоярусности смыслов герои романа вовсе не лишены каждый своего характера, логики действия, внутреннего развития. Иной раз отмечаешь, как прихотливо мысль одного сопрягается с действиями другого героя, – и улыбнешься не юмористическому содержанию, а красоте такой переклички, то ли невольно возникшей в твоем читательском воображении, то ли ловко упрятанной автором – и нечаянно обнаруженной тобою! Так в спорах Вадима с Никанором, зачем Бог вообще создавал человека, прозвучало, что в беспредельном всемогуществе захотелось Ему сотворить …соглядатая, который к тому же был бы способен критически оценить и творения, и процесс, и вообще потенциал Всемогущего, – да при этом не останавливать его в этой дерзости, не направлять, а наблюдать, до чего он способен дойти в своих прозрениях.
А много раньше в сцене с Юлией Бамбальски, которая демонстрирует кинорежиссеру Сорокину фантастические катакомбы с нагромождением шедевров, сотворенных по ее приказу Ангелом, мельком прозвучит – когда желаемому нет предела в воплощении, нужен и зритель, и чье-то стороннее осмысление уже проделанному. Где Бог – и где суетная, потерявшаяся в своих замахах на будущую великую роль дочь фигляра Юлия Бамбальски!
В романе сошедший со старой фрески ангел Дымков с увлечением окунается в земные реалии, шалит на цирковой арене, даря людям во времена кровавые и стерильные чудо; занимает высочайший пост в атеистической иерархии сатана – профессор Шайтаницкий; сомневается и мучается своими сомнениями отец Матвей, поп в прошлом и сапожник в нынешнем. Действо происходит в высших сферах – мыслями, и во вполне земных обстоятельствах – перемещениями, общениями, спорами.
Есть опять же соблазн вспомнить Булгакова с его полуфантастическими романами, если бы не одна принципиальная разница. Огромная. Новаторская. Уносящая роман из сферы художественной литературы – в философскую.
«Пирамида» не о том, насколько совершенен для людей советский проект в бытовом выражении, (помните, как Воланд оценил москвичей при ближайшем их рассмотрении: люди как люди, только жилищный вопрос их испортил). Она о том, как меняется человек, лишенный духовных опор, о праве одного смертного распоряжаться жизнями других смертных, словно он бог, которому даны такие полномочия. И он их пытается испросить, эти нечеловеческие полномочия у высших сил! Встреча Вождя с Ангелом – каково?
Я одергиваю себя, как можно сравнивать булгаковского Ивана Бездомного с его свечечкой – и леоновского Вадима Лоскутова, который в жерновах сменяемых эпох и зыбкого мироустройства пытается поправить фитилек свечи голыми пальцами, понимая, что отказавшись от веры отцов он безвозвратно сгинул в фальшивой пустоте! Но сам, сам пошел этой дорогой, вернее – бездорожьем искательства.
В «Пирамиде» можно облиться слезами над судьбой отрекающегося от бога дьякона Аблаева, поразиться амбициозному тщеславию циркача Дюрсо, готового ради вознесения над людской толпой пойти на союз хоть с самим дьяволом; негодовать на фининспектора Гаврилина или доносчика На-ухо-доносора, гадину более мелкого масштаба. Все они мастерски вплетены в действие сюжета и помогают выявлению мысли о шатких временах, лишенных нравственного стержня, основанных на страхе и насилии. И саркастически она, эта мысль, прозвучит опять же в спорах: что райские кущи, что коммунизм, обещаны людям в некоем отдаленном времени, которое не обязательно настанет…
"Пирамиду" Леонида Леонова невозможно цитировать, это как из сверкающего грохочущего водопада ладонями вынуть малую толику воды: в тесной пригоршне она не способна передать ни света, ни музыки неукротимого движения!
Но и своими словами не передать того напряжения, что таит сталкивание еще ненаписанной Вадимом повести о пирамиде Хеопса, возведенной рабами в Египте, с приснившейся ему же великой стройкой, возведении статуи Отца всех народов, показанной начинающему писателю смирившимся со своей участью зэком. Фантастичность и зримость сопоставимых объектов потрясающа, скользящие по крови рабов глыбы, долженствующие остановить еще живого Вождя в его неукротимой жестокости – страшнее всяких аргументов. Но грозят они прежде всего тому, кто вознамерился поучать диктатора, что легко докажет уже опальный ориентолог Филументьев – практически на краю пропасти.
Негодованием и ядовитым сарказмом напитаны страницы романа, повествующие о Новоарбатском деле, когда вместе с ученым-египтологом был арестован и Вадим, написавший повесть, в которой следствие не усмотрело крамолы, и еще ряд вплетенных в дело арестантов, – дотоле их не знали, куда пришить.
Действовала "…ведущая юридическая доктрина эпохи: лишь историческая срочность иссечения социального зла, а не установление истины является целью уголовного процесса, ибо что есть истина на поле боя? …Словом, по непригодности ни одного из наиболее ходовых пунктов обвинения Вадим Лоскутов привлекался по совокупности их в целом".
Не могу удержаться, чтобы не вспомнить здесь и труд Солженицына "Архипелаг Гулаг", в котором сконцентрирован огромный пласт обвинительной фактуры весьма сомнительного свойства. Для содержания в следственных шкафах он не безупречен по завышенным цифрам и объемам злодейства, для взыскательного читателя он слишком однообразен, тягостен и лишен глубоких размышлений, определения места той советской эпохи в извивах человеческой цивилизации. Видимо, время Солженицына было слишком близко к излому, к краю пропасти, и от страха хотелось его еще больше преувеличить, отсюда и публицистическая недобросовестность писателя. Впрочем, выполнившего свою роль.
Для того, чтобы в полной мере осознать последствия выламывания из человека нравственного его стержня для последующего приспособления получившегося раба на массовых стройках – во имя его же благополучия, нужно было отстранение во времени, да еще и помноженное на видение изнутри. Вот таким современником советского проекта от его зарождения, до воплощения и последующего катастрофичного развала и был Леонид Леонов, сумевший художественно осмыслить, отобразить то страшное и неповторимое время в сцеплении образов земных и сил небесных. Не убоявшийся грандиозности творческого замысла.
"Признаться, никогда раньше вызревание темы не протекало во мне так болезненно – при слишком неохватном окоеме – без горизонта, без ориентиров и опорных дат. – прямо в романе вырывается у Леонова. – Немудрено, что и в тексте сомнительно-веселые гримасы кратковременных эйфорий по случаю не оправдавшихся находок чередуются с абзацами профессиональной меланхолии, что и привело меня однажды ко рву старо-федосеевского погоста". К Бездне.
Но ведь как пишет, как пишет! Вот о русском характере, могущем всё превозмочь:
"И в случае чего всегда есть возможность укрыться в безграничных просторах внутри себя, и пускай убивают то, что осталось снаружи: вот смысл русского непротивленья".
А страницей ранее при взгляде Вадима на лапотного мужика-зэка на этой дикой приснившейся стройке:
"Ни сожаления о былом благополучии не читалось в его лице, ни присущего голодухе собачьего искательства, ни напрасной надежды, через которую обычно и врывается в душу отчаянье. "Нет, не кроткое христианское принятие крестного страданья было тому причиной, нечто гораздо древней и тоньше, верней всего – бесстрастие азиатского ламы, привыкшего сквозь земное бытие с маньякальными в нем дурачествами детей и владык видеть иной, пофазно переливающийся мир, где только что побывавший синим озером горный хребет таинственно, стаей розовых птиц сливается с пламенеющим небом для перехода в еще более неведомые мне, грозные и совсем не страшные сущности, потому что я сам в них и они тоже – я сам", – впрочем, Вадим понимал свою произвольность присвоения описанных ощущений русскому крестьянству, настолько ему чуждых, что кабы предъявить ему, то и присяжные грамотеи не раскусили бы, в чем там суть. Потому что простому народу, так же как и дереву, не менее трудно осознать свои корни, чем человеку при жизни увидеть собственное сердце, а там становится поздно."
Если бы не было в этом романе полторы тысячи страниц, его следовало бы заучить наизусть, как удивительной красоты поэму, потрясающей емкости жизненную мудрость, не скованную к тому же рамками завершенности.
11. Прилепин о Леонове и советской эпохе
С наслаждением перечитываю (как нечто совсем новое!) книгу Захара Прилепина «Подельник эпохи: Леонид Леонов». Захар меня не перестает изумлять, настолько он талантлив во всем! Я не могу себе представить, чтобы Толстой мог так проникновенно, уважительно написать о Достоевском, и – наоборот! А Прилепин, будучи уже автором целого ряда очень сильных, на мой взгляд – гениальных вещей, признанным ведущим писателем нашего времени, так умеет проникнуть в сложнейшие замыслы, виртуозное их исполнение другого гения-писателя.
С восторгом первооткрывателя, тщательностью исследователя, таким чутким и профессиональным пониманием пишет он о Леонове, что многажды хочется смаковать эти страницы.
Несомненно, эта биография – большая писательская удача Прилепина, которая во многом объясняется исходным материалом – если позволительно так выражаться о гениях! Так уж совпало, что Леонид Леонов прожил долгую, насыщенную событиями жизнь, совпавшую с приходом, становлением и разрушением советской власти. Будучи в сознательном возрасте, он познавал это явление, сомневался в его силе и способности одолеть косность и дремучесть, эгоизм и …подловатость человеческой натуры. Он упорно, от романа к роману, от пьесы к пьесе, живописал ту мрачную среду, в которой мечтателям предстояло реализовать проект, да заодно – и самих мечтателей, весьма далеких от совершенства, озабоченных не столько внедрением прекрасного проекта, сколько самореализацией.
От мечты до реальности – дистанция огромного размера, подчас кажущаяся непреодолимой, как было такому умному, проницательному, познавшему жизнь сполна наблюдателю поверить в возможность ее претворения?! А Леонов почти поверил, уж слишком хороша была идея! Да и в жизни было чем зацепиться взглядом и сердцем, встречались люди интересные, умные, содержательные.
Книга Прилепина необыкновенно хороша и пониманием гениальной сути писательского наследия Леонова, и привлечением богатейшего материала, дающего представление о людях той поры, о кипении страстей низких и возвышенных. Безжалостными и честными мазками характеризует Прилепин писательскую элиту, верующих и неверующих, подличающих и павших от этой подлости. Картина масштабная, ошеломляющая, долго не отпускающая читателя и после того, как книгу закроешь.
Для меня открытием была и дружба Леонова с Вангой, и его упрямое возвращение к исследованию темных глубин человеческой натуры после каждой партийной порки, и то, что "Пирамиду" он держал в уме и работал над нею неустанно полвека.
Несгибаемый, упрямый старик, отразивший в своих произведениях сложнейшее время, вместе с Шолоховым составлявший гордость русской словесности. И почти напрочь забытый читателем после смерти – слишком сложен для понимания, не однозначен, многослоен.
В прошедших только что Чеховских чтениях я лишний раз убедилась, что современный читатель с клиповым мышлением усвоил приемы и подходы вульгарной социологии в оценке классического наследия: позитив – хорошо, пессимизм – плохо, герои положительные – молодец писатель, а если извлекаешь на свет негатив – двойка тебе. Вот с такой плоской системой оценок подходят к гению, сумевшему в коротком жанре, в самых обыденных ситуациях, в поступках и несбыточных мечтах охватить всю сложность человеческой натуры. И где тут у него положительные герои, с которых можно "делать жизнь"? – Да ни одного положительного героя!
Так рождаются термины "достоевщина", "есенинщина", а теперь вот в наших чтениях – "чеховщина", пренебрежительные, унизительные, но характеризующие не гениальных писателей, а, в первую очередь, самих "оценщиков", читателей недалеких, предпочитающих легкую "жвачку" вместо серьезной и трудной умственной работы.
Если Чехова не понять, в Достоевского – не вчитаться, как к Леонову вообще можно приблизиться?! Читайте сказки про Гарри Потера, принимайте на веру все изгибы надуманных эмоций, таких далеких от земных реалий, от живых людей.
Я понимаю, что во все времена читатели были разными, просто те, кто раньше пробавлялся бульварным чтивом, обрели голос и важность в рассуждениях о том, как следует писать, чтобы им было интересно и поучительно.
Кстати, в книге Захара Прилепина особенно занятно читать о критиках, которые именно с таких позиций вульгарной социологии и били наотмашь больших писателей: "А ты за кого, ты – с кем? Где тут герой, как знамя, под которое следует вставать?!" А знамен – нет, есть живые люди, с изъяном, червоточиной, слабостями и проблемами. Но и с такими неповторимыми лицами, характерами, судьбами, именами, ставшими нарицательными, афористичными формулировками.
Леонов практически забыт, а ведь это о нем с большим пиететом сказал в свое время Горький: я – рядовой литератор, а Леонов – гениальный писатель. Впрочем, сейчас и Горького забраковали, и Пушкину в праве на жизнь отказали. Кто там у нас в чести? Мураками, Роулинг, Коэльо… – нет пророка в своем Отечестве!
А ведь прочесть книгу "Подельник эпохи" – это не просто с биографией Леонова познакомиться, но и вдуматься в причины разрушения Страны Советов, окончательно ли он рухнул или будет еще продолжение?
Кстати, мастерство литературоведа от Бога отличает и книгу Прилепина «Взвод» о русских литераторах-офицерах и патриотах. И чтобы Захар ни писал, во всем чувствуется биение горячего сердца, оригинальный ум и свой взгляд, особое мнение – всегда аргументированное, да так выраженное, что противостоять ему невозможно. Нет, я определенно к нему неравнодушна. С тех самых пор, как прочла «Обитель», не первую книгу в его писательской биографии, но первую, прочитанную мной. Сразу на такой сияющей вершине оказалась! Но и все остальные его романы, может быть этим сиянием осененные, сразу и безоговорочно мною приняты.
Но Прилепин, шаг за шагом постигающий Леонова, – это просто пиршество духа, интеллектуальное наслаждение высшего порядка. Кому кажется мой восторг преувеличенным – проверьте чтением.
12. Гораций «Ода к Мельпомене»
Есть многое, друг Гораций, что тебе и не снилось! Два тысячелетия прошло с тех пор, как ты сказал: «Не старайся толпу удивить, а пиши для немногих» . Прозою же язвительно добавил: «Я читаю стихи лишь друзьям, и то по принуждению…А у нас есть много поэтов, которые декламируют свои произведения на Форуме, в общественных банях и в других местах…»
Мог ли он представить, что графомания не исчезнет, а станет явлением невероятного масштаба! Он-то считал поэзию уделом избранных; не только слагать, но и понимать её могут лишь люди с отменным вкусом и умом. Однако и трюкачество осуждал, требовал от стихов гармонии и мудрости.
Очень взыскателен был к себе самому и всему поэтическому сообществу, поэтому мог заявить, что оды его, подлинно прекрасные и совершенно оригинальные, переживут века. В 20-й оде, увидевшей свет в 23 году до нашей эры, он восклицал, что поэт, умирая, превращается в лебедя и возносится над Землей, недосягаемый для людского суда! А в 30-й оде, подводя итог своему творческому пути, без ложной скромности заявил буквально следующее (подстрочник с латыни):
«Я воздвиг себе памятник, прочнее меди и выше царственных строений египетских пирамид. Так что его не может разрушить ни всеразъедающий дождь, ни свирепый Аквилон, ни бесчисленный ряд годов, ни бег времени.
Нет, не весь я умру! Лучшая часть моего существа переживет день моих похорон: слава моя будет возрастать до тех пор, пока на Капитолий восходят церковный жрец с безмолвной весталкой.
Обо мне будут говорить, что я прославился там, где струит свои воды Ауфид, где царил над сельскими племенами бедный водою Давн. Потому что, выйдя из безвестности, я первый перевел песни Эолии на италийский лад.
О, Мельпомена! Возгордись моей достойной заслугой и благосклонно увенчай мою голову дельфийскими лаврами!»
Как видим, в этой оде, ставшей впоследствии мировой знаменитостью, есть отсыл к еще более ранней традиции поэтов: подводя итог, перечислять, чем же они останутся в памяти людской. Он подражал поэтам античности так же, как потом будут эксплуатировать эту тему после него. На русский язык первым перевел эту оду Ломоносов, которого подкупило низкое происхождение Горация, вознесшегося благодаря своему дару. Так же, как и сам Михайло. И вот как звучал Гораций по-ломоносовски:
«Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю…»
Ну и так далее, очень близко по тексту. Замечу, вопреки хронологии, что очень близко к Горацию изложил свою версию оды Валерий Брюсов, обратившийся к ней уже в 20 веке!
А вот старик Державин очень вольничал, он по сути уже подводил итог своей поэтической деятельности, сохранив, правда, последовательность повествования, заданную Горацием. Вот как происходит этот переход на славянскую почву:
«…И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь Славянов род вселена будет чтить.
Слух прОйдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить…»
Не стану вслед за Державиным цитировать Пушкина, его «Памятник» многие учили в школе, а те, что похваляются на поэтическом сайте отсутствием навыков чтения, могут продолжать кричать о том, что Пушкин – плагиатор! Затрудняясь при этом уточнить, у кого же наш гений украл знаменитые строки? Между прочим, публикации своего стиха Александр Сергеевич предпослал эпиграф из Горация, прямо сообщив читателям, откуда пришла идея, так оригинально им воплощенная.
Уже после Пушкина тему памяти в умах потомков варьировали в своих стихах очень многие наши соплеменники, от Фета до Семенова-Тянь-Шанского. Уходили от первоисточника так далеко, что и ссылки не требовалось. Маяковского с его «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь…» и цитировать не надо, все помнят, что по убеждению поэта ему достаточно будет «построенного в боях социализма!» А вот Ходасевича цитируют редко, слишком пессимистичен был его стих.
Он краток, приведу его полностью:
«Во мне конец, во мне начало,
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок…»
Надеюсь, вы поняли, что тема – неисчерпаема, широка, каждый может примерить на себя, если есть что сказать современникам о своей роли в развитии Поэтической Вселенной. Уверяю, плагиатом это не будет ни в коей мере. Успехов!