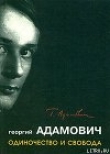Текст книги "Эссе: стилистический портрет"
Автор книги: Людмила Кайда
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Заглавие – самый первый сигнал, посланный автором читателю. Обратимся теперь к экспозиции, которая имеет форму внутреннего диалога.
Начальный диалог исследователи текста обычно не замечают. В лучшем случае отмечают его роль в построении кольцевой композиции. Тем более, что кольцо сделано даже нарочито: рассказ начинается словами «Вот вы говорите…» и заканчивается «А вы говорите…» Однако это не просто синтаксический повтор, это – психологический вздох, в котором интонационное звучание выдает завершенность.
В самом начале, в завязке, – это обращение Ивана Васильевича к слушателям, к их опыту. И автор – один из слушателей – чем-то неудовлетворен. Чем же? Вслушаемся: «…человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде». Это не констатация. Звучит явный укор: как же так, почему не может понять? Нет, он с этим не согласен. В воображаемый спор вступает Иван Васильевич. Рассказчик. Он уже понаслушался разговоров о том, что для личного совершенствования необходимо прежде всего изменить условия, среди которых живут люди. И все как будто согласны с этим. А он – не согласен. Вот что думает он: «…все дело в случае».
Завязка построена на антитезе. Отсюда – прямой путь к поиску верного, по мнению автора, ответа, на который он выводит своего героя. Но нет однозначного ответа на риторический по своей сути вопрос рефлексирующего неудачника любовной драмы. Все эти рапирные полемические выпады – «вот вы говорите…», все внешне глубокомысленные сентенции – «так вот какие бывают дела и отчего переменяется и направляется вся жизнь человека», и даже опустошающее душу разочарование – «а вы говорите…» – лишь этапы поиска, но самого ответа так и не последовало. Думай, читатель, и сам ищи. Иначе зачем же я тебе все это рассказываю?
Многие исследователи и попали в эту расставленную Толстым ловушку, сделав ложный вывод: герой убежден в роли случая и отрицает влияние среды на свою жизнь. Он, а за ним скрывается автор, не видит правильного пути борьбы с тем злом, которое наблюдал, с тем ужасом, который «вошел» в него. Этот вывод стал почти хрестоматийным. И, смею утверждать, ошибочным.
1903 год, год написания рассказа. Преддверие революции 1905 года. Нравственно-философские взгляды Толстого остаются неизменными, но он уже начал движение к литературе нового века. К развитию новых художественных форм. К новым для него проблемам. Одна из них – личность и среда, их противостояние и взаимодействие – чисто эссеистическая, которую ему интересно решать в прозе малых форм. Так и зарождался рассказ «После бала». И в этом контексте, а также на фоне его страстной публицистики этих лет приведенный выше исход конфликта в душе героя уже не выглядит убедительным.
Динамика спора Ивана Васильевича со своими оппонентами упрятана в подтекст. Автор, не резонерствуя, скрытыми сигналами обозначает свое отношение к происшедшему, и это помогает предсказать его видение конфликта «человек – среда». Он заинтриговывает читателя затянутым началом, чтобы вовлечь в активную деятельность. Действительно, рассказ о самом бале мог бы начаться сразу после первой реплики Ивана Васильевича («Я вот про себя расскажу»). Однако герой «подогревает» слушателей, рассказывая о вещах, не имеющих прямого отношения к главной теме. Они разгадали его трюк («Каково Иван Васильевич расписывает!»), но, конечно же, еще не знают, зачем ему это понадобилось. Откровенно затянутая экспозиция обрывается неожиданным и сухим информативным сигналом: «То, что я хочу рассказать, было в сороковых годах».
Аудитория созрела выслушать что-то очень конкретное, что было бы непосредственно и сразу связано с заявленной темой, в которую вмешался Иван Васильевич. А он, сдвигая времена (время рассказа не совпадает со временем действия), приближая прошедшее к настоящему («Я до сих пор не могу простить это ему»), начинает неторопливо рассказывать о самом бале.
Воспоминания его объективны, все настолько прозрачно и просто, что, кажется, можно без ущерба для замысла поменять речевую форму рассказчика на повествование от третьего лица, от автора. Здесь рассказчик сливается со средой. Он живет только чувствами, смотрит на все и всех сквозь розовую пелену влюбленности. Понятие «среда» для него не существует.
Иная картина – рассказ о том, что случилось после бала. Рассказчик становится непосредственным наблюдателем события, и создается впечатление, будто он в этот момент видит и переживает экзекуцию. Говорит человек, желающий понять, что происходит («Что это они делают? – спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мной. – Татарина гоняют за побег, – сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов»). Так появляется «рассказчик-наблюдатель», субъективно оценивающий происходящее, и именно здесь начинает вызревать его конфликт с самим собой и с обществом.
Процессия приближается, и он все яснее видит, что происходит. Абстрактное «что-то страшное» оказалось «оголенным по пояс человеком». Иван Васильевич уже видит его «сморщенное от страдания лицо», видит, как наказываемый, «оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова». И находясь от него уже совсем близко, расслышал их: «Братцы, помилосердствуйте». Прием «узнавания» поддерживает эффект присутствия.
Тот же прием «узнавания», постепенного и объективно точного, вплетающийся во всю оценочную канву событий, использован и в отношении отца Вареньки. Сначала все было стилистически нейтрально: на балу Варенька указала на «высокую статную фигуру ее отца – полковника с серебряными эполетами…» Рассказчик констатирует: «Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик».
Но начинается прием «узнавания», и рассказчик отмечает характерную деталь: «Лицо у него было очень румяное, с белыми, как у Николая I, усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как у дочери, была в его блестящих глазах и губах». Стилистический контекст скорее положительный. Сцена на плацу все меняет: улыбка на лице Вареньки теперь уже вызывала в памяти полковника на площади, и Ивану Васильевичу «становилось как-то неловко и неприятно». Он стал реже видеться с ней. «И любовь так и сошла на-нет».
Контраст – основной художественный прием, на котором держится весь рассказ. Об этом написано много, исследованы все уровни его создания – лексический, синтаксический, композиционный. А если, вслед за В. Одинцовым, глубже исследовать контраст функционально-стилистический?[102]102
Одинцов В.В. О языке художественной прозы. М., 1973.
[Закрыть] Ведь именно он активно участвует в формировании субъективного вывода наблюдателя, хотя остался практически незамеченным.
В функционально-стилистическом контрасте одни и те же слова под влиянием нового контекстного окружения изменяют свою семантику. Например, слово «фигура». В самом начале «высокая, грузная фигура» полковника движется рядом с наказываемым солдатом. «Узнавание» фигуры происходит постепенно. Меняется и характер эпитетов: определения заменяются действительными и страдательными причастиями («подрагивающая походка»). Да и определения («твердый шаг», «высокая, статная фигура», «замшевая перчатка») в контрастных ситуациях начала и конца рассказа приобретают разную стилистическую окраску.
Психологический контраст в настроении героя достигался на протяжении всего рассказа двуплановым значением одних и тех же деталей и состояний его души. Помните, в самом начале – «без вина был пьян любовью», а в конце, когда наступило разочарование, «пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян».
И реакции героя на происходящее тоже даны в двух планах: открытом («стыдно», «опустил глаза», «поспешил уйти») и скрытом (еще долго слышится барабанная дробь и свист флейты в ушах, звучат слова полковника и солдата). Объединяясь в речи рассказчика, оба плана подготавливают тот эмоциональный эффект, который вряд ли был бы достигнут одной только авторской ремаркой: «А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидел опять все и вскочил».
В своей «длинной истории» Иван Васильевич так и не дает ответа на главный вопрос: почему же вся его «жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого»? Причем прямого ответа нет ни в речевой форме рассказчика, ни от авторского «я». Ответа нет, а напряжение поиска усиливается. Здесь все скреплено единством отношения автора к происходящему. Он несколько раз меняет литературную маску: автор в заголовке – ведущее начало, распределитель ролей и судья. В начальном диалоге – собеседник, поддерживающий разговор, «шедший между нами». В сцене бала – пассивный слушатель, близкий рассказчику, а в сцене экзекуции – активный собеседник, но уже не просто рассказчика, а его в новой роли – рассказчика-наблюдателя. И наконец, в заключение автор – активный собеседник.
Обратим внимание на заключительные реплики слушателей Ивана Васильевича. Композиционно они напрямую соединены с диалогическим началом и создают ту самую кольцевую рамку, о которой мы уже говорили. Однако эти реплики тесно связаны и с заключительным фрагментом последней части, создавая впечатление размытости концовки.
Автор усиливает это впечатление зачинной фразой: «Что же, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было – дурное дело? Ничуть». Казалось бы, ясно: герой считает, что вина всего происшедшего – это случай. Он даже продолжает встречаться с Варенькой, но… Решение и, может быть, даже убеждение, что так должно быть, – это одно, а полный разлад души, психологический надлом, изменение всех планов и сошедшая «на нет» любовь – это совсем другое. Фатальная вера в случай уступает место сомнению, поиску, ничего общего не имеющему с религиозным фанатизмом.
Реплики в тексте использованы не только для оживления диалога, но и для углубления подтекста. Первая, авторская, в зачинном диалоге: «Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно». Это в ответ на слова Ивана Васильевича: «Вот вы говорите…» Характер реплики трудно определить, что-то между иронией и дружеским подшучиванием. Собственно, важно другое: автор, представляя своего героя несколько странным, объясняет все манерой «отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли». Стилистический эффект реплики – переключение открытой дискуссии с обществом на психологический план персонажа, конфликтующего с самим собой.
Во внутренней речи героя слышится откровенное признание наедине с самим собой бесперспективности усилий понять «что-то», что знают другие. В непосредственном обращении к слушателям уже без полутонов звучит заверение в том, что он не осуждает увиденное на плацу. И наконец, вывод, завершающий его размышления: «…не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился».
Так что же, все-таки случай перевернул всю его жизнь? Не будем торопиться с ответом. Вчитаемся в реплику – реакцию слушателей. Она, на наш взгляд, полностью опрокидывает запрограммированное восприятие «истории» Ивана Васильевича: «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, – сказал один из нас. – Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было». По форме своей, по резонерствующему стилю, она вполне могла бы принадлежать и автору.
На контрасте одного и того же слова «годиться» в сочетании с «как видите» и «знаем» построен еще один авторский алгоритм. Интеллектуальный кроссворд для слушателей и на этот раз легко разгадать, внимательно вчитавшись в текст. Рассказчик смущен («Ну, это уж совсем глупости») и, как вскользь замечает автор, раздосадован. Но изменяет ли это суть вопроса: среда заела или случай испортил жизнь? Думаю, да.
Случай лишь помог человеку понять среду, увидеть ее обнаженной. Это «что-то», что помогает другим жить по принятым в этой среде нормам, вызвало у героя такое психологическое потрясение, от которого он не смог оправиться и «выпал» из общества. Однако в выстроенном автором подтексте это прочитывается не как безвольное повиновение, а как активное начало в решении своей судьбы. Человек формирует самого себя, а своими поступками влияет на общество. Среда влияет на человека? Конечно, но противостояние ей или подчинение – вот итог раздумий Ивана Васильевича, вот в чем смысл его поступка.
Автор почти принудительно включает и погружает читателя в дискуссию, заставляет размышлять, наталкивая на то, что осталось за строкой. Сравнивая, сопоставляя эксплицитный и имплицитный планы текста, декодируя подтекст во всех его звеньях, нетрудно выявить философскую концепцию Л.Н. Толстого, глубину психологической катастрофы и духовной метаморфозы героя. Это, на мой взгляд, и есть еще одна попытка, рассматривая текст как эссеистическую прозу, приблизиться к авторскому замыслу.
Толстого – писателя и публициста – всегда волновала проблема «личность и среда». Его рефлектирующие герои мысленно проигрывают свою жизнь, перепроверяя свои реакции, эмоции, поведение. Рефлексия входит в художественную ткань текста, обогащая образы героев и одновременно проявляя авторское «я». Разделить философское и художественное начало в его романах, повестях и рассказах невозможно. Это прочный сплав, характеризующий творческую манеру, которую сегодня принято называть эссеизацией художественного текста.
Некоторые литературоведы даже убеждены, что современный писатель в обязательном порядке должен «рефлектировать для себя и рефлектировать в процессе творчества на бумаге», потому что он «не только выполняет свою собственную художественную задачу, но и рефлектирует над собственной литературой… В европейских литературах сочинение эссеистических и близких к эссеистике текстов – совершенно нормальная часть писательской практики. В русской литературе, и в современной в том числе, этот жанр очень мало распространен»[103]103
Сарнов Б., Хазанов Б. Есть ли будущее у русской литературы // Вопросы литературы. 1995. Вып. 3 // http://www.auditorium.ru/books/285/vopli95-3_chapter1.html.
[Закрыть].
Глава третья
«Откуда пошло» эссе в русской литературе
«Слово» – предвестник эссе?
Эссе в русской культуре начинается с работ просветителей. Это принятая в науке точка зрения, однако, заглянув в корневую систему эссеистики, можно заметить и более ранние ее ростки. Ближе всего к эссе, на наш взгляд, стоит «слово» – оригинальный жанр древнерусской литературы. Близость внешняя – в манере древних русских авторов размышлять над проблемами философии, религии, бытия. Близость внутренняя – в композиционно-речевой модели спонтанного развития мысли, семантическим центром которой является заголовок «Слово о…»
В древнерусской литературе (XI век) жанр «слова» занимает особое место, он глубоко изучен филологами и литературоведами, которые раскрыли нам личности древнерусских авторов и проблему авторства как таковую. Мы же, опираясь на текст, попытаемся лишь высказать гипотезу о близости «слова» и «эссе».
«Слово» по целому ряду жанровых признаков можно считать предшественником эссе. «Откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить…»[104]104
«Повесть временных лет» // Древнерусская литература. М., 1993. С. 20.
[Закрыть], – это хорошо известно. Но размышляя, «откуда пошло» эссе в русской литературе, все же поставим в конце фразы вопросительный знак. Как открытую дверь для дальнейших исследований, так и для возможных возражений.
«Слово о законе и благодати» было написано 26 марта 1049 года первым русским митрополитом Иларионом[105]105
Существует мнение, что Иларион был автором и первого произведения по русской истории – «Сказания о распространении христианства на Руси». Об этом: «История русской литературы»: В 4 т. Т 1. Л.: Наука, 1980. С. 50.
[Закрыть]. Оно начинается пространным рассуждением о Ветхом и Новом заветах. Ход его по стилистическому рисунку напоминает спираль: Иларион не раз возвращается к мысли о «благодати», снизошедшей на все народы благодаря Новому завету. Рассуждения пересыпаны доводами и аргументами в подтверждение идеи о высокой миссии христианства. Здесь и символика библейских образов, и изречения святых отцов, из которых проступает идея автора: могущество и авторитет русской земли. Древний мир являет нам свой лик через личность автора, патриотическая причастность к судьбе русской земли – через его философские помыслы. Все это близко к отношениям «читатель – автор» в эссеистической литературе, где зарождение личностной мысли о том или ином явлении блуждает в поисках ответа.
«Слово о погибели русской земли»[106]106
«Слово о погибели русской земли» датируется периодом с 1238 года (начало монголо-татарского нашествия) по 1246 год (год смерти Ярослава, о котором упоминается, как о живом).
[Закрыть] еще ближе к эссе. Это обстоятельное оглядывание Руси – объекта гордости и горестных тревог, скорее размышление, чем описание красот и дел человеческих: «О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты… Всем ты преисполнена, земля Русская, о православная вера христианская!»[107]107
«Слово о погибели русской земли после смерти великого князя Ярослава». Цит. по: Древнерусская литература / Сост. Е. Рогачевская. М., 1993. С. 135.
[Закрыть] И горестное сострадание по поводу междоусобиц: «И в те дни, – от великого Ярослава, и до Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя владимирского, – обрушилась беда на христиан…»[108]108
Там же.
[Закрыть]
В жанровом отношении «Слово о погибели…» очень своеобразно. Историки литературы (полемика Д.С. Лихачева с А.В. Соловьевым[109]109
Реплика Д.С. Лихачева на работу А.В. Соловьева «Заметки к «Слову о погибели Рускыя земли»». ТОД РЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 79–80.
[Закрыть]) подметили особые функции пейзажа: природа в тексте просто участник событий и не привычное творение божественной мудрости, а объект философских размышлений о мудрости божественного мироустройства. Она стала лейтмотивом текста, и этому подчинен весь стилистический механизм.
Новая роль пейзажа отражает новый взгляд автора на свое местоположение в мире и новую форму воплощения авторского «я», на наш взгляд, очень близкую к эссеистической. А.В. Соловьев отмечал «портретный характер» природы, создающий «иллюзионистический стиль». Нет, возражал Д.С. Лихачев, никакого в «Слове о погибели…» «оперного трафарета», свойственного литературе XIX века, при оценке функциональных сдвиговдревних текстов[110]110
Лихачев Д.С. Система литературных жанров Древней Руси // Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. С. 226.
[Закрыть]. Как известно, он исходил из своей концепции исторического подхода к изучению памятников древности.
Перечитывая текст, убеждаемся, что в основе его не портретные зарисовки, а внутренний мир автора, со-причастность и со-переживание, гордость за со-отечество (Великую Русь). Спонтанность речи, переключение планов, включенность в сомнения и со-размышления подтверждают: важно не то, как выглядит автор или как смотрится пейзаж, а то, что он думает (эссеистическая многоплановость чувств и мыслей), созвучность его мыслей и настроения картинам природы. Одним словом, «слово о» – форма литературно-критических размышлений, спроецированных на собственную жизнь и судьбу автора. Причисление этого древнего жанра к эссеистической литературе, на наш взгляд, не выглядит причудой современного прочтения.
«Слово о полку Игореве» (памятник 1185 года) – признанный поэтический шедевр Средневековья. В нем, по подсчетам исследователей, до 90 % текста – авторские отступления, выполненные в яркой эссеистической манере: размышления о жанре и о судьбе князей, философские раздумья о русской Земле и об истории. Судя по стилю размышлений, философских и политических воззрений, виден человек с независимой патриотической позицией[111]111
Проблему связи древнерусских жанров с определенными типами стиля глубоко исследовал Д.С. Лихачев (Поэтика древнерусской литературы. М.:
Наука, 1979).
[Закрыть]. Эссеистическое начало в жанре «слова» видно и в стилистическом мастерстве, и в отточенности форм исторических экскурсов, хотя это является объектом специального исследования.
Из теории жанров древнерусской литературы известно, что «словом» средневековые писатели называли и торжественную речь («Слово о законе и благодати» митрополита Илариона), и молитву («Слово о погибели русской земли»), и воинскую повесть («Слово о полку Игореве»). Смысловое содержание всех этих заглавий «слов» задавало стилистическую и эссеистическую архитектонику текста. Индивидуальное восприятие событий торило дорогу к жанру, значительно позже оформившемуся как эссе.
Эссеистическое «я» в разных жанрах
Первые русские риторики, на наш взгляд, – это тоже истоки эссеистики. И по манере размышлений, и по форме выражения. Обычно риторики вологодского епископа Макария и М.М. Усачева упоминаются в науке как первые значительные опыты красноречия (XVII век). В них уже есть и рекомендации, как построить речь, соответствующую ситуации, и разграничения трех типов речи (высокий, средний и низкий), получившие теоретические определения в работах Ломоносова.
Отметим, что в этих риториках есть и очевидное эссеистическое «я» автора, сформировавшееся позже в категорию «частного человека»[112]112
См.: Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X–XVIII веков // История русской литературы: В 4 т. Т. 1. Указ. изд. С. 306–311.
[Закрыть]. Появление нового типа писателя, чья литературная деятельность обусловливалась личностью, оказалось процессом длительным и связанным с историческим развитием России, ее культуры и литературы. То, что зарождалось в XVII веке, явно проявилось в литературе XVIII века, хотя интерес к личности был заметен еще в произведениях XIV века. Использовались приемы приближения читателя к жизни автора, к его биографии, особенностям характера и этическим воззрениям. Ярким, но не единственным примером такого сближения является «Житие протопопа Аввакума», – «высокохудожественная автобиография и, пожалуй, первый опыт создания сложного, духовно богатого характера русского человека»[113]113
Лихачев Д.С. Своеобразие исторического пути русской литературы X–XVII веков. РЛ, 1972. № 2. Цит. по: История русской литературы. Указ. изд.
С. 468.
[Закрыть].
Автор и герой здесь – одно лицо. Автор «горюет», «вздыхает», сравнивает себя с первыми христианскими писателями-апостолами. Речь его свободна по форме («в просторечии») и по содержанию (обсуждает свои и чужие поступки). Но какое отношение имеет этот текст к эссе?
Протопоп Аввакум первоначально включил в свое житие стихи о душе, которые назывались «О душа моя». Затем отказался от этого опыта, объясняя минутной слабостью и другими соблазнами. Но ведь стихи есть, и в жанровом плане это просто находка: поэтический опыт рефлексии, столь напоминающий эссеистическое откровение. Опыт самоанализа в поэтической форме. В развитии русской эссеистической литературы они сохранились как следы «памяти жанра», первоначально появившиеся в агиографической литературе.
С текстом «Духовного регламента» Феофана Прокоповича традиционно связывают зарождение эссе в русской литературе. Это, безусловно, публицистическое эссе, в котором выражены духовные и нравственные мотивы возрождения наук. В «Словах и речах» Ф. Прокопович запечатлел образ новой России, а в «Слове похвальном о преславной над войсками свенскими победе» – высокое понимание политического и общественно-исторического значения победы в Полтавской битве.
«Слово…» не столько похвала, сколько историко-философская оценка события и причин победы. Заканчивается же текст сатирическим этюдом: Карл XII мечтал разместить своих солдат в завоеванной Москве, и многие из них действительно вошли в Москву: в колоннах тысяч пленных шведов, которых провели по Москве. Эссеистическое «я» автора прозвучало уверенно, с завидным литературным мастерством. С иронией и даже с сатирическими картинами.
О Михаиле Васильевиче Ломоносове – особый разговор. Его роль в развитии эссеистики неотделима от роли в русской науке, культуре, литературе. Он «обнял все отрасли просвещения» (А.С. Пушкин)[114]114
Пушкин А.С. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова // А. Пушкин. Золотой том. Собр. соч. М.: Имидж, 1993. С. 722.
[Закрыть]. В эссеистических философско-литера-турных статьях Ломоносов задумывается о судьбах русского языка и о путях развития науки, о литературном труде. «О качествах стихотворца рассуждение» – это осмысление собственного опыта и поиск ответа на вопрос о том, какими качествами – человека и ученого – должен обладать литератор.
Нас же интересует не столько содержание статьи, сколько путь разработки темы. Она заявлена с самого начала эссе оценочной констатацией факта: «…В Российском народе между похвальными ко многим наукам склонностьми перед недавними годами оказалася склонность к стихотворству; и многие, имеющие природное дарование, с похвалою в том и преуспевают»[115]115
М. Ломоносов. О качествах стихотворца рассуждение // Хрестоматия по русской литературе XVIII века. М., 1965. С. 158.
[Закрыть]. Отсюда начинается движение темы «по касательной»: то раздумья автора совсем близки к сути, то отстраняются на философскую дистанцию.
Он разглядывает проблему в разных плоскостях, ищет подтверждения своим мыслям у писателей греческих. Высказывает свое отношение к истории древней, политической и литературной. Оценивает общекультурные достоинства Горация, Вергилия, Овидия. Формулирует (в сравнительном аспекте, сопоставив русский язык с латинским, французским, испанским и немецким) признаки оригинального стиля русского языка.
«О качествах стихотворца рассуждение» – пример глубочайшей эрудиции, владения искусством слова, работы мысли – словом, задействован весь арсенал эссеистической технологии поиска ответа на поставленный вопрос. Эссеистическая литература XVIII – начала XIX века существовала в форме полемически заостренных размышлений над глобальными проблемами. В «век просвещения» она заботилась о совершенствовании культурного уровня, о проявлении самобытности русского человека и о развитии русского языка и русской литературы.
Предложенная нами в предыдущих работах[116]116
Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории – к декодированию. Указ. изд.
С. 82–86.
[Закрыть] и использованная в этой методика декодирования текста, позволяющая выявить стилистическую позицию автора, могла бы стать надежным инструментом в давнем литературном споре об авторстве анонимного текста «О качестве стихотворца рассуждение», опубликованного в «Ежемесячных сочинениях» (1755 год). Ленинградский историк литературы П.Н. Берков, исследуя этоттекст, доказывал авторство М.В. Ломоносова[117]117
Берков П.Н. Анонимная статья Ломоносова (1755) // Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII века. Сб. «XVIII век» / Под ред. акад. А.С. Орлова. Л., 1935. С. 327–351 // Цит. по: Модзалевский Л.Б. Ломоносов и «О качествах стихотворца рассуждение» (Из истории русской журналистики 1755 г.) // http://feb-web.ru/febupd/lomonos/critics/ling/ltl/ltl-133-htm.
[Закрыть], но с ним соглашались далеко не все. Существовала другая версия, которая приписывала авторство Г.Н. Теплову[118]118
Там же.
[Закрыть]. Текстологическая концепция доказательств П.Н. Беркова строилась на совпадении авторских идей «Рассуждений» с программной статьей «О нынешнем состоянии словесных наук в России», а главное – с «Вступлением» (§ 2) в «Риторике» Ломоносова.
Современный уровень исследований, в частности стилистики текста, позволяет разрешить этот спор, на наш взгляд, в пользу П.Н. Беркова анализом стилистической манеры выражения эссеистического «я» в композиционно-речевом строе текста. Именно так поступил В.В. Виноградов в статье «Из анонимного фельетонного наследия Достоевского»[119]119
Виноградов В.В. Из анонимного фельетонного наследия Достоевского // Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972. С. 185–211.
[Закрыть], использовав композиционно-речевой строй и эссеистическую позицию автора как неопровержимые доказательства его творческой манеры. Прием этот научно убедителен и эффективен, подтверждение чему находим, анализируя творчество Ломоносова.
Роль экстралингвистических условий в формировании эссеистического «я» в его научных трактатах мало изучена. Например, теория трех стилей, как и определение риторики, известна с античных времен, но он впервые сформулировал теорию о функциональных разновидностях русского языка, ввел понятие трех стилей в конкретном применении к жанру (типу) русской литературной речи, наметил принципы усиления ее выразительности. Тем и любопытно полное название его знаменитой «Риторики» (1748 год): «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки». Отношения «автор – читатель» легко вычитываются из стилистически расширенного до уровня тезиса заголовка – «в пользу любящих словесные науки». В пользу читателя.
Приподнятость стиля и его эссеистичность характерны для всего ораторского творчества Ломоносова. Г.А. Гуковский образно писал о строе речи «Письма о правилах российского стихотворства» (1739 год): «Ломоносов строит целые колоссальные словесные здания, напоминающие собой огромные дворцы Растрелли; его периоды самым объемом своим, самым ритмом производят впечатление гигантского подъема мысли и пафоса»[120]120
Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 110. Цит. по: История русской литературы: В 4 т. Т. 1. Л.: Наука, 1980. С. 530.
[Закрыть]. Конечно, он имел в виду витиеватость стиля, спиралью закрученную мысль в структуре рассуждений, разглядывание объекта со стороны, с разных точек. Но при этом – корректность, научная строгость, основательность и убедительность оценок. И мысль, уходящая в философские глубины.
Эссеистическая форма авторского «я» М.В. Ломоносова в какой-то степени стирает границы между научным трактатом и эссе. Исследователи не без оснований по-разному определяют жанр этого текста. Не будем и мы выносить своего вердикта, а лишь заметим, что с позиций общей концепции жанра эссе, будь она создана, можно было бы доказательно разрешить спор, но ее-то до сих пор и нет.
Жанр «ораторского слова», говоря современным языком, напоминает эссеистический сериал в творчестве М.В. Ломоносова: «Слово похвальное… Елисавете Петровне…», «Слово о пользе Химии…», «Слово похвальное… Петру Великому…», «Слово о рождении металлов», «Слово благодарственное… Елисавете Петровне… на торжественной инавгурации Санктпетер-бургского Университета…», «Слово благодарственное… на освещение Академии Художеств…» и другие. Эти тексты были ориентированы на открытое общение с аудиторией, и их строй отвечает всем правилам ораторского искусства того времени.
В разработке жанра «слова» он продолжил традиции Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича и других, менее известных риторов, которые откликались на события общественной и политической жизни, хотя изначально «слово», как мы знаем, писалось на религиозные сюжеты[121]121
См.: Елеонская А.С. Отечества умножить славу // Вступительная статья к сб.: М. Ломоносов. Для пользы отечества… М.: Сов. Россия. 1990. С. 5—24.
[Закрыть]. Для стилистики ломоносовского «слова» характерна привязанность к теме и избранной тональности. Оно соседствует с другими жанрами – панегириком, предисловием к древней истории или к краткому описанию путешествий.
Оформленность, самостоятельность, выразительность каждого типа – это становление и развитие жанровой функциональной стилистики. «Слово» в древнерусской литературе и в прозе М.В. Ломоносова – разные послания читателю. Тем не менее, можно считать русским истоком жанра эссе. Среди его вариантов – «Чтения» о словесности, «Слово» о красноречии, «Опыт» о похвальных словах, «Взгляды» на… «Мысли» о… «Беседы»… «Этюды»…
М.М. Сперанский в своих «Правилах высшего красноречия» (1792 год) ставит в один ряд науку о красивой речи с умением развить в себе эссеистическое мышление: «Мы учимся мыслить двояким образом: или замечая правила, посредством коих истины соплетенные мы разрешаем на простейшия и приводим их к началу очевидности, или упражняя ум наш в самой очевидности, т. е. в истинах простых и отвлеченных, каковы суть истины математические. Первый способ можно назвать умозрительным, а второй опытным. Тот, кто соединил в логике ума опыт сего рода с теориею, обрел верную нить к истине»[122]122
Сперанский М.М. Правила высшего красноречия // Цит. по: Аннушкин В.И. История русской риторики: Хрестоматия. 2-е изд., испр. и доп. М.: Флинта:
Наука, 2002. С. 227.
[Закрыть] …
А для чего оно необходимо, это эссеистическое мышление? Только ли для творчества или еще и для жизни? Оказывается, для организации мысли и слова в единое целое: «Порядок мыслей, входящих в слово, два главные имеет вида: взаимное мыслей отношение к себе и подчинение их целому. Отсюда происходят два главные правила для расположения мыслей:
1. Все мысли в слове должны быть связаны между собой так, чтоб одна мысль содержала в себе, как сказать, семя другой.
2. Второе правило в расположении мыслей состоит в том, чтоб все оне подчинены были одной главной.
Сие правило известно в писаниях риторов под именем единства сочинений… Но во всяком сочинении есть известная царствующая мысль: к сей-то мысли должно все относится»[123]123
Сперанский М.М. Правила высшего красноречия // Цит. по: Аннушкин В.И. История русской риторики: Хрестоматия. 2-е изд., испр. и доп. М.: Флинта:
Наука, 2002. С. 227.
[Закрыть].