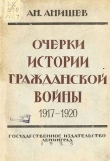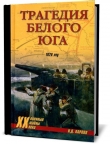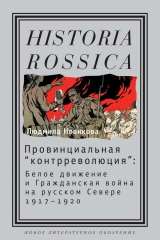
Текст книги "Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере"
Автор книги: Людмила Новикова
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Сходство с неудачной политикой прежнего Временного правительства, в глазах Чаплина и офицеров, усиливала кабинетная «говорильня». Вместо ожидавшихся решительных действий по организации армии и укреплению тыла архангельский кабинет, казалось, погряз в мелочных внутренних спорах, которые уже в первые недели несколько раз приводили правительство на грань раскола. Так, 22 августа 1918 г. Чайковский едва смог убедить не подавать в отставку управляющего Отделом юстиции Гуковского, который таким образом хотел протестовать против решения коллег ввести в будущей северной армии военно-полевые суды[314]314
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 56 об. – 58 (журналы заседаний ВУСО, 22 и 23 августа 1918 г.). На учреждении военных судов настаивал командующий союзным контингентом на Севере генерал Ф.К. Пуль.
[Закрыть]. Хотя Гуковский при решении юридических вопросов уже раньше заработал себе репутацию «педанта и формалиста, сутяги и “крючка”, поднаторевшего в вопросах процедуры»[315]315
Вишняк М.В. «Современные записки». Воспоминания редактора. Bloomington, 1957. С. 71. Характеристику Гуковского см. также: Маклаков В.А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 72–73.
[Закрыть], его демарш не был исключением. Так, на заседаниях 27 и 28 августа уже Лихач категорически настаивал на своей отставке в знак несогласия с решением коллег не выдавать зарплату «техническим» служащим советских учреждений, недополученную ими от большевиков. Теперь уже Гуковский пытался урезонить Лихача. Он полагал излишним платить людям, причинявшим убытки стране, причем «именно за труд по причинению этих убытков»[316]316
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 63–63 об., 65–65 об. (журналы заседаний ВУСО, 27 и 28 августа 1918 г.); Ф. 4065. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 (доклад Лихача правительству).
[Закрыть]. Но Лихач, не найдя поддержки, упорно добивался своей отставки. Чтобы избежать раскола, Верховное управление создало комиссию для специального изучения вопроса.
Чайковский, известный моральным ригоризмом еще со времен своей народнической деятельности, допускал подобные длительные дискуссии в кабинете о моральности или аморальности военно-полевых судов и невыдачи зарплат техническим сотрудникам советов. Но эти моралистские принципы только мешали работе кабинета и оттеняли политическую неопытность его членов. Плохую услугу правительству оказали и коллективистские симпатии его главы. Так, даже быт членов Верховного управления был коммунальным – они жили вместе там же, где заседали, – в здании губернских присутственных мест[317]317
Несмотря на квартирную нужду в Архангельске, коллективизм был слишком близок идеям Чайковского, чтобы коллективный быт членов ВУСО являлся только следствием внешних обстоятельств.
[Закрыть]. Это еще более отдаляло приезжих эсеров от окружавшей действительности. Вместо попыток найти компромисс с региональной элитой и белыми офицерами Верховное управление строчило распоряжения и воззвания, пытаясь силой слова завоевать авторитет. Тем временем Чаплин и его штаб действовали все более независимо, уже не заботясь о сохранении рабочих взаимоотношений с эсеровским правительством и даже в немалой мере провоцируя обострение конфликта.
Открытые столкновения между Чаплиным и Верховным управлением начались уже в первые дни августа 1918 г. Так, острый конфликт разгорелся по вопросу о красном флаге, в котором Верховное управление видело символ демократической революции и своей преемственности с политикой Временного правительства 1917 г. Чаплин и симпатизировавший ему командующий союзными войсками на Севере генерал Ф.К. Пуль полагали, что красный флаг связан с большевистским правлением. Поэтому они выступили против попыток рабочих поднять красный флаг над зданием Совета профсоюзов и оспорили решение правительства сделать сочетание трехцветного национального и красного флагов официальным флагом Северной области[318]318
См.: ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 37. Л. 16–17 (журнал заседания ВУСО, 4 августа 1918 г.). См. также: ГАРФ. Ф. 3695. Оп. 1. Д. 72. Л. 6–6 об. (письмо Совета профсоюзов в ВУСО, 4 августа 1918 г.). После Февраля 1917 г. красный флаг фактически являлся государственным символом России, см.: Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001. С. 250–285. Приказы Чаплина и Пуля см.: ГАРФ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 8. Л. 2 (приказ Ф. Пуля); Англичане на Севере (1918–1919 гг.) // Красный архив. 1927. Т. 6 (19). С. 41.
[Закрыть]. После острой перепалки Верховное управление пошло на попятную. Однако оно стало еще более пристально следить за действиями военных, которых кабинет подозревал в «контрреволюции» и желании нарушить прерогативы правительства. Подтверждение не заставило себя ждать. Вскоре новые приказы Пуля и Чаплина, не заручившихся предварительно согласием кабинета, запретили всякие митинги и собрания в общественных местах и объявили о назначении военного губернатора Архангельска в лице французского полковника Донопа, наделив его широкими гражданскими полномочиями[319]319
Англичане на Севере. С. 41–42; ГАРФ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 8. Л. 1, 3, 12 (приказы Ф. Пуля, начало августа 1918 г.); ГАРФ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1. Л. 15, 22 (журналы заседаний ВУСО, 6 и 8 августа 1918 г.).
[Закрыть].
Хотя Чайковский впоследствии согласился с большинством из введенных военными ограничений, признав их необходимость для укрепления обороны, его и других министров не устраивал сам стиль действий русского и союзного командования, видимо, даже не принимавших в расчет существование Северного правительства. В конце августа правительство решило утвердить свою главенствующую роль в Северной области и дать отпор вмешательству военных в сферу гражданского управления. Направив несколько резких протестов Пулю и союзным дипломатическим миссиям, оно постановило официально подчинить себе Чаплина как командующего войсками, ограничить компетенцию его штаба исключительно оперативными и стратегическими вопросами и отстранить от должности русского коменданта Архангельска полковника М.М. Чарковского, взаимодействовавшего с союзным губернатором Донопом. Наконец, 3 сентября 1918 г. оно удалило от власти и Донопа, постановив заменить его русским гражданским генерал-губернатором. На эту должность был выдвинут ближайший соратник Чайковского Дедусенко[320]320
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 70, 76–76 об. (журналы заседаний ВУСО, 31 августа и 3 сентября 1918 г.); Ф. 17. Оп. 1. Д. 20. Л. 4 (письмо Чайковского американскому послу Фрэнсису, 13 августа 1918 г.); Д. 29. Л. 115–118 об. (меморандумы ВУСО союзным послам, 29 и 31 августа 1918 г.); Собрание узаконений и распоряжений ВУСО / ВПСО. 1918. № 1. Ст. 48. С. 51; Англичане на Севере. С. 42–43; Интервенция на Севере в документах. М., 1933. С. 18–19; Чайковский Н.В. Об Архангельском перевороте // Последние новости. 1921. 23 сент.
[Закрыть].
Перспектива оказаться в непосредственном подчинении у молодого военного министра Маслова и нового генерал-губернатора Дедусенко, которых Чаплин открыто презирал, приблизила развязку. В офицерских кругах появились слухи о скором правительственном перевороте. Генерал Пуль, уже ранее ответивший на отставку Донопа угрозой арестовать Маслова, дал понять офицерам, что не будет вмешиваться в это «внутриполитическое» дело. Тем временем некоторые британские военные открыто симпатизировали идее переворота[321]321
British Documents on Foreign Affairs. Part II. Series A. Vol. 1. Doc. 24. Р. 143; Noulens J. Mon ambassade en Russie soviétique. Т. 2. Р. 199. Планам Чаплина симпатизировал К. Торнхилл, начальник союзной контрразведки, располагавшейся напротив здания правительства. См.: Чаплин Г.Е. Два переворота на Севере. С. 23; Strakhovsky L.I. Intervention at Archangel. P. 50–51.
[Закрыть]. Чаплин, вставший во главе заговора против Верховного управления, ожидал встретить сочувствие и в региональных либеральных кругах, так как губернский комиссар Старцев принял деятельное участие в его планах.
В итоге Чаплину удалось быстро и бескровно осуществить намеченный переворот. В ночь на 6 сентября 1918 г. при помощи офицерской роты он арестовал членов правительства прямо в их общежитии, погрузил на пароход и отправил в Соловецкий монастырь. На борту оказались Чайковский, Маслов, Лихач, Гуковский и Зубов. Мартюшин был задержан позднее и приведен в штаб Чаплина. Два члена правительства – Дедусенко и Иванов – успели скрыться. Наутро на параде, устроенном по случаю прибытия американского полка для пополнения союзного контингента, торжествующий Чаплин сообщил генералу Пулю и изумленным союзным послам, что правительства больше не существует[322]322
Чаплин Г.Е. Два переворота на Севере. С. 27–28; British Documents on Foreign Affairs. Part II. Series A. Vol .1. Doc. 24. Р. 143.
[Закрыть].
Впоследствии многие современники и историки сравнивали чаплинское выступление с переворотом адмирала А.В. Колчака в Омске против Уфимской директории[323]323
См., например: Мельгунов С.П. Н.В. Чайковский в годы гражданской войны. С. 89–90; Swain G. The Origins of the Russian Civil War. Р. 219, 245, 252–253.
[Закрыть]. Однако, в отличие от Колчака, Чаплин не смог закрепиться у власти. У него не было широкой поддержки вне офицерских кругов. Большинство представителей региональной элиты и союзные дипломаты настороженно отнеслись к перевороту. А рабочие и влиятельные на Севере социалистические круги решительно выступили против Чаплина в поддержку свергнутого правительства.
Переворот резко осудило социалистическое руководство кооперативов, профсоюзов и недавно воссозданных земств и городских управ, опасавшихся наступления «реакции». Масла в огонь подливали отсутствие ясных политических заявлений со стороны Чаплина и его приказы о подчинении всех гражданских сфер управления военной власти и запрете всех митингов и собраний[324]324
Приказы Чаплина см.: Вестник ВУСО. 1918. 14 сент.; Голос Отечества. 1918. 12 сент. Также после переворота в Архангельске начались аресты эсеров и меньшевиков, см.: Минц И.И. Английская интервенция и северная контрреволюция. С. 104.
[Закрыть]. Рабочие и левая общественность были взбудоражены слухом, пущенным Дедусенко и Ивановым в специально изданной прокламации, что офицеры готовят восстановление монархии и что для этой цели в Архангельске якобы специально скрывали великого князя Михаила Александровича, в действительности уже расстрелянного большевиками. В итоге уже вечером 6 сентября в Архангельске началась рабочая забастовка. Прекратили работу электрическая станция и типография. Остановились трамваи, которые потом почти сутки по улицам города водили американские солдаты, мобилизованные из рабочих районов Детройта. Под антимонархическими лозунгами эсеры даже организовали крестьянский отряд в соседних с Архангельском деревнях, который, по крайней мере по ведомости отпущенного для него кооперативами продовольствия, насчитывал до 300 бойцов[325]325
Francis D. Russia from the American Embassy, April 1916 – November 1918. New York, 1921. P. 267–268 (частичный перевод: Фрэнсис Д. Россия из американского посольства // Заброшенные в небытие. С. 23–83); Robien L. de. Journal d’un diplomate en Russie. Paris, 1967. P. 319 (частичный перевод: Робиен Л. Дневник дипломата в России. 1917–1918 гг. // Заброшенные в небытие. С. 162–212); FRUS. 1918. Russia. Vol. 2. P. 521–522; Вестник ВУСО. 1918. 11 сент.; Голос Отечества. 1918. 12 сент.; Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области // Архив русской революции / Ред. И.В. Гессен. Берлин, 1922. Т. 3. С. 21–22. О протестах против переворота см.: Вестник ВУСО. 1918. 14 сент.; Отечество. 1918. 20 сент. См. также: ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 99. Л. 7 (счет за продовольствие крестьянского отряда М.Ф. Корсунского).
[Закрыть].
Не поддержали переворот и местные либералы, напуганные резкими действиями и заявлениями Чаплина. Если Старцев согласился стать помощником Чаплина «по гражданской части», то другой гласный городской думы, кадет А.П. Постников, назначенный помощником Старцева, решительно отказался от этого поста[326]326
Голос Отечества. 1918. 12 сент.; Вестник ВУСО. 1918. 14 сент.
[Закрыть]. И даже архангельский комитет кадетской партии, несмотря на участие Старцева в заговоре, отмежевался от причастности к перевороту и подтвердил приверженность партии «методам открытой борьбы»[327]327
Отечество. 1918. 20 сент.
[Закрыть]. В итоге Чаплину, утвердившему за собой пост командующего русской армией на Севере, не удалось создать при себе даже подобия гражданской администрации. Архангельская либеральная общественность, недовольная левым правительством, посаженным по инициативе Союза возрождения России, не была готова, по крайней мере в тот момент, принять другую крайность – правое военное управление во главе с не имевшим широкой известности капитаном.
В общем и целом, неудачи, которые постигли и социалистов, и правых военных, попытавшихся укрепиться у власти в Архангельске, казалось, подсказывали, что лучшим выходом из ситуации было бы создать согласительное коалиционное правительство. К этому же подталкивала и местная традиция взаимодействия среди разных кругов региональной общественности. Однако Чаплин и Чайковский не были готовы к примирению. В свою очередь, региональные активисты теперь, как и во время антибольшевистского переворота, не взялись за формирование нового кабинета и лишь ожидали, чем разрешится спор между военными и политиками из Союза возрождения и пригласят ли местных представителей наконец к участию в правительстве.
Антибольшевистское руководство Северной области оказалось в политическом тупике. Однако в этот момент в конфликт неожиданно вмешались члены союзных дипломатических миссий, которые уже несколько недель находились в Архангельске, с тревогой наблюдая за развитием кризиса. Союзные посольства, представлявшие страны Антанты при имперском, а затем революционном правительствах в Петрограде, оказались на Севере по случайному стечению обстоятельств. Они покинули столицу уже в феврале 1918 г., опасаясь возможной оккупации города немецкими войсками. Проведя несколько месяцев в Вологде, они в июле переехали на занятый союзниками Мурман, а вскоре после высадки союзного десанта перебрались в Архангельск, рассчитывая представлять страны Антанты при новом всероссийском антибольшевистском правительстве. Среди глав союзных миссий политическим весом выделялись глава дипломатического корпуса престарелый посол США Дэвид Фрэнсис, в прошлом более десяти лет отслуживший американским министром внутренних дел, а также французский посол Жозеф Нуланс, бывший военный министр, а затем министр финансов Франции. Кроме них в Архангельске обосновались посол Италии маркиз Пьетро Томази делла Торрета, британский дипоматический представитель Фрэнсис Линдлей, в начале 1918 г. заменивший посла Джорджа Бьюкенена во главе британской миссии в России, а также представительства Сербии, Японии, Китая и Скандинавских стран[328]328
См.: Заброшенные в небытие. С. 23, 84, 486, 498–499.
[Закрыть]. Правда, послы задержались в Архангельске ненадолго и в конце 1918 – начале 1919 г. один за другим покинули Северную область, оставив вместо себя поверенных в делах и консулов. Однако в течение нескольких месяцев провинциальный Архангельск, вместивший высшие союзные представительства, являлся дипломатической столицей России. Это решающим образом отразилось на развитии политического кризиса и на формировании нового северного кабинета.
Первоначально послы вполне симпатизировали Верховному управлению и его политической программе. Американский посол Фрэнсис называл правительство более всех других похожим на то, «которое… американцы хотели бы видеть утвержденным в России»[329]329
Речь Фрэнсиса в русско-американском комитете 25 августа 1918 г. // Вестник ВУСО. 1918. 17 сент.
[Закрыть]. А британский посланник Линдлей в позднейшем отчете писал: «…[как союзникам] повезло… что мы имели дело с правительством, состоявшим в большинстве своем из членов Учредительного собрания, которых ничье воображение не могло бы причислить к реакционерам»[330]330
British Documents on Foreign Affairs. Part II. Series A. Vol. 1. Doc. 24. Р. 141.
[Закрыть]. Однако очевидная политическая некомпетентность новых министров и видимый всем конфликт, разгоравшийся между правительством и главнокомандующим его «вооруженными силами», заставили послов поумерить их оптимизм. В их записках и дипломатических сообщениях замелькали упреки в предрасположенности членов правительства к мелочным спорам и партийной «демагогии». Руководители миссий даже стали склоняться к тому, что кабинету не помешали бы некоторые политические перестановки, в частности удаление молодых министров Маслова, Дедусенко и Лихача, наименее приемлемых для офицеров[331]331
Ibid. Р. 141–142; Francis D. Russia from the American Embassy. P. 287–288; Noulens J. Mon ambassade en Russie soviétique. Т. 2. P. 199–200; Robien L. de. Journal d’un diplomate en Russie. P. 318; Swain G. The Origins of the Russian Civil War. P. 212.
[Закрыть].Однако насильственный чаплинский переворот и восхождение к власти командующего войсками, еще менее опытного в политическом отношении, показались послам совершенно неприемлемым способом разрешить конфликт. Выступление Чаплина не только поляризовало архангельскую общественность, но и скомпрометировало самих союзных представителей. Роль в случившемся командующего контингентом Антанты генерала Пуля, не предотвратившего переворот, представлялась довольно неясной. Дипломаты опасались, что население может заподозрить в содействии перевороту союзные державы, имевшие на Севере свои войска. Оказавшись в крайне неловком политическом положении и не видя иного выхода из кризиса, послы решили взять урегулирование конфликта на себя. На несколько дней они фактически стали временной властью в Северной области.
Уже в день переворота совещание послов под эгидой Фрэнсиса осудило произошедшее в специально выпущенном воззвании к населению, объявило об отстранении Чаплина и Старцева от власти и направило на Соловки британский корабль, чтобы вернуть в Архангельск членов правительства. В то же время с целью не допустить новых конфликтов послы предложили Чайковскому вывести из кабинета ненавистных офицерам управляющих отделами и пополнить правительство делегатами от местных общественных кругов[332]332
Вестник ВУСО. 1918. 11 сент.; FRUS. 1918. Russia. Vol. 2. P. 521–524; British Documents on Foreign Affairs. Part II. Series A. Vol .1. Doc. 24. Р. 143.
[Закрыть].
Чайковский вначале был не намерен идти на уступки и по приезде в Архангельск заявил о возвращении правительства к исполнению обязанностей в полном составе[333]333
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 71. Л. 38 (обращение ВУСО к населению области, 9 сентября 1918 г.).
[Закрыть]. Но переворот слишком явно обнажил политическую беспомощность кабинета, обязанного своим возвращением кучке иностранных дипломатов. Опасаясь скомпрометировать будущую всероссийскую власть этой зависимостью от иностранцев, а также разочаровавшись в способности белых и союзных войск быстро распространить контроль на обширную территорию, что сделало бы необходимым существование полновластного правительства, Чайковский решился упразднить кабинет. Место Верховного управления, претендовавшего на участие во всероссийской власти под эгидой Учредительного собрания и Союза возрождения России, должна была занять временная региональная администрация.
12 сентября правительство объявило о предстоящей отставке. Верный тому принципу, что верховная власть должна опираться на авторитет конституанты, Чайковский заявил о решении кабинета передать свои полномочия действовавшему в Самаре комитету членов Учредительного собрания. Для установления связи с ним из Архангельска выехали Маслов, Дедусенко и Лихач. В Северной области предполагалось создать временную, подчиненную Самаре администрацию в лице русского генерал-губернатора, на пост которого кабинет теперь назначил полковника Б.А. Дурова[334]334
Вестник ВУСО. 1918. 20 сент.; ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 79–80 об., 84 об., 89, 93, 111 об.; Д. 37. Л. 85 (журналы заседаний и постановления ВУСО, 12, 13 и 15 сентября 1918 г., и Положение о генерал-губернаторе Северной области). Выехавшие в Самару члены Верховного управления в итоге оказались в Омске, где они были арестованы казачьими отрядами в ночь колчаковского переворота в ноябре 1918 г.
[Закрыть]. Но вскоре сведения о непрочном военном положении Самары заставили Чайковского отменить это решение и заняться формированием согласительного местного правительства при участии делегатов от самоуправлений и торгово-промышленных кругов. В итоге 27 сентября 1918 г. Верховное управление окончательно сложило свои полномочия. А 9 октября после переговоров с представителями провинциальной элиты был объявлен состав нового кабинета[335]335
Вестник ВУСО. 1918. 27 сент., 6 и 9 окт.; Англичане на Севере. С. 45; FRUS. 1918. Russia. Vol. 2. P. 525–554; British Documents on Foreign Affairs. Part II. Series A. Vol. 1. Doc. 24. Р. 143–144; Noulens J. Mon ambassade en Russie soviétique. Т. 2. P. 221–224.
[Закрыть].
Во главе Временного правительства Северной области, которое пришло на смену Верховному управлению, по-прежнему стоял Чайковский. Однако под его руководством находилось совершенно иное правительство. Из прежних министров остался лишь секретарь Зубов, зато важные позиции заняли представители местной либеральной общественности – С.Н. Городецкий, который получил в управление Отдел юстиции, и Н.В. Мефодиев, ставший управляющим Отделом торговли, промышленности и продовольствия. Во Временном правительстве оказался и генерал-губернатор Дуров, возглавив в нем отделы – военный, внутренних дел, путей сообщения, почт и телеграфов[336]336
Вестник ВУСО. 1918. 9 окт. Также в правительство вошел князь И.А. Куракин в качестве временного управляющего Отделом финансов.
[Закрыть].
Появление в кабинете видных архангельских либералов лишило его состав прежнего радикализма и сделало более приемлемым для офицеров и правых и умеренных архангельских кругов. В то же время председательство Чайковского удержало за правительством симпатии социалистов, считавших, что оно будет следовать прежней программе широкой демократизации управления и социальных реформ[337]337
Возрождение Севера. 1918. 10 окт.
[Закрыть]. Переменами были довольны и союзные послы. Они полагали, что новые члены кабинета дадут правительству знание обстановки и «более практичный взгляд на вещи»[338]338
Noulens J. Mon ambassade en Russie soviétique. Т. 2. P. 201.
[Закрыть].
Сочувствие разных кругов антибольшевистской политической элиты открывало перед Временным правительством Северной области большие возможности. Но далекоидущие последствия политического кризиса оставались неясными. В частности, было не понятно, какую роль станут играть местные интересы в политике кабинета, который по-прежнему воспринимал себя прежде всего, как одно из звеньев всероссийской борьбы против большевиков. Насколько значительным будет влияние генерал-губернатора, который получил широкие полномочия? И наконец, удастся ли правительству сохранить поддержку социалистических кругов Северной области? В последующие месяцы политическая борьба вокруг правительства и смена знаковых фигур в кабинете дали ответ на эти вопросы, расставив все по своим местам.
Временное правительство Северной области и региональная общественность
В своем обращении к населению в связи с образованием нового кабинета Чайковский подтвердил, что общие цели правительства остаются неизменными. Он заявил о «полном преобладании в крае общесоюзнических задач и интересов над местными» и подчеркнул, что главный смысл существования Северной области состоит в том, чтобы «послужить исходным пунктом для освобождения России» от большевиков и немцев[339]339
Вестник ВУСО. 1918. 9 окт.
[Закрыть]. Однако на протяжении последующего года региональные интересы занимали в политике Временного правительства Северной области заметное место, а сам кабинет стал в значительной степени рупором провинциальной элиты. Вошедшие в кабинет представители местной общественности попытались использовать полученное влияние, чтобы разрешить давние проблемы экономической и культурной отсталости Русского Севера. В то же время, войдя во власть, местная элита превратилась из критика Северного правительства в одну из его главных опор. В дальнейшем именно содействию со стороны региональных лидеров архангельский кабинет был во многом обязан своей устойчивостью.
Переформированию кабинета предшествовали консультации Чайковского с Архангельским торгово-промышленным союзом при содействии союзных послов. Однако новые члены Северного правительства, выдвинутые союзом, едва ли защищали интересы «крупной буржуазии»[340]340
См., например: Тарасов В.В. Борьба с интервентами на Севере России. С. 117.
[Закрыть]. Новые управляющие отделами, будучи местными уроженцами, в первую очередь представляли региональную либеральную интеллигенцию. Сергей Николаевич Городецкий, до весны 1918 г. возглавлявший Архангельский окружной суд, был известен как организатор архангельских квартальных комитетов, один из лидеров правого крыла городской думы, председатель местного союза интеллигенции и кандидат в члены правления Архангельского общества изучения Русского Севера. Николай Владимирович Мефодиев, врач по образованию и, как и Городецкий, один из лидеров губернского комитета кадетской партии, представлял Архангельскую губернию в III Государственной Думе и в течение нескольких лет являлся издателем газеты «Архангельск»[341]341
Подробнее о Мефодиеве и Городецком см.: ГААО. Ф. 50. Оп. 5. Д. 329. Л. 327–327 об. (протокол допроса Мефодиева следователем секретно-оперативного отдела Архгубчека, 28 октября 1920 г.); Макаров Н.А. Военная интервенция и Гражданская война на Севере России. 1918–1920 гг.: энциклопедический биографический словарь. Архангельск, 2008. С. 98, 215–216. См. также: Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1918. № 8/9. С. 150; 1919. № 3/4. С. 93–94; Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области. С. 102–103.
[Закрыть].
Городецкий и Мефодиев, разочарованные непрактичностью Верховного управления, видели свою задачу, с одной стороны, в том, чтобы укрепить власть правительства, содействовать возрождению на Севере «государственного уклада», а также более решительно взяться за борьбу с остатками большевизма в губернии. Так, Городецкий в роли управляюшего Отделом юстиции занялся восстановлением независимого и профессионального суда, но также содействовал усилению репрессий против бывших сотрудников местных советов. В итоге одним из результатов вхождения Городецкого и Мефодиева в кабинет стало некоторое ужесточение внутреннего курса правительства. С другой стороны, с появлением новых министров Северное правительство занялось также решением особых местных проблем. Провинциальная элита, уже с начала века добивавшаяся от царского правительства экономических и политических уступок, теперь обрела ключевые рычаги власти, чтобы попытаться упрочить влияние местных сил на управление губернией и положить начало преодолению отсталости края. Особое значение имело то, что, получив под свой контроль Отделы торговли и промышленности, а с весны 1919 г. также и Отдел земледелия, когда председатель Архангельской городской думы М.М. Федоров вошел в кабинет в должности управляющего земледелием и народным образованием[342]342
Вестник ВПСО. 1919. 17 апр.
[Закрыть], представители региональной элиты смогли сосредоточить в своих руках управление экономикой края. Они использовали приобретенные позиции для продвижения программы экономических реформ.
Регионалисты в правительстве представляли не только местную либеральную общественность. Если Городецкий и Мефодиев были кадетами, то Федоров принадлежал к партии народных социалистов. В последующие месяцы в кабинете появились также меньшевик К.Г. Маймистов, а затем другие представители левых архангельских кругов. Кроме того, различные группы региональной элиты влияли на политику Северной области, участвуя в работе созданных при правительстве осенью 1918 г. консультативных комитетов и комиссий для обсуждения законов в сфере экономики и местного хозяйства. Это были, в частности, комитет снабжения, совещание по организации рыбных промыслов и финансово-экономический совет, представлявшие «организованные группы общественного мнения»[343]343
Вестник ВПСО. 1918. 11 окт.
[Закрыть]. Финансово-экономический совет, созданный при правительстве в начале октября 1918 г., являлся показательным примером возросшей роли региональных элит. Он состоял из 15 выборных членов, которые представляли различные организации – от земств, профсоюзов и кооперации до комитета частных банков, торгово-промышленного союза и Общества изучения Русского Севера. Заключения совета по многим вопросам (от мер по стабилизации финансовой системы до коллективных договоров с рабочими) ложились в основу решений Временного правительства[344]344
См.: Собрание узаконений и распоряжений ВУСО/ВПСО. 1918. № 1. Ст. 112, 128 и 141.
[Закрыть]. Помимо этого, региональные круги оказывали влияние на политику кабинета, посылая ходатайства от различных организаций, и через сотрудников правительственных отделов и администрации, рекрутированных из местной интеллигенции.
В итоге новый кабинет Чайковского наряду с организацией борьбы против большевиков с осени 1918 г. неожиданно занялся разработкой постановлений, принятия которых многие годы добивались провинциальные активисты. Наиболее ярким примером был вопрос о развитии рыболовства. По инициативе совещания по рыбным промыслам кабинет начал широкую просветительную кампанию с целью улучшить методы рыболовства, выделив средства на публикацию популярных брошюр и издание специального журнала по вопросам сельского хозяйства и рыбных промыслов. Даже официальный «Вестник Временного правительства Северной области» рядом с правительственными постановлениями и объявлениями периодически публиковал статьи о том, как рационально организовать рыбное хозяйство, как лучше ловить и солить рыбу[345]345
Собрание узаконений и распоряжений ВПСО. 1919. № 6. Ст. 300; Вестник ВПСО. 1919. 18 апр.; ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4. Л. 77–77 об., 90 (журнал совещания по организации рыбных промыслов № 1, 30 января 1919 г.).
[Закрыть]. Были предприняты и более практические шаги. В частности, на мурманском берегу в 1919 г. возобновилось снабжение рыболовецких становищ продуктами, солью и наживкой и была восстановлена работа промыслового телеграфа, передававшего сведения о метеорологической обстановке и ходе рыбы[346]346
См. постановления и переписку ВПСО о рыбных промыслах: ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 17. Л. 352; Д. 9. Л. 182; Д. 10. Л. 43; Д. 18. Л. 111–112.
[Закрыть].
Региональная общественность, всегда заявлявшая о необходимости разрабатывать ресурсы края русскими силами, добилась и того, что правительство обратило внимание на охрану северного хозяйства от иностранной конкуренции. В частности, кабинет попытался (хотя и безуспешно) добиться международного соглашения о расширении на Севере с 3 до 12 миль зоны территориальных вод, где запрещались иностранные промыслы. Он утвердил постановления по борьбе с незаконной ловлей рыбы иностранными судами вдоль северного побережья и обсуждал введение протекционистских барьеров в отношении рыбного импорта. По поручению правительства разрабатывались планы усиленной колонизации прибрежных островов, в частности архипелага Новая Земля, чтобы закрыть туда доступ заграничным предпринимателям и колонистам[347]347
Собрание узаконений и распоряжений ВПСО. 1919. № 6. Ст. 291. С. 8–9; Вестник ВПСО. 1919. 17 марта и 10 апр. См. также переписку ВПСО с российскими заграничными представительствами: ГАРФ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 45. Л. 7, 39, 69–78; Д. 70. Л. 124–125 об.
[Закрыть].
Северное хозяйство было лишь одним из предметов внимания региональной элиты. Местные активисты полагали, что преодолеть отсталость края возможно, лишь повысив общий культурный уровень населения. Поэтому по инициативе региональной общественности, прежде всего архангельских учителей, осенью 1918 г. была учреждена автономия средней школы, стала расширяться сеть образовательных учреждений, вводилось профессиональное и практическое обучение, внешкольное образование для взрослых[348]348
См. предложения о реформе образования со стороны Архангельского педагогического союза, Архангельского общества изучения Русского Севера и культурно-просветительного отдела союза кооперативов за август – сентябрь 1918 г.: ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 17. Л. 137; Ф. 5235. Оп. 1. Д. 4. Л. 15–20 об.; Голос Отечества. 1918. 31 авг., 5 сент.; Возрождение Севера. 1918. 19 сент. См. также материалы совещания по народному образованию при Отделе народного образования: ГАРФ. Ф. 5235. Оп. 1. Д. 4.
[Закрыть]. Тем временем губернское земство озаботилось сохранением самобытной культуры края и памятников северной старины, занявшись разработкой проекта краевого музея[349]349
См.: ГААО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 629. Л. 139–141 об., 146 (журнал заседания губернского земского собрания, 1 мая 1919 г., и доклад Архангельской губернской земской управы). Инициатором создания музея выступил земский гласный и член ВПСО М.М. Федоров.
[Закрыть].
Несмотря на усилившееся влияние региональной элиты на работу белого правительства, результаты реформ не были особенно впечатляющими. В условиях Гражданской войны большинство принятых постановлений остались простой декларацией о намерениях и не имели практических последствий. Например, улов рыбы в 1919 г. несколько улучшился по сравнению с предыдущим годом, но составлял только шестую часть довоенных уловов. А для борьбы с иностранным предпринимательством в прибрежной полосе моря северное правительство могло использовать лишь случайно проходившие мимо российские суда[350]350
Борьба… на Мурмане. Док. 242; ГАРФ. Ф. 5867. Оп. 1. Д. 3. Л. 24–26 (воспоминания Могучего). Переписку о поимке иностранных промысловых судов в прибрежных водах см.: ГАРФ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 45. Л. 16, 56, 59–60.
[Закрыть]. Тем временем реформы образования тормозились из-за нехватки средств, а открытые на Севере новые школы закрывались из-за отсутствия учителей.
Тем не менее региональную этиту заботили не мгновенные результаты, а возможность влиять на политику правительства, претендовавшего на более значимую роль в масштабах страны. Местные активисты стремились привлечь внимание будущих правителей государства к нуждам края, а также перехватить инициативу у центральной бюрократии, которая в предшествовавшие годы разрабатывала собственные технократические схемы освоения окраин, не принимая в расчет местные знания и интересы[351]351
О технократических планах царского правительства см.: Holquist P. «In Accord with State Interests and the People’s Wishes»: The Technocratic Ideology of Imperial Russia’s Resettlement Administration // Slavic Review. 2010. Vol. 69. № 1. P. 151–179.
[Закрыть]. Также они желали в целом закрепить роль общественности в управлении новой Россией, которая должна была прийти на смену «комиссародержавию».
В то же время, получив представительство в архангельском кабинете, региональная элита во многом утратила прежнюю оппозиционность. Уже раньше северное региональное движение было довольно умеренным в своих политических требованиях. С началом же мировой войны провинциальные активисты и вовсе перестали критиковать «колониальную» политику центра по отношению к Северу, всемерно поддержав власть перед лицом внешнего врага. В губернии при активном участии местной элиты действовали отделения Земгора, а провинциальные лидеры приложили все силы для поддержки военных усилий России. В частности, Мефодиев вернулся к своей профессии врача, отправившись на фронт с лазаретом Красного Креста[352]352
ГААО. Ф. 50. Оп. 5. Д. 329. Л. 327-327об. (протокол допроса Мефодиева, 28 октября 1920 г.). О присоединении Архангельской думы и общественных организаций к Земгору см.: ГААО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 1422. Л. 49 об. – 50 (журнал заседания Архангельской городской думы, 11 августа 1914 г.)
[Закрыть].
В годы Гражданской войны, получив представительство в белом кабинете и не желая с возвращением большевиков утратить влияние на политику в крае, местные активисты и вовсе из критиков власти превратились в одну из опор белого режима. Они поддерживали его всякий раз, когда внутренние волнения или неудачи на фронте грозили опрокинуть белую власть на Севере, и были готовы идти на многие уступки белому руководству для укрепления антибольшевистского фронта. Симпатизируя идее сильной власти, они также сочувствовали усилению положения генерал-губернатора Северной области, видя в этом возможность консолидировать фронт и тыл на время Гражданской войны[353]353
См., например: ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 10. Л. 177–177 об.; Д. 13. Л. 1–3 (журналы заседаний ВПСО, 30 апреля и 12 июля 1919 г.).
[Закрыть]. В итоге, хотя кабинет стал более представительным и более тесно связанным с региональными элитами, это не помешало укреплению власти генерал-губернатора, который постепенно выдвинулся на ведущую роль в местной политике.