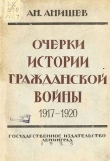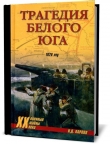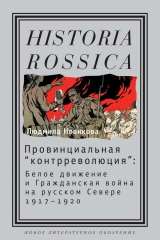
Текст книги "Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере"
Автор книги: Людмила Новикова
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Генерал-губернатор Северной области
Появление влиятельной фигуры генерал-губернатора Северной области стало одним из главных политических итогов правительственного кризиса осени 1918 г. Это не было результатом офицерского заговора против гражданских политиков. Напротив, правительство само нашло себе генерала, пытаясь таким образом справиться с офицерской фрондой, ограничить влияние союзного командования и содействовать эффективной мобилизации ограниченных экономических и людских ресурсов Архангельской губернии для борьбы против большевиков.
Пост русского генерал-губернатора, на который был выдвинут Дедусенко, появился на Севере в разгар конфликта Верховного управления с Чаплиным и союзным командующим Пулем в сентябре 1918 г. Социалистическое правительство изначально видело в генерал-губернаторе не военного диктатора, но властного администратора, наподобие генерал-губернаторов в Российской империи или главноначальствующего Архангельском и водным районом Белого моря в годы мировой войны. Подчиняясь власти российского правительства, северный генерал-губернатор должен был сгладить противоречия между гражданским управлением и русской и союзной военной властью[354]354
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 79–80 об., 84 об.; Д. 37. Л. 85 (журнал заседания ВУСО, 12 сентября 1918 г., и положение о генерал-губернаторе Северной области). Сравнение с полномочиями генерал-губернаторов в имперской России см.: Минц И.И. Английская интервенция и северная контрреволюция. С. 106–107. О главноначальствующем Архангельском см. в главе 1 наст. изд.
[Закрыть]. Однако генерал-губернаторство Дедусенко продолжалось недолго. Эсеровского политика игнорировало и союзное командование, и русские офицеры. Поэтому само Верховное управление вскоре заменило Дедусенко полковником Б.А. Дуровым, полагая, что он будет более приемлем для военных. Но в этом оно просчиталось.
Имя полковника Генерального штаба Бориса Андреевича Дурова, получившего производство в полковники лишь в годы мировой войны, не было широко известно в имперской или революционной России. Прибыв в Архангельск из Англии, он случайно оказался одним из старших офицеров на белом Севере. На роль генерал-губернатора его выдвинуло то обстоятельство, что, в отличие от большинства офицеров области, он симпатизировал Верховному управлению. Дуров сотрудничал с управляющим Военным отделом Масловым в качестве его первого помощника и открыто выступил против чаплинского переворота. Однако эти же обстоятельства оттолкнули от него многих белых офицеров. Среди них ходили слухи, что Дуров не только сочувствовал социалистам, но даже имел связи с большевиками, приехав на Север по визе от советского представителя в Лондоне М.М. Литвинова[355]355
Игнатьев В.И. Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны. С. 31–32. О Дурове см.: Незабытые могилы. Т. 2. С. 451–452. Заявление Дурова с осуждением переворота Чаплина см.: Северное утро. 1918. 12 сент.
[Закрыть].
Генерал-губернаторство Дурова оказалось окончательно скомпрометировано тем, что его помощником был назначен генерал С.Н. Самарин. Последний считался ближайшим соратником А.Ф. Керенского, которого он поддержал в августе 1917 г. в конфликте с генералом Корниловым. В связи с этим многие офицеры на Севере не подавали Самарину руки. В итоге полковник Дуров и Самарин не смогли сгладить конфликт между правительством и офицерами, которые поступали рядовыми в союзные славяно-британский и французский легионы, лишь бы не служить новой «керенщине»[356]356
Игнатьев В.И. Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны. С. 31–32; Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области. С. 23; Ironside E.W. Archangel, 1918–1919. London, 1953. P. 39–40 (перевод: Айронсайд Э. Архангельск. 1918–1919 гг. // Заброшенные в небытие. С. 213–387).
[Закрыть].
Дуров продержался на посту генерал-губернатора до начала ноября 1918 г., когда он и Самарин подали в отставку, не справившись с беспорядками в формируемом Архангелогородском полку[357]357
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 50. Л. 7–7 об. (заявление Дурова об отставке, 2 ноября 1918 г.). ВПСО приняло отставку Дурова и Самарина 4 ноября 1918 г., временным генерал-губернатором был назначен контр-адмирал Н.Э. Викорст, см.: ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 3. Л. 169 об.
[Закрыть]. Впрочем, Временное правительство Северной области уже по крайней мере с октября занималось поисками более авторитетного кандидата на руководящий военный пост. На замене Дурова и Самарина настаивал также новый командующий союзными войсками на Севере британский генерал Э. Айронсайд, сменивший в середине октября 1918 г. генерала Пуля[358]358
Ironside E.W. Archangel. Р. 41.
[Закрыть]. Поэтому уже в день отставки Дурова и Самарина Временное правительство направило за границу два приглашения. Одно из них адресовалось русскому послу в Риме для передачи представителю российской Ставки при итальянском главном командовании генералу Е.К. Миллеру, которого кабинет прочил на пост генерал-губернатора. Второе было направлено в Стокгольм генералу В.В. Марушевскому, которому предлагалась должность заместителя Миллера[359]359
ГАРФ. Ф. 5867. Оп. 1. Д. 5. Л. 165 (очерк Городецкого); Марушевский В.В. Год на Севере // Белое дело. Летопись белой борьбы. Берлин, 1926. Т. 1. С. 22; Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области. С. 24; Голдин В.И. Испытания длиною в жизнь: судьба генерала Евгения Миллера // Белая армия. Белое дело. Исторический научно-популярный альманах. Екатеринбург, 1996. № 1. С. 50–51. Вероятно, в выборе Миллера и Марушевского в качестве военных руководителей Северной области могли сыграть значимую роль союзные представители в Архангельске. В любом случае приглашения прибыть в Северную область одновременно были направлены генералам и от главы союзного дипломатического корпуса на Севере посла Франции Ж. Нуланса. По другой версии, Миллера Чайковскому рекомендовал побывавший в Архангельске осенью 1918 г. бывший министр Временного правительства 1917 г. М.И. Терещенко. См.: Мельгунов С.П. Н.В. Чайковский в годы гражданской войны. С. 94.
[Закрыть]. На приглашения оба генерала ответили согласием. Приезд Миллера был намечен на начало января. А тем временем в середине ноября в Архангельск прибыл Владимир Владимирович Марушевский, хорошо известный в союзных военных кругах как командир 3-й особой русской бригады во Франции. До приезда старшего по чину Миллера он был назначен временным генерал-губернатором и командующим войсками и вошел в состав кабинета[360]360
О Марушевском см.: Незабытые могилы. Т. 4. С. 418; Голдин В.И. Контрреволюция на Севере России и ее крушение. С. 72–78.
[Закрыть].
Марушевский деятельно взялся за реорганизацию штаба, установил в войсках строгую дисциплину и вернул погоны, чем привлек к себе симпатии белых офицеров, прежде уклонявшихся от службы в русских войсках на Севере и предпочитавших поступать в союзные легионы. Несмотря на то что Марушевский считал себя монархистом, его служба последним начальником Генерального штаба при Временном правительстве в 1917 г. снискала ему доверие в либеральных и даже социалистических кругах. И его приездом первоначально оказались довольны и правительство, и левые политики, и союзные послы[361]361
Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области. С. 24; Марушевский В.В. Год на Севере // Белое дело. Т. 1. С. 40; Игнатьев В.И. Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны. С. 35. В Северной области существовали добровольческие славяно-британский и французский легионы, которые к апрелю 1919 г. насчитывали соответственно три и одну тысячи бойцов.
[Закрыть]. Американский консул в Архангельске телеграфировал в Вашингтон о приглашенных генералах: «Миллер имеет репутацию способного военачальника с либеральными идеями… Марушевский, видимо, пользуется всеобщим уважением. Имеет репутацию либерала и хорошего организатора»[362]362
Chargé in Russia Poole to the Secretary of State, 18 November 1918 // FRUS. 1918. Russia. Vol. 2. P. 568.
[Закрыть]. Если приезд Марушевского обеспечил генерал-губернатору поддержку офицеров и положил начало быстрому формированию северной армии, то появление Миллера во многом определило дальнейшую политическую эволюцию белой власти на Севере. Высадившийся 13 января 1919 г. на архангельской пристани Миллер вскоре стал ключевой фигурой в управлении белым Севером, поэтому его взгляды и предшествующая карьера заслуживают более пристального внимания.
Генерал Е.К. Миллер
Генерал-лейтенанту Генерального штаба Евгению Карловичу Миллеру к началу Гражданской войны едва перевалило за пятьдесят лет. Современники описывали его как человека чуть выше среднего роста с пышными светлыми усами и твердым взглядом голубых глаз[363]363
Strakhovsky L. Intervention at Archangel. P. 132; Ironside E.W. Archangel. Р. 107.
[Закрыть]. Он сделал блестящую военную карьеру, был хорошо образован и свободно владел французским и немецким языками. Выпускник Николаевского кавалерийского училища и Академии Генштаба, Миллер быстро поднялся по служебной лестнице и уже в 34 года был произведен в полковники. Значительную часть своей службы он провел за границей, являясь с 1898 г. на протяжении почти десяти лет последовательно русским военным агентом в Бельгии, Голландии и Италии. Вернувшись затем в Россию, он командовал гусарским полком, кавалерийской дивизией, был обер-квартирмейстером управления Генерального штаба и возглавлял Николаевское кавалерийское училище. Начавшаяся мировая война застала его на посту начальника штаба Московского военного округа. В годы войны Миллер, получив производство в генерал-лейтенанты, служил начальником штаба 5-й и 12-й армий, а накануне революции 1917 г. командовал 26-м армейским корпусом на Румынском фронте, ожидая скорого перевода на должность начальника штаба фронта[364]364
Hoover Institution Archives (далее – HIA). E. Miller Collection. Box 1. Folder 1. Р. 50 (показания ген. – лейтенанта Е.К. Миллера следственной комиссии, назначенной главнокомандующим Петроградским военным округом, 20–28 апреля 1917 г.). См. также: Пятницкий Н.В. Генерал Е.К. Миллер. К 25-летию со дня его трагической гибели // Возрождение. 1962. № 131. С. 96–97; Strakhovsky L. Intervention at Archangel. P. 132; Голдин В.И. Испытания длиною в жизнь. С. 49–50.
[Закрыть].
Революция в армии не только положила конец многообещающей карьере генерала, но едва не стоила Миллеру жизни. Он не был принципиальным противником революционных преобразований, но и в период революции считал необходимым поддерживать строгую дисциплину и субординацию в войсках. Исполняя приказ командования фронтом, 7 апреля 1917 г. он попытался убедить присланные из тыла пополнения снять с одежды красные банты и вынести из строя красный флаг. В ответ последовал бунт прибывших маршевых рот. Миллера, без шашки и погон, в изорванном пальто и с кровоточащей от ударов головой, солдаты с пинками и бранью гоняли по улицам заштатного румынского городка. Один раз, поскользнувшись и упав в весеннюю грязь, генерал ожидал неминуемой гибели, чувствуя над собой грязные солдатские сапоги. Поднятый чьими-то руками и оказавшись в итоге запертым на гауптвахте этапного коменданта, он четверо суток сидел под арестом, осыпаемый руганью и угрозами со стороны солдат. Позже Миллер был конвоирован в Петроград, после произведенного расследования, не обнаружившего состава преступления, отчислен в запас, а в августе 1917 г. выехал за границу как представитель русской Ставки при итальянском главном командовании[365]365
HIA. E. Miller Collection. Box 1. Folder 1. Р. 25–41 (показания Миллера); Рапорт командующего 9-й армией П.А. Лечицкого военному министру А.И. Гучкову, 8 апреля 1917 г. // Революционное движение в русской армии в 1917 г. (27 февраля – 24 октября): Сборник документов / Ред. Л.С. Гапоненко, Е.П. Воронин. М., 1968. Док. 36. См. также: Wildman A. The End of the Russian Imperial Army: The Old Army and the Soldiers’ Revolt (March – April 1917). Princeton, 1980. P. 287–289.
[Закрыть]. Осенью 1918 г. он по-прежнему находился в Европе, где его и застало приглашение Чайковского прибыть в Северную область.
Арест Миллера революционными солдатами дал дополнительную почву рассказам о том, что генерал был противником революции, реакционером и «приятелем Николки». Даже член правительства Северной области народный социалист В.И. Игнатьев видел в нем «реакционера чистой марки» и отмечал, что это «типичный, лояльнейший, способный, придворный генерал»[366]366
Игнатьев В.И. Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны. С. 35, 37–38.
[Закрыть]. Действительно, Миллер был некогда близок к царской семье, и прежде всего к Николаю II, с которым они были почти ровесники. Император лично знал Миллера еще с корнетского чина по совместной службе в лейб-гвардии гусарском полку[367]367
HIA. E. Miller Collection. Box 1. Folder 1. Р. 62 (показания Миллера).
[Закрыть]. Злые языки даже связывали успешное продвижение Миллера по службе с высочайшей протекцией. Однако он был слишком известен своими качествами военачальника и хорошего администратора, чтобы это целиком соответствовало действительности. Хотя генерал никогда не кичился связями со двором и, по его категорическому заверению, ни разу не использовал их в личных целях, он всегда сохранял личную преданность императору. А после того как Николай II был расстрелян большевиками летом 1918 г., генерал глубоко чтил его память[368]368
Ironside E.W. Archangel. P. 108; HIA. E. Miller Collection. Box 1. Folder 1. Р. 62 (показания Миллера).
[Закрыть]. В годы революции Миллер считал своим долгом защищать репутацию двора в глазах европейской общественности, всячески опровергая слухи о существовании немецкого «заговора» в высших российских кругах[369]369
См., например: HIA. E. Miller Collection. Box 1. Folder 3. P. 1–2 (mémoire écrit par le général de Miller en février 1918. Il fut confié aux bons soins du Secrétaire d’Ambassase Baron Téodore de Beickheim pour être communiqué au Ministre des Affaires Etrangères (France)).
[Закрыть].
Хотя Миллер был связан со двором и лично лоялен императору, в центре его убеждений стоял вовсе не монархизм, а имперский патриотизм. Поэтому в годы революции, как и большинство высших российских военачальников, он стремился прежде всего защитить страну от внешнего врага и сохранить армию от развала. Он не был замешан в заговорах или выступлениях против Временного правительства и позже утверждал, что если бы «хотел заниматься контрреволюционной пропагандой», то у него «хватило бы мужества не принимать присяги»[370]370
HIA. E. Miller Collection. Box 1. Folder 1. Р. 25, 48 (показания Миллера).
[Закрыть]. Если это верно применительно к первым месяцам 1917 г., то с созданием коалиционного кабинета во главе с А.Ф. Керенским его отношение к правительству стало более критическим. Позже генерал будет возлагать на радикализм политики Керенского и умеренных социалистов существенную долю вины за развал армии и страны[371]371
HIA. E. Miller Collection. Box 1. Folder 3. P. 12 (mémoire).
[Закрыть]. Видимо, если бы не отъезд в Европу, Миллер мог оказаться на стороне Корнилова в его выступлении против правительства в конце августа 1917 г.
Несмотря на настороженное отношение к умеренным социалистам, после Октября 1917 г. главными врагами страны, в глазах Миллера, стали большевики. Генерал использовал все свои связи и влияние в европейских военных и политических кругах, чтобы убедить руководство Антанты, что большевики узурпировали власть при посредничестве Германии, что правили они, опираясь на преступников и деморализованную солдатскую толпу, что их власть была не только гибельна для России, но и угрожала Европе, и поэтому необходимо было оказать всяческую поддержку белым силам, выступившим против большевиков[372]372
Ibid. Р. 16–18, 20, 23–24 (mémoire).
[Закрыть].
Горячий антибольшевизм Миллера сближал его с политиками из Союза возрождения России и северными региональными кругами. Однако в целом его политические взгляды были довольно противоречивы. Как почти все военные лидеры Белого движения, Миллер сочувствовал идее конституционной монархии. Но, не являясь догматиком, он полагал, что белые армии не должны выступать под монархическим флагом, и отмечал, что будущее страны должен определить сам русский народ[373]373
Ibid. P. 22 (mémoire); Ironside E.W. Archangel. P. 108.
[Закрыть]. В то же время он глубоко не доверял способности народа самостоятельно решить свою судьбу. С одной стороны, он верил в глубинный крестьянский патриотизм и именно с «пробуждением» крестьянства связывал надежды на победу над большевиками[374]374
Maynard C. The Murmansk Venture. P. 161.
[Закрыть]. С другой же стороны, опыт революции и то, что он сам едва избежал гибели от рук собственных солдат, обусловили его снисходительное и даже презрительное отношение к представителям этого народа. В отношении взбунтовавшихся солдат он впоследствии писал: «…у меня нет к ним ни чувства злобы, ни чувства мести; жалкий серый люд, который можно подбить на что угодно»[375]375
HIA. E. Miller Collection. Box 1. Folder 1. Р. 45 (показания Миллера).
[Закрыть]. Представление о том, что солдаты и крестьяне серы и неразумны и что их легко увлечь несбыточными идеями, оттолкнуло его от попыток бороться против большевиков политическими мерами. Рецепт Миллера был прост – при содействии армии распространить как можно быстрее белую власть на обширную территорию, чтобы силой пресечь влияние большевизма на население[376]376
Maynard C. The Murmansk Venture. P. 161.
[Закрыть].
Настолько же непоследовательным было и отношение Миллера к возможным союзникам в борьбе против большевиков. С одной стороны, он стремился обеспечить белым армиям как можно более широкое содействие извне и обращался к странам Антанты с призывом о помощи. С другой стороны, обостренное чувство национальной гордости заставляло Миллера с подозрением относиться к присутствию союзных войск на русской территории. А его имперский патриотизм не позволял ему заручиться поддержкой со стороны бывших национальных окраин в обмен на признание независимости и территориальные уступки[377]377
Ironside E.W. Archangel. P. 108; HIA. E. Miller Collection. Box 1. Folder 3. P. 19 (mémoire).
[Закрыть].
Хотя Миллер не являлся гибким политиком, его опыт боевого командования, хорошие связи в союзных военных и дипломатических кругах и административные способности, которые признавали даже его недоброжелатели[378]378
Об административных талантах Миллера см.: Игнатьев В.И. Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны. С. 35; Report on the Work of the British Mission to North Russia from June 1918 to 31 March 1919 (By F.O. Lindley) // British Documents on Foreign Affairs. Part II. Series A. Vol. 1. Doc. 24. Р. 146.
[Закрыть], выдвинули генерала на первый план в архангельской политике. Возвышению генерала в немалой мере способствовала и сама политическая среда внутри Северной области, где не имелось влиятельных политиков всероссийского масштаба и даже, за исключением Чайковского, вообще широко известных политических деятелей. Миллеру помогло и то, что не только архангельские военные, но и местные либералы и даже многие умеренные социалисты сочувствовали идее сильной власти, в особенности в период Гражданской войны. В результате уже с весны 1919 г. Миллер стал самой заметной политической фигурой в Северной области, а с лета получил почти неограниченную власть, сосредоточив в своих руках командование фронтом и управление тылом. Миллер играл ключевую роль в преодолении политических кризисов, действуя при помощи уговоров, а нередко также угроз и репрессий. Через него происходили контакты белых властей с союзным командованием и дипломатами. Именно Миллер гораздо более, чем Чайковский, являлся для современников и историков олицетворением антибольшевистского режима на Севере. То, как и почему военно-административная должность генерал-губернатора превратилась с приездом Миллера в важнейший механизм управления областью, составляет предмет последующего изложения.
Миллер и Северное правительство
15 января 1919 г., спустя два дня после своего появления в Архангельске, Миллер официально сменил Марушевского на посту генерал-губернатора Северной области и вошел в правительство, возглавив в нем отделы – военный, почт, телеграфов, путей сообщения и иностранных дел[379]379
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 9. Л. 52 об. – 53 (журналы заседаний и постановления ВПСО, 15 и 17 января 1919 г.); Вестник ВПСО. 1919. 17, 22 и 25 янв.
[Закрыть]. Хотя он сосредоточил в своих руках множество полномочий, в первое время генерал предпочитал держаться в тени и никоим образом не противопоставлял себя правительству. Даже на заседаниях кабинета он редко брал на себя инициативу, поддерживая, как правило, мнение большинства. Однако несмотря на то, что Миллер не прилагал видимых усилий к тому, чтобы укрепить свою власть, вскоре руководящая политическая роль перетекла к нему сама собой. Это стало результатом стечения нескольких обстоятельств. Самым важным из них стал отъезд из Архангельска Чайковского, главы Временного правительства.
Чайковский начал планировать свою поездку в Европу еще до появления Миллера в Северной области. Покинуть Архангельск его побуждали несколько причин, хотя трудно сказать, что именно сыграло решающую роль. Уже с конца 1918 г. он получал телеграммы от русских политиков и дипломатических представителей за границей, настойчиво приглашавших его в Париж для участия в работе так называемого Русского политического совещания. Совещание должно было представлять антибольшевистскую Россию на Мирной конференции, созванной после окончания Первой мировой войны, а возможно, также стать праобразом единого российского правительства. По словам В.А. Маклакова, бывшего посла Всероссийского временного правительства 1917 г. во Франции, чтобы иметь влияние в России и за границей, совещание должно было включить в себя «уважаемых представителей всех политических партий, которые могли бы объединиться на патриотической почве»[380]380
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 60. Л. 62 (телеграмма Маклакова Чайковскому, 10 декабря 1918 г.).
[Закрыть]. Революционная репутация Чайковского, его роль в организации антибольшевистского движения и связи в заграничных общественных кругах должны были укрепить демократический облик и авторитет совещания[381]381
Вестник ВПСО. 1919. 11 янв. См. также речь Чайковского в городской думе: Вестник ВПСО. 1919. 24 янв.; Мельгунов С.П. Н.В. Чайковский в годы гражданской войны. Гл. 5.
[Закрыть].
Чайковский не мог не сочувствовать намерениям созвать совещание, тем более что еще до своего появления на Севере он рассчитывал поучаствовать в создании центральной антибольшевистской власти. Оказавшись в Архангельске почти случайно, он уже в сентябре 1918 г. размышлял о поездке в Самару. Затем планировал поехать в Сибирь, узнав в начале октября 1918 г. о создании на Уфимском государственном совещании Всероссийской директории, в состав которой он был избран заочно и которую Северное правительство вскоре признало в качестве верховной власти[382]382
О признании верховной власти директории см.: Вестник ВПСО. 1918. 1 нояб.
[Закрыть]. Однако информация о событиях в Поволжье и Сибири доходила на Север искаженной и с большим опозданием, нередко неделями блуждая по телеграфным линиям России, Америки и Европы. Неясность обстановки заставляла Чайковского откладывать свой отъезд до точного выяснения политического положения на востоке страны. В конце концов планы его поездки в Сибирь пришлось окончательно отменить из-за полученных в декабре сведений о перевороте адмирала А.В. Колчака, который 18 ноября отстранил Директорию от власти. Теперь с образованием в Париже представительного Русского политического совещания, казалось, центр российской политической жизни перемещался в Париж, где должна была решиться не только судьба послевоенного мира, но и, возможно, политическое будущее России. Чайковский, всегда считавший, что он может и должен сыграть более существенную роль в восстановлении страны и демократической власти, мог полагать необходимым для себя покинуть обреченный на второстепенную роль Архангельск ради «высокой» политики[383]383
ВПСО официально уполномочило Чайковского участвовать «в создании Всероссийского политического центра, а при благоприятной обстановке и Всероссийского Правительства». См.: ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 17. Л. 4–4 об. (журнал заседания ВПСО, 22 января 1919 г.). См. также: Игнатьев В.И. Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны. С. 37.
[Закрыть].
Помимо этого, к отъезду из Северной области его могли подтолкнуть и более глубокие личные мотивы. Несмотря на то что Чайковский сознательно встал во главе правительства в разгар Гражданской войны и согласился на введение на Севере военно-полевых судов и восстановление смертной казни, он, видимо, так до конца и не смог преодолеть противоречие между признанием необходимости насилия и почитанием человеческой личности. Характерно, что начальник штаба белых северных войск полковник В.А. Жилинский считал ключевым для решения Чайковского покинуть область следующий эпизод. 11 декабря 1918 г. Чайковский с глубоким волнением следил за подавлением мятежа недавно мобилизованных солдат 1-го Архангелогородского полка, каждые 10–15 минут справляясь о ходе событий в штабе командующего войсками. Когда же он узнал, что восставшие сдались, но Марушевский решил «довести дело до конца», а именно предать зачинщиков выступления военно-полевому суду и впоследствии расстрелу, он был подавлен. После долгого раздумья он как бы вынужденно согласился: «Да, надо довести дело до конца». Жилинский полагал, что Чайковский убедился «в этот день, что работа ему не по плечу»[384]384
ГАРФ. Ф. 5867. Оп. 1. Д. 4. Л. 22–22 об. (письмо Жилинского Городецкому, 11 февраля 1925 г.) См. также: Там же. Ф. 5867. Оп. 1. Д. 1. Л. 71а (выдержки из письма Жилинского в письме Бидо, сентябрь 1926 г.). Некоторые советские историки связывали отъезд Чайковского с тем, что он утратил на Севере свой политический авторитет. См., например: Владимирова В. Год службы «социалистов» капиталистам: Очерки по истории контрреволюции в 1918 году. М.; Л., 1927. С. 384; Корнатовский Н.А. Северная контрреволюция. С. 67; Минц И.И. Английская интервенция и северная контрреволюция. С. 214. Однако, как свидетельствуют источники, вероятно, для Чайковского важнее были личные мотивы и желание поучаствовать в создании всероссийской власти.
[Закрыть]. Необходимость нести в качестве главы правительства непосредственную ответственность за репрессии против обыкновенных людей оказалась, видимо, слишком тяжела для старого революционера, всю жизнь боровшегося против насилия со стороны власти.
Что бы ни сыграло главную роль в решении Чайковского покинуть область, но в начале 1919 г. жребий был брошен. Его отъезд в Париж был намечен на 23 января. Тем временем Чайковский принял меры с целью не допустить ослабления Северного правительства в период временного, как тогда предполагалось, отсутствия его главы. Чтобы не произошло чрезмерного усиления военной власти, полномочия Миллера как генерал-губернатора были ограничены решениями кабинета. Более того, его компетенция оказалась даже сужена по сравнению с предшественниками Миллера на этом посту. Так, командование русскими войсками области пока сохранил за собой Марушевский, а Отдел внутренних дел был еще в декабре 1918 г. передан энесу, члену Союза возрождения В.И. Игнатьеву[385]385
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 9. Л. 52 об. – 53 (журналы заседаний и постановления ВПСО, 15 и 17 января 1919 г.); Ф. 3811. Оп. 1. Д. 2. Л. 64 (приказ Игнатьева о вступлении в должность, 13 декабря 1918 г.); Собрание узаконений и распоряжений ВПСО. 1919. № 6. Ст. 287; Вестник ВПСО. 1919. 22 и 25 янв.; Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области. С. 24–25. Игнатьев пробрался в Архангельск в сентябре 1918 г. после неудачной попытки поднять антибольшевистское восстание в Вологде. Хотя Марушевский и Игнатьев (последний – по занимаемой им также должности правительственного комиссара губернии) в 1919 г. были подчинены Миллеру, непосредственное управление армией и сферой внутренних дел происходило уже не из канцелярии генерал-губернатора.
[Закрыть].
Чтобы сохранить равновесие политических сил в правительстве, в январе 1919 г. в дополнение к Игнатьеву в кабинет в качестве управляющего делами вошел еще один социалист, местный уроженец меньшевик К.Г. Маймистов. Кроме того, Чайковский сохранил за собой номинальное председательство в правительстве, назначив себе временным заместителем левого кадета П.Ю. Зубова. Политика кабинета также должна была остаться неизменной, в связи с чем не было сделано никаких правительственных заявлений по случаю произошедших перестановок[386]386
ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 9. Л. 53–53 об. (журнал заседания ВПСО, 17 января 1919 г.); Собрание узаконений и распоряжений ВПСО. 1919. № 6. Ст. 285. Перед отъездом Чайковский сделал только личное заявление, что правительство по-прежнему останется надпартийным и надклассовым. См.: Вестник ВПСО. 1919. 24 янв.
[Закрыть]. Однако несмотря на то что высшая власть на Севере оставалась подчеркнуто коллегиальной и гражданской, отъезд Чайковского не мог не повлиять на расстановку сил в руководстве краем.
Середина января 1919 г. стала ключевой вехой в политической истории Северной области. При всех усилиях ни один из представителей Союза возрождения или провинциальных общественных деятелей не мог заменить во главе правительства Чайковского, являвшегося в Архангельске единственной знаковой политической фигурой всероссийского масштаба. Поразительным образом белые кабинеты, стремившиеся сплотить в борьбе против большевиков всю российскую общественность, остро страдали от отсутствия авторитетных политиков. Большинство имперских министров были опорочены своими связями с непопулярным царским режимом и после падения самодержавия ушли в политическую отставку. Тем временем многие лидеры общественности «эпохи Февраля» были дискредитированы неудачной политикой Временного правительства. В годы Гражданской войны вакантную политическую нишу заполнили революционные руководители второго ранга и провинциальные политики, еще не успевшие в полной мере испытать свои политические силы или дискредитировать себя в глазах населения и общественных элит.
Несмотря на отсутствие в белых рядах многих опытных и известных полических деятелей, Павел Юльевич Зубов, возможно, менее других подходил на роль главы Северного кабинета. Вологодский помещик, он в юности обучался на агронома, но бросил, не закончив курса учебы. Долгие годы главным увлечением Зубова был театр. Он писал либретто опер и водевили и даже сам играл на сцене провинциальных театров, впрочем, не достигнув на этом поприще заметных успехов. Его общественная деятельность началась на рубеже веков, когда тридцатилетний Зубов занял должность земского участкового начальника в Вологодской губернии. Затем последовало членство в губернской земской управе, должность предводителя уездного дворянства, а в годы мировой войны – работа в Вологодском комитете по снабжению армии. Февральская революция 1917 г. сделала Зубова кадетом, а Октябрьская – искренним противником большевиков. Являясь в тот период гласным Вологодской городской думы и заместителем городского головы, Зубов принял участие в организации местного отделения Союза возрождения[387]387
Биографические данные о Зубове см.: Рожденные Вологодчиной. С. 225; Вологодская энциклопедия. С. 217.
[Закрыть]. Именно это обстоятельство обеспечило ему место в составе Верховного управления и Временного правительства Северной области.
На назначение Зубова заместителем Чайковского, помимо его связи с Союзом возрождения, видимо, повлияло и то, что он оказался одним из немногих северных политиков, приемлемых для различных партийных сил. О нем уважительно отзывались такие разные люди, как капитан Чаплин и генерал Марушевский, но также и прибывший на Север в 1919 г. эсер Б.Ф. Соколов, ставший одним из лидеров архангельской левой общественности. Искренний и мягкий Зубов, по определению Соколова «настоящий чеховский интеллигент», стремился сохранить единство разных течений в правительстве и обществе[388]388
Соколов Б. Падение Северной Области // Архив русской революции / Ред. И.В. Гессен. Берлин, 1923. Т. 9. С. 35.
[Закрыть]. Но даже сами члены правительства отмечали, что для руководящей роли в кабинете ему явно не хватало авторитета. Стремясь выйти из этого неудобного положения, Зубов неоднократно повторял, что он нисколько не держится за власть и готов уступить свое место другим, если те смогут лучше справиться с делом[389]389
ГАРФ. Ф. 5805. Оп. 1. Д. 242. Л. 5 об. – 6 (письмо И.А. Куракина Чайковскому, 1 апреля 1919 г.); Чаплин Г.Е. Два переворота на Севере. С. 26; Марушевский В.В. Год на Севере // Белое дело. Т. 1. С. 41. Т. 2. С. 26–27; Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области. С. 29–30, 85.
[Закрыть]. На фоне мягкого и неуверенного в себе Зубова Миллер не мог не выделяться решимостью и знанием дела. В условиях, когда революционеры, оппозиционеры и провинциальные чиновники заняли непривычные для них министерские посты, казалось, только генералы находились на своем месте и знали, что именно надо делать. Таким образом, в руки Миллера сама собой стала постепенно перетекать реальная власть.
В первое время Миллер показал себя талантливым администратором, который старался держаться в стороне от политических интриг. Хотя появился он «на архангельских улицах в генеральском пальто старого образца, в обожаемых уже погонах, – короче – с привычным… всем обликом настоящего генерала и начальника»[390]390
Марушевский В.В. Год на Севере // Белое дело. Т. 2. С. 27–28.
[Закрыть], Миллер не поощрял агитации в пользу установления военной власти, которую начали вести в связи с его приездом правые и офицерские круги. Более того, Миллер смог наладить дружественные отношения с либералами и некоторыми лидерами местных социалистических кругов. Вполне довольным сотрудничеством с ним первоначально оказался управляющий Отделом внутренних дел и губернский правительственный комиссар энес Игнатьев[391]391
См. письмо Игнатьева Чайковскому, 21 марта 1919 г., в: Мельгунов С.П. Н.В. Чайковский в годы гражданской войны. С. 207–208. В позднейших мемуарах Игнатьев резко поменял свою оценку, см.: Игнатьев В.И. Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны. С. 37–38. См. также: ГАРФ. Ф. 5805. Оп. 1. Д. 218. Л. 2 об. – 3 (письмо Зубова Чайковскому, 1 апреля 1919 г.).
[Закрыть]. Меньшевик Маймистов писал, что генерал-губернатор – «человек без предвзятостей и с европейскими навыками»[392]392
Там же. Д. 258. Л. 12 об. (письмо Маймистова Чайковскому, апрель 1919 г.).
[Закрыть]. Лидер архангельских эсеров А.А. Иванов часто и подолгу беседовал с генералом, консультируя его по вопросам внутренней политики, и, по всей вероятности, искренне считал его «демократом и честным человеком»[393]393
Об этом см.: Соколов Б. Падение Северной Области. С. 44–45.
[Закрыть]. По свидетельству современников, из уст левых политиков звучали высказывания, что «судьба благоволила к Северной области, поставив ей такого “конституционного” по своей натуре генерала»[394]394
Об этом см.: Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области. С. 71.
[Закрыть]. Хотя со временем усиление власти Миллера стало вызывать все большую критику в левых земских и профсоюзных кругах, они так до конца и не отошли от поддержки белого режима.
Таким образом, генеральская «диктатура» на Севере отнюдь не была обязана своим происхождением исключительно симпатиям белых офицеров и давлению справа. Напротив, как будет показано ниже, Миллер смог укрепить влияние во многом благодаря тому, что в решающие моменты, несмотря на все политические разногласия, его также поддерживали многие умеренные социалисты из городской думы, земства и общественных организаций. Поэтому если можно назвать новую властную конструкцию диктатурой, то это была диктатура по соглашению, так как именно поддержка со стороны широких общественных кругов обусловила относительную устойчивость белой власти на Севере на протяжении большей части 1919 г.