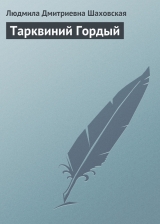
Текст книги "Тарквиний Гордый"
Автор книги: Людмила Шаховская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
– И я уеду.
– Завтра, Турн, или даже сегодня со мною.
– После совета арицийских старшин.
– Но если тогда будет поздно?! Непреклонный! Подумай, размысли: Тарквиний презрительно отверг приказ царя о помиловании Авфидия... Что это значит? Он поругал жреца высшего сана. Он многих погубил и тайно и явно в один месяц своего правления.
– Я слышал, будто другой внук Руфа, Вулкаций, убит Диркеей в Этрурии по приказу деда-фламина, чтобы именно чего-то не разгласил.
– Да, его карьера кончена плохо; его нашли истекающим кровью в поле после стычки с отрядом этрусских партизан, которые замедляют возвращение царя с войны, и о них носится глухой слух, будто их поддерживает Тарквиний, чтобы не допустить тестя в Рим, пока он там не подготовит его низвержение, чтобы самому занять его место без выбора Сената и комиций. Мне ничего не удалось разведать об этом, хоть я немало участвовал в попойках Бибакулов и Вулкациев, представлялся совершенно пьяным, дурачился на все лады, даже засыпал и падал без чувств, притворяясь чуть не мертвым, ни они, ни Тарквиний ни о чем не проговорились.
ГЛАВА IX
Депутация сельских старшин
До полного разгара дошла буря. Вихрь бушевал по болоту со стонами и воем так сильно, что Турн и Брут вынуждены были прислоняться к горам и деревьям, чтобы не свалиться с ног и перестали говорить.
Когда они дошли до усадьбы, весь ее двор был полон народа из деревень. Впереди у крыльца стояли отдельною группой 5-6 человек, одетых получше других; это были старшины.
Турн знал, зачем пришли к нему эти люди. Между ними и им уже два года было весьма натянутое положение дел.
Через Диркею, ее мать, Тита-лодочника и др. своих агентов Руф внушал поселянам предъявить Турну различные требования, какие могли оказаться невыполненными.
При первом взгляде на народ Турн понял, что эти полудикари настроены злобно против него; это были не прежние, мирные, добрые рустиканы, благоговеющие перед своим знатным покровителем, вельможей старинного рода, говорящие с поклонами на каждой фразе, кричащие ему вслед хвалу и виваты.
Теперь поселяне дулись, глядели как-то исподлобья да искоса, поклонились медленно, неохотно, не низко, и заговорили прежде неслыханным, смелым, почти наглым тоном. Из толпы выступил не почтенный Камилл или еще более уважаемый Анней, а молодой рыбак Целестин, подбоченясь, закинув голову кверху.
– Мы пришли, господин, к тебе с просьбою, – сказал он с таким оттенком в голосе, как говорят послы победителей: – «мы пришли за данью, какую побежденный обязан давать».
– Подходят Консуалии, – прибавил Лукан, тоже молодой парень.
– Я знаю, зачем вы пришли, – перебил Турн, насупив брови почти гневно, и махнул рукою, указывая на стоявшего тут же Грецина, который жался к стене, дрожа от безграничного страха, бледный, – если речь будет о нем, то знайте, что этого человека я никакой богине в жертву не отдам; он мне нужен. В последнее время вы, честный народ, уж очень что-то часто повадились ходить ко мне за жертвами, обратились бы к Руфу за этим.
– Руф только трех рабов держит на вилле, у него вольнонаемный труд, кого он нам даст?! – возразил Камилл угрюмо, из-за молодых.
– Руф святой человек, жрец; его грешно беспокоить, господин, – еще угрюмее прибавил Анней, – он и без того за нас молится каждый день в Риме... А мы как же без жертвы справим Консуалии, если твоя милость откажет нам?
– Я согласен давать вам по человеку в год, сельчане, как заведено исстари, но заводить новые поборы у меня не позволю, только два месяца прошло с тех пор, как я вам отдал свинопаса.
Это слово было точно искра, попавшая в солому, ярость диких мужиков вспыхнула, выразилась громкими криками, перебив речь помещика на полуслове.
– Твой свинопас оказался вором, он сознался перед смертью, что скрывал краденое его сыном, в искупление твоей вины перед богами давай нам самого лучшего человека!..
– Давай нам самого Грецина!.. Никого другого не хотим!.. Без того не уйдем!..
– Грецин сын моего умершего учителя, воспитателя, – возразил Турн упрямо, – Грецин был товарищем моих детских игр, он получил вместе со мною образование, я вижу в нем мою правую руку; я его не отдам. Скоро пришлют добычи с этрусков, вы можете выбрать тогда пленника.
Народ прошумел целый час на дворе усадьбы, но Турн не уступил никаким мольбам и угрозам этих людей.
– Я понял, что ты нажил себе какого-то врага, который подучил их сгубить тебя, – сказал он управляющему, – жени скорее старшего сына; сдай ему должность; я тебя переведу в мой римский дом экономом.
Грецин, преклонив колена, целовал платье своего господина с благодарностью за защиту, но в тоже время и морщился от мысли, что вблизи этого строго человека ему не столь вольготно будет жить, как в деревне, и главное, нельзя каждый день напиваться, что ему вошло в привычку.
Из происшедшей сцены Турн яснее, чем когда-либо понял, что беда уже висит над его головою, а за ужином Брут еще прибавил ему опасений, только он, человек «прямолинейного» характера, из тех, что охотнее ломаются, чем гнутся, ни йотой не поступился ни в чем перед другом, не принял ни одного его совета, как не исполнил просьбы мужиков, не пошел ни на какой компромисс ни там, ни тут.
Напрасно Брут подробно рассказывал ему все, что успел слышать о казни жреца Туллия, и о болезни его тестя, как очевидец, напрасно напомнил о своих прежних случаях невольных подслушиваний подозрительных разговоров Тарквиния с Бибакулом и другими родичами Руфа, напрасно повторял свои заявления, что он теперь приехал специально за тем, чтобы сообщить нечто порученное Виргинием.
– Берегись, Турн! – сказал этот великодушный царский родственник мрачно. – Твои дела принимают весьма дурной оборот.
– Но я ни в чем не виноват.
– Знаю, мой друг, но этот подслушанный мною в саду шепот Тарквиния неизвестно с кем о чем-то зарытом в твоей земле... Этот Вераний, сын умерщвленного поселянина свинопаса, называвшийся оруженосцем Тарквиния, тогда как я достоверно знаю, что никакого Верания ни среди царских рабов, ни среди свободных абалектов охранительной стражи, нет и не было, а твой раб говорил моему Виндицию, будто отданный тобою в жертву сторож перед смертью сознался, что Вераний ему не сын, а признан за сына для содействия в каких-то общих плутнях. Вся совокупность этого... как хочешь... составляет что-то мудреное, свойственное людям, похожим на Тарквиния.
– Какие же твои выводы?
– Что это был подослан, если не Вулкаций, то раб не Тарквиния, а чужой, слуга такого человека, который не близок тебе, и следовательно, твои и его слуги не знают одни других в лицо, или он назвался Веранием только у вас. Это мог быть раб Бибакула или убитого Вулкация.
– Едва ли, Брут.
– У меня есть основание так думать, Турн.
Они долго рассуждали, взвешивая все обстоятельства опасного положения дел, спорили за и против, но Турн не согласился ни с какими доводами.
ГЛАВА Х
Виргиний у префекта
В это время префект-регент Тарквиний, решив, что настала пора для завершения хитросплетенной интриги Руфа с его пособниками, посылал Виргиния заманивать злополучного Турна в западню для его погубления.
– У тебя в его усадьбе есть конкубина из невольниц, – говорил он, – тебе легко заставить ее погубить Турна, как Вулкаций заставил свою конкубину погубить его тестя.
– Но, префект, – возразил юноша с заметною твердостью, – у Вулкация против Скавра был фамильный долг кровомщения за отца; он это сделал, несмотря на полную непричастность и Скавра и его сына к катастрофе, так как Вулкаций-отец погиб совершенно случайно, от собственной неосторожности, подойдя слишком близко к борцам. Справедлива ли эта месть, как ты говоришь, или несправедлива, как говорит царь, все равно, – у Вулкация был повод, прикрытый законной причиной, но скажи мне префект-регент, что вынуждает к такому делу тебя? Чего ты желаешь добиться погубленном Турна, враждующего с моим дедом, но не сделавшего ничего против тебя?
– Я желаю уничтожить весь род этих моих заклятых врагов, – ответил гордец с некоторым невольным чувством неловкости.
Он был смущен честным, прямым взором юноши, никогда не лгавшего, не делавшего ничего дурного при всей своей близости к злодеям, какими были его дед и другая родня, а также и многие из товарищей.
Тарквиний не доверял, помимо честности, этому внуку фламина, по его робости, неловкости в практических делах. Он был недоволен Руфом за неудачу Диркеи отравить Скавра и теперь изливал всю досаду на его внука, оставленного в Риме.
Виргиний сидел против него на другом кресле, низко понурив голову, отказавшись пить вино, разбавленное водою, которым регент угощал его и пил сам.
– Если бы ты знал, префект-регент, как мне тяжело! – воскликнул он наконец с заметною борьбою между твердостью и робостью. – Я не могу исполнить этого твоего приказа.
– Не смей говорить со мною в таком тоне! – закричал на него Тарквиний грубо. – Ты мне давно опротивел подобными разговорами о моих врагах, критикой моих намерений, рассуждениями, чуть не наставлениями!.. Я не желаю выслушивать ничего такого от тебя, от человека, который обязан только повиноваться, получать приказы и исполнять их. Эх, как жаль, что Руф поторопился спустить в землю Вулкация! Он слишком много сделал, еще больше того видел и слышал, он должен был умереть, а все-таки жаль его! Вулкаций не сказал бы мне «я не могу»; не было дела, за которое он не соглашался взяться, не было, в чем бы этот человек оплошал, чего бы не выполнил!
– А что он получил в награду от тебя, префект? – молвил Виргиний с горьким вздохом. – Одну лишь смерть, тайную казнь.
– Разве не почетна смерть для римлянина на поле битвы? Разве неприятен последний удар от руки добивающей его любимой женщины? Разве не имеет никакой цены в твоих глазах мое сожаление? Сын великого царя Тарквиния Приска жалеет его. Вулкаций умер за меня, за мое дело; мало ему в награду сознания этого подвига?! А ты... ты просто противен мне... Гляжу я на тебя и невольно думаю: это ли внук верховного фламина-диалиса?!
– Да я и сам себе противен, откровенно скажу, префект, противен себе не меньше, чем тебе, но как тебе угодно поступи: убей меня, прикажи Сильвину задрать меня в горах, как он задрал моего друга Арпина; сделай со мною, что хочешь, но заманивать Турна в западню я не в силах, не берусь, не буду. Нет, Люций Тарквиний... дед, ты, Бибакуль, все вы, чтобы ни говорили, я отвечу одно: я римлянин: не должно римлянину поступать, как вы; не должно бить из-за угла кинжалом; не должно с любезною улыбкой на устах протягивать рукой отравленную чашу гостю; не должно под личиной мнимого раскаяния заманивать в засаду к палачам с словами обещания спасенья... нет, нет, нет, Люций Тарквиний! Я римлянин.
– А мы, по-твоему, не римляне? – прошипел Тарквиний сквозь зубы от злости, как разъяренный змей. – Кто же мы?
Виргиний молчал; ему хотелось сказать «вы все выродки, недостойные названия римлян», но он не осмелился, и снова поник головою в горьком раздумье.
– Я уже давно собираюсь сбить с тебя спесь, нелюдимый, надутый мальчишка! – продолжал Тарквиний, не дождавшись ответа юноши. – И я собью ее. Я имею средство заставить тебя повиноваться.
Он усмехнулся, меряя Виргиния взором холодного презрения.
– Чем, префект? – возразил тот, едва слышно. – Я умру от невыносимого презренья к самому себе, если совершу эту гнусность. Турн – родственник погибшего Арпина, который был моим единственным другом. Если ты найдешь предлог и казнишь Турна явно, открыто, как казнил на Тарпее его зятя вопреки присланному помилованию от царя, я согласен быть ассистентом осужденного сенатора, до особы которого с самого Ромула, по обычаю, не должен касаться ни пролетарий, ни раб, ни простой ликтор-телохранитель, ни тем менее, палач. Я согласен вести Турна под руку к месту казни, согласен вязать его, класть, склонять, куда ты укажешь, согласен даже отрубить ему голову, но отравлять Турна и в особенности заманивать к палачам... нет... ни за что!.. Тень моего друга Арпина не даст мне покоя, если я злодейски погублю мужа сестры его отравой или заманиванием к убийцам.
Тарквиний мрачно глядел исподлобья, взвешивая каждое слово юноши.
– Ладно, – отозвался он, когда тот кончил, – ты мне ставишь свои условия; я их терпеливо прослушал; теперь узнай и ты мои. Вспомни недавнюю клятвенную угрозу твоего деда: при первом твоем ослушании его или моей воли Инва пожрет Амальтею и вашего ребенка. Конкубина и сын или Турн? Выбирай!
– Префект-регент, – возразил Виргиний мрачно, – этими ли средствами ты можешь привязывать людей к твоему делу?! Запугивание не доставит тебе верных слуг из римской молодежи. Одни старики-жрецы будут верны тебе, потому что сами запугали тебя, подчинили себе. Что суждено Роком, того нельзя изменить: Амальтея и сын мой могут погибнуть и без твоего приказа о том; могут они и спастись от тебя, если Рок судил мне стать когда-нибудь свободным и счастливым. Добывать счастье путем кривды я не буду.
– Не пытайся спасти, предупредить намеченных мною проскриптов! Обреченные Инве, они погибнут, чтобы ты ни делал для их спасения! Как внук верховного жреца, ты должен знать, что в «олицетворителя» переходит сила настоящего божества, которому он служит, дает ему сверхъестественную мощь. Вчера я произнес доклад в Сенате о неблаговидности поведения Турна, о его интригах у царя в Этрурии в защиту мятежника-зятя, о выманивании царского помилования, за отвержение которого, я уверен, Сервий похвалит меня. Завтра я поеду на совет арицийских старшин и надеюсь там окончательно уличить моего врага в измене Риму... Чем? Марк Вулкаций сказал бы, но он умер... умер, чтобы не мог сказать.
Тарквиний кивнул, давая понять, что аудиенция кончена, и вышел, оставив Виргиния с растерзанным сердцем.
Юноша торопливо ушел домой и стал собираться в деревню, сам вызываясь перед дедом исполнять разные поручения, но на самом деле решив передать Турну через Амальтею свои вторичные остережения, какие он уже делал ему вчера через Брута, остеречь и самую Амальтею о грозящей ей беде.
ГЛАВА XI
Болотная птица
С детьми Эмилия уехала в Этрурию, взяв с собою в эскорте охранителей также и сыновей Грецина, как самых верных и расторопных слуг, обещая мужу прислать их обратно, как можно скорее, с вестями о ходе болезни ее отца, лишь только доедет к нему. Ютурну, убежавшую в сад, с трудом поймали и усадили в повозку, точно резвую болотную птицу в плетушку. Она высовывалась из кибитки-рэды, крича, что ей хочется видеть, как придет Сильвин пить жертвенное вино, как уснет, как Амальтея с отцом опутают его неводом и станут допрашивать о том, кто убил Арпина.
Брут, не знавший всех жреческих плутней, заинтересовался этой попыткой изловить сверхъестественное существо и остался в гостях у друга еще на сутки, решив попробовать спасти его новыми рассуждениями.
Они провожали Эмилию, ехавшую шагом, до границы поместья.
– В сущности, мне нет дела, Турн, до твоего спасенья или гибели, – заговорил умный царский родственник, когда они возвращались по гати через топь, – римлянин сам властелин своих дел, сам властен над своею жизнью и смертью, защитой и падением. Разве я тебе старший? Разве я компетентный судья твоих дел? Если ты не спасешься от интриг Тарквиния, я не буду виновен ни пред тобой, ни пред царем, ни пред собственною совестью, как друг, не защитивший, не предупредивший друга: я делаю для тебя все, что могу. Я еще раз говорю тебе: поедем в Этрурию сейчас, вдогонку за твоею женою; брось ты этот совет арицийских старшин со всем их возможным брюзжанием на тебя! Пусть мудрые старцы поворчат, подуются на тебя за отъезд перед самым днем их сходки! Поверь, что они очень скоро забудут этот инцидент. Ну что же?
– Все то же: я остаюсь.
– Но ведь ты один не в силах открыть глаза царю на ужасное поведение его зятя; одному тебе Сервий поверит в этом деле. В эти два месяца этрусской войны трудно верить сколько хороших людей казнено регентом по явно ложным доносам за мнимое сочувствие этрускам, шпионство, хулу на царя, которой те не произносили, и всякие другие небывалые вины. Я уверен, что Инва объелся телами казненных, брошенных в болото, солит их впрок себе на будущее время голодовки, когда вернется добрый царь и прекратит эти варварства.
Брут усмехнулся, намереваясь продолжать в новой, уже шутливой форме свои увещания, но его прервали.
– Господа, – как-то таинственно, испуганно произнес шедший сзади Грецин, – мне сейчас послышался странный звук, который я слышал также и сегодня ночью! Послушайте старого, верного слугу: не разговаривайте здесь про царские дела... Вот, вот, опять; извольте сами прислушаться!
Со стороны пройденной топи послышался отрывистый крик.
– Изволили слышать? – спросил Грецин, растерянно понизив голос.
– Это крик какой-то болотной птицы, – заметил Брут.
– Крик пеликана или фламинго, – прибавил Турн.
Едва они произнесли эти фразы, как другой такой же крик, точно в ответ первому, жалобно пронесся где-то далеко, за топью, слева от идущих.
– Странно! – задумчиво произнес Турн. – Что это за птица? Теперь мне кажется, крик похож на аиста.
– Или на журавля, – сказал Брут.
– Я сам не разберу, господа, кто там завывает, – подтвердил управляющий, – но это во всяком случае одна из тех птиц, которые зимою улетают от нас в какие-то страны неведомые, на юг, за море. Это не птица, господа: это человек кричал по-птичьи.
– Шпион Тарквиния? – обратился к нему Турн.
– А кто знает, господин.
– Тиран опасается, что недовольные им, в случае возможной, старческой кончины царя, могут сплотиться около меня, потомка рутульских царей, и потому не чудо, если он разослал шпионов подсматривать и подслушивать за мною... пусть!.. Презираю я его козни, не приму и никаких советов, идущих вразрез моим правилам жизни. Лучше без страха погибнуть, чем трусливо спасаться от врага.
Грецин, затрясшись, преклонил колена, взывая со слезами:
– Господин! Ты герой... Ты храбрый боец... Но мы-то, слуги-то твой милости... мы-то... мы-то... как же мы...
– Вы обязаны защищать меня до последней капли вашей крови, а потом умереть со мной.
И отвернувшись от старика, Турн обратился к другу.
– Я теперь жалею, что отправил семью мою в Этрурию, по твоему совету, Брут. Ты говорил, что от мятежников дорога безопасна, но чем поручишься, что Тарквиний не подошлет своих партизан сгубить семью мою под видом горных бандитов?
– Конечно, все возможно, Турн, от такого человека, – ответил гость, – но это только твои предположения, тогда как здесь тебе грозит опасность; я это достоверно знаю.
– Было бы лучше, если бы семья осталась со мной. Мы погибли бы вместе. Увидев, что спасенья нет, я сам заколол бы жену и детей моих, с поцелуем закрыл бы им глаза навеки, и последним сам себя, чтобы лечь всем в одну могилу, а теперь неизвестно, что с ними будет.
– Господин!.. Господин!.. – замахав толстыми руками, стал шептать Грецин. – Я вижу болотную птицу... и не одну, а двух... вон они шагают с кочки на кочку и с камня на камень самою середкой топи. Я готов, чем хочешь, клясться, они выкликали Инву на погибель нам всем.
Шедшие увидели среди болота Стериллу и дочь ее Диркею, идущих по направлению к усадьбе фламина Руфа. Старуха хрипло хохотала, протянув костлявую руку с указательным пальцем на Грецина, говоря:
– Приворожил к себе господскую милость, толстый, откормленный кот! Да только не долго тебе чваниться! Другие чары пересилят твою ворожбу. Камилл-то поклялся мне вчера вскрыть тебя да лягушечьими костями набить за колдовство против сельчан.
– А я тебе клянусь моею рукою, не делающею промаха, злая колдунья, – вскричал яростно Турн, – что эта речь твоя будет последнею!
Он сорвал с себя лук, висевший за плечами, и выстрелил. Не попавши в Стериллу от дрожи в руках, не имея возможности и прибить ее, стоящую на недоступном месте, он сердито погрозил ей кулаком и отвернувшись, ускорил шаг.
Сивилла Диркея уныло пропела ему вслед голосом, похожим за завывание зловещей птицы:
Прощенье Сивиллы
Ты гневно отверг
И свет твоей силы
В болоте померк.
Это были те самые, но немного измененные стихи, что она пела Турну два месяца назад, вымогая взятку.
ГЛАВА XII
Амальтея в беседке
Стоял полдень. Сильные порывы вихря, отголоски кончившейся бури, все еще временами проносились, гоня перед собою по быстро расчищенному небу густые белые облака, а на земле крутя по лужайкам столбы из соломинок, стружек, вялых листьев, и всякого легкого хлама, занесенного от жилищ человеческих поднимая это в одном месте и рассыпая в другом.
Был зимний итальянский день из тех, что житель Севера назвал бы теплым.
Турн прилег на послеобеденный отдых, но Брут предпочел бродить по саду. Он любил зимние прогулки больше летних, потому что теперь не приходилось задыхаться в удушливо-раскаленной атмосфере; его не одолевали докучливые мухи, не жужжали, не кусались комары.
Рабы тоже попрятались, как мыши по норам, в свои помещения на всеобщий отдых; даже собаки привыкли забиваться в конуры; одни куры клохтали по двору, да воробьи чирикали на крышах.
В огромном саду усадьбы, на каменной лавочке полуразвалившейся от времени беседки, среди которой выросло огромное дерево, сидела Амальтея, прилежно занимаясь шитьем. Подле нее в корзинке спал ее ребенок, крошечное существо, которому было всего два месяца от рождения.
Дочь Грецина была очень красивая невольница, поэтому никого не удивляла носившаяся о ней по округу молва, будто она отклонила ухаживания многих хороших женихов по той причине, что находится в тайном браке с кем-то из благородных.
Амальтея была гораздо больше гречанка видом, в отца, нежели итальянка, в мать, высока ростом и стройна, с пышным, роскошным бюстом.
Белизна кожи ее прекрасного лица оттенялась еще резче чернотою курчавых волос, длинных и густых, распустившихся теперь по спине и плечам, потому что, ради времени сиесты, и весь ее костюм сидел на ней небрежно.
Поношенное коричневое платье из дорогого сукна с полинялыми голубыми вышивками, очевидно, подаренное госпожой, порыжелые ремни мягких сандалий из хорошей кожи, все это развязано, распущено, распоясано, в час общего отдыха.
Амальтея не предполагала, чтобы в этот дальний угол господского сада теперь кто-нибудь мог придти свидетелем ее туалетной небрежности.
Все знали, что на заре этого дня Турн призывал Сильвина, приносил ему в беседке жертву из амфоры вина, в то же время тайком шепотом, обрекая Амальтею с ее ребенком. Приказав рабыне сидеть весь день тут, он прочим запретил ходить к ней.
Брут, по особому свойству своей эксцентричной головы, успел все это забыть и забрался в глушь сада, бродя туда и сюда.
Амальтее послышалось, будто около стены беседки скрипит гравий дорожки под чьими-то ногами; она повернулась в ту сторону, но тотчас опять наклонилась к работе, продолжая вполголоса напевать прерванную песню, никого не увидев.
Брут тихо бродил по аллеям, скрытый от невольницы кустами, останавливался, любовался цветами, наконец, позабывши запрет друга, свернул на дорожку и увидел красавицу.
– Амальтея! – Позвал он.
– Здравствуй, господин, – отозвалась молодая женщина спокойно и приветливо, плавно воткнула иголку в шитье, взглянула на господского гостя с улыбкой и слегка поклонилась ему, тихо, грациозно.
– Право, воспетая Гомером Елена была не лучшее ее! – подумалось Бруту. – Какой счастливец успел завладеть ее сердцем?!
Он готов был влюбиться в эту прелестную гречанку, умную, горделивую, в некотором смысле даже образованную, с которой можно приятно сидеть в час сиесты, беседуя о пустяках.
Брут был для Амальтеи патриций, но не господин, хоть она и называла его так из вежливости, – господский приятель не властный над нею; поэтому она относилась к нему без страха и подобострастия, даже не встала с лавочки.
– Я желал бы побеседовать с тобою, Амальтея, о важных делах, – заговорил Брут. – Хочу сказать тебе про твоего господина.
Она стянула пояс на своей талии, кокетливо охорашиваясь.
Когда Марк Вулкаций и другие молодые патриции являлись к Амальтее и заставали ее таким же образом одну, они обыкновенно заигрывали с нею, заигрывал и Брут. Она молча ждала, что такое он скажет ей, глубоко вздохнула, и задумчиво устремила глаза вдаль, где за садом едва виднелся сквозь листву дом помещика.
– Тяжелые времена переживаем мы! – заговорил эксцентрик.
– Да, господин.
– Дорогая Амальтея, я боюсь сойти с ума от мучающих меня опасений. Твои господа могут погибнуть.
– Отчего, господин?
– Я уверен, что регент, Руф, Клуилий и Марк Вулкаций устроили это; они подкупили и запугали Балвентия, а потом подучили поселян принести его в жертву, чтобы некому было сказать, где с его помощью они зарыли много чего-то краденого, неизвестно с какою целью.
– В свинарне, господин. Теперешний сторож жалуется, что каждую полночь Сильвин повадился пугать свиней и все там изрыл, как будто ищет, чтобы вынуть спрятанное и унести оттуда.
– А вот, мы его поймаем на эту приманку, – Брут указал на стоявшую в проломе амфору вина, – и заставим все сказать.
– Так, господин, но я уверена, что днем он не придет.
– Не наведешь ли ты меня на мысль, Амальтея? Не посоветуешь ли, как убедить Турна не ездить на завтрашнее заседание в Ариций? Ему там, достоверно знаю, грозит опасность.
– Я едва ли буду тебе полезна; я мало знаю, как живут господа; они наезжают к нам не часто и не надолго.
– Арпин надоумил бы меня, что следует делать, но его нет: Арпин ушел к своей матери в Самний и дорогою неизвестно от кого погиб.
– У нас все жалеют его. Мне думается вот что: ты, конечно, знаешь, что Вераний, которого ты считаешь Вулкацием, навязчиво приставал ко мне, а мой обманутый отец, сбитый с толка его болтовнёю, хотел насильно отдать меня за него, но Вераний внезапно исчез... Ты говоришь, что это патриций, старший внук нашего соседа фламина, но мой брат Ультим вселил во многих у нас уверенность, что этим невольником Веранием был не Вулкаций, а Сильвин Инва; он лишь принимал вид Вулкация, когда ходил к колдунье Диркее, а у нас назывался царским оруженосцем.
Амальтея стала рассказывать все слухи о знаменитом лешем, о всех его проделках, глумлениях, каверзах поселянам этого округа, о всех напрасных попытках изловить или убить его.
Брут любовался ею; взор прелестной невольницы притягивал его как сокровенная бездна, манящая таинственностью ее недр, где недоступно исследованию кроются два волшебных черных алмаза, сверкающих, как лучи солнца, под красивыми дугами правильных бровей.
Молодой вдовец готов был влюбиться в эту очаровательную гречанку.
Горделивая осанка Амальтеи не имела в себе ничего специально рабского, потому что, воспитанная вдали от господ, Амальтея не приучена льстить, а напротив, как дочь управляющего, она себя считала выше деревенских.
В семье господ все ее любили; знали ее и многие из их знакомых, отличали от прочей прислуги, тешили подарками.








