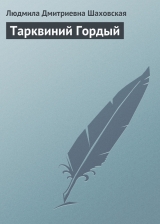
Текст книги "Тарквиний Гордый"
Автор книги: Людмила Шаховская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
ГЛАВА XXXVI
Дед и внук
Виргиний много думал о своем недавно исчезнувшем друге, но не додумался до предположения, что тот одолел в борьбе напавшего на него «олицетворителя» Сильвина, то есть слугу жрецов, играющего роль лешего, и сам занял его место, чтобы самому спастись и спасать других от проскрипций тирана.
Виргиний ежедневно уходил из своей усадьбы, расположенной среди крупных каменистых возвышенностей не столь колоссальных, как Аппенины внутренних местностей полуострова Италии, но все-таки гораздо более высоких, чем холмы в Риме.
Тоскуя о запрещении ему со стороны деда ехать на войну в Этрурию, юноша бродил мерным военных шагом то по крутым тропинкам, ведущим вверх, к открытым вершинам, пробираясь сквозь тенистые леса, то по расстилающимся коврами лугам, которые пестрели благоуханными гиацинтами и иными цветами вечно зеленой Италии.
Задумчиво глядел он сверху на ручьи, текущие с гор в повсеместную болотную топь необъятной Мареммы, производительницы знаменитых римских лихорадок, прислушиваясь, как шумят, точно о чем-то разговаривая, длинноиглые сосны.
Иногда он склонялся над пропастью с выступа утеса, беседовал с местными поселянами, полудикими, невежественными, одетыми в шкуры козлов и баранов или вычурно испещренную узорами домашнего тканья и вышиванья холстину, с затейливыми шляпами и колпаками на головах, самых причудливых фасонов, с лентами, перьями, деревянными бусами.
Местность была красива, живописна, но ее нельзя было назвать веселою.
Унылая болотная топь среди суровых, каменистых и лесистых гор. Она наводила тоску одинаково в душу чуткого человека, и в хмурое, и в ясное утро, при солнце и под тучей, когда она мчится тяжелая, точно гневная, роняя дождь и молнии, указывая людям на их ничтожество перед мощью стихии.
Виргиний не был слишком пристрастным любителем красот природы, даже не всегда понимал их, но он, тем не менее, охотно наслаждался царившей там тишиной, нарушаемой лишь меланхолическими криками болотных птиц, побрякиванием и постукиваньем, доносившемся от людей из селений и с дорог.
Он сиживал, засмотревшись на рдеющее пламя заката в горах, составляющего такой резкий контраст с сумраком долины, что невольно мнились призраки, поднимающиеся с болота вместе с хмурой пеленой тумана.
Про Амальтею и ребенка по-прежнему никто не мог сказать ему ничего ясного: утоплена, утопилась, уехала, бежала, похищена, продана, но когда, как, кем, при каких обстоятельствах, у каждого спрошенного давались в ответ свои варианты, не имевшие связи с ответами предыдущих; никто не выдавал себя свидетелем участи Амальтеи; это невольно заставляло Виргиния верить намекам Ловкача, будто она скрывается у старшины Аннея, приятеля ее погибшего отца.
Его недоумения и ожидания наконец завершились желанным финалом.
В тихую, лунную, весеннюю ночь, в такие часы, когда поселяне давно спали, Тит Ловкач сидел на корме одной из наготовленных им для продажи лодок, которые горою свалил на безлюдном перекрестке дорог, намереваясь с утреннею зарею увезти их отсюда в Рим на базарную площадь.
Его выпряженная лошадь, привязанная к телеге на длинной веревке, щипала траву, обильно росшую в этом мало проезжем месте.
Ловкач был слегка подгулявши на выманенные у Виргиния деньги, и временами с усмешкой бормотал что-то сквозь зубы, под влиянием какой-то оригинальной идеи.
Виргиний, ставши на его плечи не задолго до этого времени, перебрался через садовый забор опустелой усадьбы Турна, а оттуда через лужайку достиг господского дома и шагнул за порог небольшой дверки одного из боковых входов в это здание, где, по сообщению Ловкача, теперь должна произойти его встреча с Амальтеей, приведенной хитрым лодочником туда, как в самое безопасное место, куда никто не вздумает ночью наведаться.
Осторожно поднимался Виргиний, ощупывая ветхую деревянную лестницу, под его ногами слегка скрипевшую, точно высказывая жалобы на несправедливость Тарквиния Гордого к ее погибшим господам.
Была полная тьма вокруг взлезающего молодого человека; лунный свет не достигал туда сквозь единственное круглое окошко над дверью этих сеней, бывшей недалеко от густых деревьев и стены одного из служебных зданий усадьбы, коровника или конюшни.
Виргиний достиг двери комнат верхнего этажа усадьбы, знакомой ему в последнее время, так как по поручению деда, он составлял там опись вещей, назначенных к вывозу на виллу Руфа и в Рим.
Виргиний взялся за скобку и хотел отворить дверь, но она сама отворилась, толкнутая изнутри человеком, который, очевидно, прислушивался к шагам поступи всходящего, и Виргиний очутился лицом к лицу не с Амальтеей, а со своим неумолимым дедом.
Внутренне он желал в эту минуту стремительно убежать из альтаны вниз, но в действительности точно прирос ногами к полу, ошеломленный, испуганный, огорченный.
– Ну, что же? – заговорил Руф насмешливо, поняв состояние духа юноши, забавляясь его страхом. – Попался олень к медведю в лапы вместо объятий своей лани! Входи же, входи, любезный внучек, на расправу к дедушке! Побеседуем! Я уж не первую ночь подстерегаю тебя тут, не сплю до зари.
Виргиний вошел в альтану. Руф грозно поднял кулак, закричав:
– На колени, непокорный! Проси себе уже не прощенья, потому что я тебя никогда не прощу, а пощады, помилования. Я старший в роду; я имею право убить тебя, казнить, как хочу; ты это забыл?!
Осмотревшись, Виргиний увидел себя не вдвоем с грозным дедом: мрачный Клуилий и угрюмый фламин Марса были также там.
Юноша не склонился; не обнял колен деда, как поступал в такие моменты вспыльчивости старика прежде, а напротив, в отчаянии от потери всякой надежды на счастье, отшатнулся от него прочь; гнев и печаль пересилили у него самый страх смерти.
– Где Амальтея?! – закричал он диким, безумным голосом. – Где Амальтея?! Где мой сын?! Так нельзя, дед... видят боги, что твоя воля для меня священна, твоя честь мне дорога, как моя собственная, но за что же ты терзаешь меня? Неужели за мой отказ совершить противозаконное дело, выполненное вместо меня Бибакулом?
– Моя угроза исполнена, – отозвался фламин сухим, равнодушным тоном.
– О, дед! Ты не поймешь, не можешь понять, как это измучило меня, как расшатало мое мужество, подорвало сознание собственного достоинства. Я сам себе гадок; мне невольно думается, что я в самом деле не человек, а червяк, каким ты меня себе представляешь. Я упал духом; мне стыдно жить на свете, точно не только люди, но и самые бездушные предметы – стены и деревья – смеются надо мной. Ты погубил моего друга Арпина; я это снес, стерпел, скрепя сердцем, но разлюбить и забыть Амальтею я не в силах. Отдай мне мое счастие! Отдай хоть в награду за то, что я, рискуя своею жизнью, спас тебя от ярости народа в день воцарения Тарквиния.
ГЛАВА XXXVII
Где Амальтея?
Руф стоял перед внуком спокойно и важно, как холодная статуя, и молчал, давая ему высказаться, втайне радуясь, какой хорошей закалке он подверг этого любимого им юношу.
– Ты спас мне жизнь, – отозвался он с легкой усмешкой сквозь мрачный тон своей постоянной угрюмости, – какая же в этом заслуга и за что мне благодарить, награждать тебя? Ты был обязан это сделать; ты только честно исполнил твой долг. Если бы чернь разорвала меня, ты был бы отдан под суд, как допустивший это, при свидетелях из благородных особ, и был бы брошен с Тарпеи, как изменник старшему, главе твоей семьи.
– Где Амальтея, где? – взывал несчастный юноша, не слушая речей фламина, – я только с нею узнал настоящую, честную любовь, настоящее счастие. Ты сам, дед, указал мне ее, сам дозволил любить...
– Дозволил забавляться, – перебил Руф с улыбкой, – погорюешь и забудешь. Я отдал ее замуж.
– Замуж?!
– Я подарил Амальтею разбойнику Авлу за погубление Арпина и все другие услуги.
– Эту женщину я всегда считал моею женой; я ей поклялся быть верным или умереть, как и она поклялась мне.
– Я это сделал за твое ослушание, – за то, что ты отказался заманить Турна в ловушку для казни, и нам пришлось передать это поручение Бибакулу.
– Я отказался потому, что это повеление Тарквиния были слишком тиранически бесчестно.
– Обними меня, милый внук! Помиримся! – перебил Руф уже с любезною улыбкой. – Я вижу, что успел закалить твой дух в правилах, какие именно мне хотелось внушить тебе. Ничто так не укрепляет энергию, как перенесение бедствий. Я лишил тебя счастия первой любви, чтобы дать в тебе Риму героя.
– Да... Ты закалил меня, – ответил Виргиний, отстранившись от объятий старого жреца, – ты укрепил мою энергию разрушением счастия ровно настолько, чтобы я имел мужество исполнить клятву, данную любимой женщине, – бесстрашно умереть. Риму ты во мне даешь не героя, а несчастную, измученную жертву твоего деспотизма, жертву, вынужденную сказать, что и сам ты не искренний слуга великого Рима, а занимающий высокий сан фламина изменник, достойный Тарпеи.
– Виргиний! – вскрикнул Руф, всплеснув руками в ужасе. – При свидетелях из неподкупных людей высокого сана... безумный!
– Я был бы безумным, если бы исполнял все твои совместные с Тарквинием гнусные интриги на погибель царя Сервия, Турна, Скавра, Авфидия и мн. др. людей, менее важных, но все-таки не заслуживших казни, проскриптов, погубленных твоею клеветой. Теперь глаза мои вполне открылись, ум просветлел; я возмужал, перестал быть боязливым и послушным мальчиком перед тобою; я понял, что и повиновение старшему в роду должно иметь свои пределы, за которые честный человек не шагает. Я признаю, что дисциплина делает римлян непобедимыми на войне, почтение младших к старшим доставляет им всеобщее уважение иностранцев в мирное время, но дисциплина не делает воина рабом, а младшего не обязывает быть сообщником преступлений старших.
– Виргиний, что хочешь ты сказать? – спросил Руф в каком-то странном смущеньи.
– Хочу сказать, что обладаю тайной, какой ты не подозреваешь. Долгое время я щадил Тита Ловкача, негодяя из негодяев, щадил, пока он уверял меня в возможности иметь счастие жизни с любимой женщиной.
– Какая тайна? Неужели Тит выболтал тебе, что будто я...
– Не выболтал, а продал.
– Что? Что?
– Возврати мне Амальтею, и я смолчу, хоть уже по-прежнему во всем покорен тебе не буду, дед. Ты запретил мне говорить о твоих интригах, выполненных здесь Титом, Вулкацием, Авлом для погубления Турна, и я не говорил, не открыл ничего ни самому Турну, ни его родным и друзьям, ни царю Сервию, несмотря на всю муку угрызений моей совести. Я дал тебе погубить Турна, одного из самых доблестных людей нашего времени, потому что ты обещал наградой за мое молчанье позволение назвать Амальтею женой. Ты отдал Амальтею Авлу, сгубил ее; этим ты нарушил твое слово; поэтому и я нарушу мое молчанье; Турна сгубить я тебе дал, но я спас от гибели войско. Я купил у Тита твои письма, которые он нес к вождям этрусских партизан уже после общей покорности страны. Царь Сервий и Скавр были бы окружены и убиты при полном истреблении войска, если бы твои советы дошли по назначению, а Тит тебя уверил, будто эти письма отняты у него уже в пути напавшими лазутчиками Скавра. Я предъявлю эту улику народу на комициях Рима, и Плебс разорвет, растерзает тебя до суда, как изменника, узнавши от меня, что весь этот набег этрусков подстроил ты, подучил их напасть на наши владения, чтобы сгубить царя, любимого народом, навязать нам узурпатора, тирана.
– Мстить мне! Ты обезумел! Щенок дворняжки вздумал кусать Цербера? Забавно! Разве я дам тебе попасть на эти римские комиции?! Ты сгниешь, заточенный мною здесь на вилле.
– Варвар! Если ты это сделаешь, я вырвусь, разломав все твои замки, и утоплюсь в болоте. Амальтея во власти разбойника Авла! Разве я могу переносить самую мысль об этом? Да, я утоплюсь, потеряв все надежды. Мой сын растерзан разбойником, быть может, даже в присутствии матери, с насмешливыми издевательствами над муками ее сердца, с вымоганием ее уступок под условием его пощады! Да, да, я утоплюсь, потому что в заточении жизнь больше не имеет для меня ни цены, ни значения.
Я не могу стать 22-х лет от рода таким, каков мой дед в 70, живым мертвецом с железным духом, не могу погасить в моем сердце всякий луч доброты, радости, любви. Холодный, бесчувственный, и к ближним и к самому себе, мой дед – человек-машина, лишь пунктуально-аккуратно исполняет то, что он считает, часто ложно, за свой долг. Скажите же мне, почтенные жрецы, свидетели моего доноса: честно ли он поступил, выдавая врагам движения войска царя Сервия? Тарквиний убил царя в Риме только потому, что не удалось сгубить его на поле битвы.
Жрецы молчали, не желая вмешиваться в уголовное дело, которое неизвестно чем может кончиться для них при силе фламина у Тарквиния, при не меньшей силе и народных комиций, которыми тоже не следовало пренебрегать, в чем они убедились при схватке на Форуме в день воцарения узурпатора.
– И меня поведут на Тарпею! – с трудом проговорил Руф, задыхаясь не от страха, а от злости на внука. – Этого позора моей фамилии ты не нанесешь; я не позволю тебе утопиться, не позволю и доносить на меня. Дома, на вилле, ты примешь яд вместе со мною, потому что и я больше не хочу жить.
– Вместе с тобой я умирать не желаю ни дома, ни на Тарпее, нигде, – возразил Виргиний с горькою усмешкой, – довольно с тебя, что я так долго мог жить, точно под каменного глыбой, задавленный твоим деспотизмом хуже раба! Все, что мне осталось, как последнее благо – это свободный выбор формы смерти...
ГЛАВА XXXVIII
Во власти жрецов
Удивляясь внезапному молчанию Руфа, фламины Януса и Марса окликнули его, потом стали толкать; Руф опустился на кресле, готовый свалиться по пол. Жрецы и внук предположили, что он моментально умер от старческого разрыва сердца или мозга.
Жрецы принялись уговаривать Виргиния не порочить деда, скрыть его совместные с Тарквинием интриги против царя Сервия, который уже, все равно погиб, не предъявлять ни сенату, ни на комициях компрометирующие документы, грозя гневом богов за позор памяти мертвого, напоминая пословицу «de mortuis bene aut nihil».
Сдавшись на эти уговаривания в силу нежности своего доброго характера, Виргиний еще упрямее стал настаивать на втором решении, что его никто и ничто не отвлечет от твердого намерения сейчас же вызвать Инву-Авла в Палатинской пещере и там потребовать, чтобы он отдал ему Амальтею, если еще не убил ее, а если она уже погибла, то сразиться с ним.
– Я вырву Амальтею из неволи от Авла или погибну за нее, – говорил он.
Виргиний намеревался схватить Тита на перекрестке и отослать в Рим на суд комиций за все его интриги против Турна и Сервия, но посланные за ним слуги вернулись с ответом, что Ловкач давно уехал со своими лодками с этого перекрестка.
Решив поймать его в Риме, Виргиний перестал думать о нем; ему, в сущности, было не до Тита; сердце его томилось скорбью об Амальтее и ребенке.
Жрецы стали обсуждать с ним это дело, как отнять красавицу у разбойника? Проникнуть в неведомые недра вулканических подземелий никто бы не решился. Жрецы подозревали возможность того, что Авл не один играет роль чудовища Инвы, а у него целая шайка разбойников, оттого и Диркее мнятся его фигура, манера, голос не всегда похожими на раба, бежавшего от Турна под защиту фламина.
Жрецы стали рассказывать Виргинию, что они слышали от Брута, единственного свидетеля похищения Амальтеи с ребенком, как чудовище явилось с ужасающим ревом в беседку, охватило сначала ребенка, потом Амальтею, лапами с длинными когтями и унесло для заточения или растерзания по приказу фламина, а Брута столкнуло в болото, откуда он с трудом вылез.
Виргиний остался непреклонен.
– Ты не знаешь, как силен служащий твоему деду Авл! – говорил Клуилий. – Он не побоялся напасть на Арпина, справился с таким богатырем, убил его. Остановись, Децим Виргиний, обдумай хорошенько твое решение!
Погрузившись в глубокую думу о том, что ему следует теперь предпринять и в какой форме выполнить, Виргиний не отзывался на приставанья этих людей.
Фанатик Клуилий, как всегда, был мрачен, заражая своим настроением не только его товарища, Марсова фламина, но даже и слуг, пришедших в альтану. Отозвав в сторону жреца, он долго шептался с ним, потом справился о состоянии Руфа, убедился, что тот лежит, как был уложен, без движения и дыхания, совершенно мертвый.
фламин Марса усмехнулся недоверию товарища к совершившемуся факту; ему было жаль Виргиния, решившегося умереть в случае невозможности выручить любимую женщину, но он, как вообще все старые, не понимал силы юной страсти, и тоже с недоверием усмехался, полагая, что Виргиний отложит свою гибель, а потом и совсем отдумает, успокоится.
Виргиний отошел от него в пустой угол альтаны и долго простоял там в мучительном раздумье, прижав свою руку ко лбу, точно силясь очнуться от забытья, от хаоса ошеломивших его событий, – гибели жены с ребенком, смерти злодея деда, дающей ему свободу, когда она ему не нужна, потому что невозможно счастие. Он не знал, на какой идее ему остановить свои мысли, что предпочесть. Наконец он вздрогнул, все также потупившись, перешел через всю просторную комнату альтаны, не взглянув ни на кого, и снова точно застыл, скрестив руки в позе каменной статуи.
Мертвое молчание, гнетущее, невыносимое, царило среди собравшихся людей.
Мрачный фанатик Клуилий боялся встретиться глазами с полубезумным юношею, которому он постарался испортить жизнь в качестве друга-пособника его деда.
Опасаясь, чтобы Виргиний не бросился на него, Клуилий в недоумении, не зная что ему делать, яростно теребил край своей тоги, то разглаживая, то укладывая в складки веером.
– Повозки готовы! – резко доложил один из слуг, прервав унылое, неловкое общее молчанье.
В углу комнаты стояла забытая прялка Амальтеи; на гвозде висели пяльцы с недошитою работой, с мешочком разноцветных клубков, висевших при них.
Случайно взглянув на эти снаряды женских рукоделий, омертвелый Виргиний оживился; глаза его заискрились, но он думал не об Амальтее; ему вспомнился его погибший друг.
– Арпин ночевал в этой альтане, когда приезжал гостить к Турну, – сказал он.
– Кто? – не дослышав, спросил жрец Марса, почти задремавший от тягостной скуки.
– Сын Скавра; я сказал о нем; я вспомнил моего друга. Арпин хотел уйти навсегда к самнитам, но я от верных людей слышал, что в Самнии Арпина нет. Семья его материнских родных слишком знатна там, чтобы не знать...
– Ты когда-то говорил нам, – перебил Клуилий, – будто тебе в виде Арпина являлся Инва, когда ты был болен, но дед счел явившееся тебе на болоте чудовище обыкновенным медведем или даже бредом от раны на голове.
– Нам придется ехать в Рим мимо этого места; я покажу вам его.
– Покажи. Инва не вредит людям, если не влезать в недра земные, где его логовище, – заметил жрец Марса.
– Его логовища я не мог найти; оно исчезло, но поселяне видали чудовище в сумерках; ночью оно бродит в Риме у Палатинской горы. Бедный Арпин! Оно растерзало его, когда тот приютился на отдых в пещере, не зная, что она имеет соединение со страшным палатинским гротом. Бедный Грецин! Его сыновья! Моя Амальтея.
– Несчастный Виргиний! – процедил сквозь зубы осторожно жрец Марса, но юноша отчетливо слышал его шепот в напряженном состоянии своего духа.
Он тяжело вздохнул. Все переглянулись.
– Поедем, пора! – сказал Клуилий, тихонько толкая локтем своего дремлющего товарища. Тот утер кулаками слезящиеся, сонные глаза.
Виргиний не обратил внимания на их движение и не двигался с места, пристально глядя на прялку Амальтеи, как бы обдумывая какой-то план.
Один из слуг повторил возглас жрецов:
– Пора... пора!..
Виргиний мельком взглянул и качнул головой отрицательно с едва заметною улыбкой при этом.
– Не поведут же его насильно! – тихо сказал другой слуга своему товарищу.
– Тулл Клуилий не станет стараться о его гибели.
– Если Руф помер, ему все равно до его внука; если жив, то...
– То царь едва ли казнит его.
– Все это они просто подстраивают на что-то.
– Децим Виргиний! – громко окликнул жрец Марса. – Что же ты молчишь? Да говори же! Поедем отсюда! Скажи, на что решился.
Улыбка Виргиния стала еще заметнее, выразительнее, только никто не понял ее затаенного смысла. Он повернулся к окликнувшему и с дрожью в голосе ответил как бы машинально:
– Пора... пора!
ГЛАВА XXXIX
Каменная глыба рухнула!..
Слуги были правы в своих перешептываниях: жрецы не намеревались губить Виргиния; из них Клуилий даже надеялся в скором времени подчинить этого слабохарактерного юношу своему влиянию, искусно играя на его живых струнах религиозных суеверий римского культа в простом уме, которому не привился даже скептицизм Тита-лодочника, слывшего колдуном по его уверениям в возможности без вреда сноситься с Инвой.
Виргиний был наивен в своих верованиях, прост и податлив. Ласка и угроза действовали на него одинаково могущественно. Он наговорил деду дерзостей, решил умереть... Клуилий знал, что это не больше, как непрочная вспышка огорченного сердца, разбитых надежд... Виргиний, думалось жрецу, к вечеру же раздумает умирать, ночью успеет выплакать все свое горе неудачной любви, а к следующему утру помирится с дедом живым, а еще легче мертвым, стоит увезти его отсюда, из этого дома конфискованного у Турна, где все напоминает погубленную семью управляющего и Скаврова сына.
Жрец Марса был вполне солидарен мнениям Клуилия; он ничуть не был, как и тот, ни смущен, ни озадачен видом и поведением Виргиния.
Он был великодушнее его мрачного товарища, более чуток к страданиям других людей, хоть тоже нередко поступался совестью ради своих жреческих или придворных целей.
Он шепотом совещался с Клуилием о том, что Виргиний не сумеет вызвать их агента, играющего роль Инвы, – Авл к нему не пойдет в Палатинском гроте, а гротов деревенских юноша даже не найдет.
Клуилий согласился с таким мнением и они решили предоставить ему свободу действий.
Они тихо ехали все трое в повозке; за ними слуги несли Руфа, уложенного на широкую скамью, так как устраивать похороны такого важного лица в деревне, где он умер, а не в городском доме, было бы в высшей степени неприлично.
На том месте болотной топи, где Виргиний когда-то простился со своим другом, а потом видел Инву – теперь там валялись и медленно гнили не затонувшие деревянные носилки, брошенные туда поселянами вместе с чучелом Грецина после выполнения колдовских обрядов над ним.
Поместившись на лежавший там плотный, объемистый манекен, сидел человек-медведь, облокачиваясь на свое колено, сетуя в глубокой, скорбной думе о гибели всех, кто ему мил на свете.
Сивилла Диркея, через которую он, считаемый за Авла, легче нежели от ее матери, выведывал все затеи губителей, стояла на берегу топи, напевая похоронные «тристы», составленные из ее собственных, нередко бессмысленных, импровизаций.
Богатырь Арпин, крывшийся в шкуре медведя, горевал, слушая эти грустные напевания полоумной девушки.
Зная весь мрачный трагизм ее ужасной жизни, Арпин жалел Диркею больше, чем презирал; он понимал ее страданья, понимал, что сделало ее такою, она убила своею рукою обольстившего и бросившего ее Вулкация, выполнила над ним приговор, когда он попал в проскрипты[18]18
В наш. предыдущ. рассказе «Набег этрусков».
[Закрыть], потому что слишком пламенно и неизменно любила его.
Луна на ущербе слабо освещала эти две странные фигуры – растрепанной колдуньи с искаженным лицом и медведя с человеческим торсом.
Медведь намеревался моментально убежать при появлении чужих людей, но знакомы с ним, как с предполагаемым Авлом, Клуилий остановил его формальным возгласом:
– Жертва!
Гнусавый голос фламина Януса резко прозвучал в тишине болотной пустыни.
Медведь встал на носилках, как на плоту, выпрямился во весь свой огромный рост, опираясь на дубину, постоял, испытующе глядя на группу пришедших, плохо видных при половинной луне, – кто они и сколько их, – потом отвязал от пояса своей холщевой одежды какой-то маленький глиняный инструмент вроде воронки или дудки-окарины, приставил его ко рту и издал страшный рев, раздавшийся на все болото, усиливаемый еще ужаснее горными отголосками в ночной тиши деревенского безлюдья.
– Кому нужен Сильвин рамнийских лесов, полей и болот? – спросил он громоподобным тоном.
Виргиний никогда ничего подобного не слышал и ему невольно мнилось, что Диркея права, а жрецы ошибаются, что леший совсем не Авл, а настоящее чудовище римской мифологии. Всякая мысль бороться за Амальтею пропала у юноши; осталась возможность умолять, сулить дары, но и эта надежда меркла от уверенности, что разбойник, играющий роль Сильвина, растерзал красавицу за ее отказ принадлежать ему добровольно.
Клуилий, напротив, смело заговорил.
– Децим Виргиний Руф младший прибыл с нами известить тебя, гений рамнийских лесов и болот, что дед его, Децим Виргиний Руф старший, только что скончался.
Медведь подпрыгнул на досках, чуть не выронив из руки дудку и, забыв приложить ее ко рту, издал крик, который мог бы показаться вполне человеческим, если бы этому не воспрепятствовала зубастая челюсть его маски, придавшая и без инструмента его голосу тон рева.
– Каменная глыба наконец рухнула!
Сивилла Диркея издала вопль, в котором тоже ясно слышалась примесь радостного оттенка, повторяя возглас Сильвина:
– Каменная глыба рухнула!
Она готовилась запеть на эту тему стихотворную импровизацию, но Клуилий перебил ее новым возвещением.
– Децим Виргиний Руф пришел выкупить у тебя, могучий Сильвин, женщину, отданную тебе его дедом в залог обещанной другой жертвы.
Медведь готов был сорвать с себя маску, чтобы вернуться в общество людей, которое покинул от преследований Руфа, как проскрипт наставшей тирании.
– Виргиний свободен! – кричал он в исступлении. – Пусть придет и возьмет любимую женщину сам из моей пещеры!
Молодой проскрипт готов был открыться другу, игнорируя все последствия, могшие быть от присутствия жрецов и слуг, но его остановило нечто, ужаснувшее и всех других.
Это был раздавшийся сзади толпы голос, тоном похожий на удары палкою в доску, – «деревянный» голос, слишком хорошо знакомый всем этим людям.
– Децим Виргий Руф младший лжет! Децим Виргиний Руф старший не умер... Каменная глыба еще не рухнула... Я жив... Я здесь.
Принесенный старик, которого считали уже трупом, вскочил со скамьи, сгоряча отвесил по звонкой пощечине двоим из своих рабов, и накинулся на внука.
– Щенок, дурак, червяк, обрадовался! Вместо того, чтобы сетовать над умершим дедом, слезами обливаться, рыдать, ты о ком думаешь? Что затеял? Куда пошел?
Удары костлявой руки, один другого больнее, посыпались на несчастного юношу, который, обливаясь слезами от боли и нового горя, едва выговаривал слова в напрасной попытке оправдания.
– Дедушка, мы несли тебя в Рим, домой; сам скажешь, что оставить в деревне было бы неприлично... Я сюда пошел не нарочно, а мимоходом; вот и почтенные жрецы, друзья твои, свидетели...
– Друзья! – перебил Руф, скрипнув зубами от злости. – Я только что простил Клуилию его каверзы против меня у Тарквиния, а едва я глаза сомкнул в обмороке, сочтенный мертвым, Клуилий льстит тебе... Судьба исполнила мое всегдашнее желание, казавшееся неисполнимым; я хотел знать, как вы отнесетесь, любезные, ко мне после моей смерти... Хоть бы, думалось, тогда одним глазком взглянуть в самую узкую щелочку между ресницами, хоть бы одно словечко ушком поймать, – как милый внучек станет деда на костер наряжать, украшать... Слишком много и видел, и слышал!
– Да, послушай, Руф... – начал возражать жрец Марса, но разгневанный фламин перебил его на полуслове продолжением горячей тирады.
– Вы все чуть не в пляс пустились с первой же минуты моей мнимой смерти! Хороши друзья! Очень верны мне! Если бы я был великим Понтифексом, я отрешил бы вас от должностей, а теперь мне остается только отрешить вас от моей дружбы.
И Руф в злобном издевательстве отвесил обоим жрецам низкий поклон, давая этим понять, что они могут удалиться.








