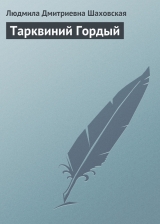
Текст книги "Тарквиний Гордый"
Автор книги: Людмила Шаховская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
ГЛАВА XXXIII
Воцарение Тарквиния
Вскоре после Консуалий поселяне справляли Арвалии – пастушье торжество[15]15
Подобный этому праздник Луперкалий описан нами в ром. «Ювенал».
[Закрыть].
В эту эпоху на простые события римской старины уже начали наслаиваться, частью заимствованные от иных народов, частью самостоятельно возникшие, хитросплетенные мифы, искажения, идеализация, преувеличения, возведение в герои и в боги самых простых людей.
К таким личностям принадлежит Акка, жена пастуха Фаустула[16]16
Она является одним из главных действующих лиц в нашем рассказе «На берегах Альбунея».
[Закрыть].
Так как про эту женщину носилась молва в народе, будто она «волчица», т. е. развратная прелестница, то о спасенных ею из воды близнецах в эту эпоху уже говорили, будто Ромула и Рема спасла, вытащила и вскормила волчица настоящая, зверь, что и до наших дней осталось в гербе Рима, а так как Ромул и Рем были основатели города, его родоначальники, Лары, то и Акку вместо простого прозвища Лауренция, Лаврентия, стали звать Ларенцией, т. е. матерю Ларов.
О ней сложился миф, будто после усыновления ею Ромула и Рема у нее, до того времени бездетной, родилось 12 сыновей; все они были пастухами, товарищами основателей Рима, их сподвижниками, и после смерти тоже стали Ларами города.
В Риме Арвалии происходили с пышным торжеством. Там была коллегия 12-ти жрецов, арвальское братство; они избирали себе каждый год начальника и фламина для принесения жертв несколько раз в году, совершали шествия на Марсово поле и в иные места для этих молений.
В деревнях, конечно, все подобное совершалось гораздо проще, в виде довольно комичного подражания столице, но тем не менее, среди патрициата было не мало особ, предпочитавших удаляться на дни таких праздников деревни и, если не разделять, то смотреть на искренность веселья этих наивных детей природы.
К таким особам принадлежали члены семьи Турна, любивший шутить и балагурить в народе эксцентричный Брут, и влюбленный в Амальтею Виргиний.
В этом году им не пришлось веселиться: Турн скрывался неизвестно где; его жена и дети жили в одном из мелких городков покорившейся части Этрурии, ухаживая за больным Скавром; там жил и Брут среди вверенных ему воинов.
Уныло трепетали они за дальнейшую участь скрывшегося героя и с недоумением ждали, что решит в этом деле царь, как отнесется к самоуправцу-зятю?
Власть Тарквиния была им получена после утверждения согласием народа, освящена в храме Януса жрецами, она была законна, поэтому во время казни Авфидия этруска никто не поддерживал возражений Турна, когда он взывал о защите мужа своей сестры от беззакония, но после гибели сакердота Туллия и других, римляне заговорили про это на иной лад: теперь власть Тарквиния законна, но Сервий тем не менее, может разгневаться, разобрать процессы своего родственника и любимца с иной точки зрения, лишь только вернется в Рим, осудит Тарквиния за превышение власти, за ослушание царских повелений от вестников, сошлет его, заточит или даже предаст смерти, не спрашивая в этом народного согласия, по праву старшего в роду, так как регент ему зять, муж его дочери.
– Вместе с виновным правителем могут казаться виноватыми и все свидетели, допустившие беззаконие.
Испугавшись такого предположения, многие пришли к мысли, что невольно приходится выбирать одно из двух зол: пострадать с гордецом или вместе с ним защищаться.
У этих людей возникал еще такой вопрос:
– Что достанется на их долю в том случае, если Сервий позовет Тарквиния, своего зятя-воспитанника, которого всегда прежде любил и хвалил, к суду только для формы, соблюдая требования закона и обычаи народа, а через год или два возвратить из ссылки?
– Как взглянет гордый, злобный царский зять на людей, не хотевших его выгородить, защитить от суда, допустивших его унижение?
Через преданных ему особ Тарквиний отлично знал, что делается в городе; ему известно было расположение умов, как сенаторов, так и черни.
Простонародье боготворило его, подчиняясь обаянию его величественной наружности и звучного голоса; патриции боялись, считая за хитрого интригана.
Являясь к знатнейшим из римлян в дома гостем под предлогом испрошения совета или дружеской беседы, он одних привлек к себе заманчивыми обещаниями раздачи поместий среди этрусских земель, вопреки договору Сервия с покорившимися мятежниками при капитуляции их; другим, храбрым молодым людям, не взятым на эту войну, он рисовал картины славы похода на Самний, отлагаемый Сервием из года в год по причине его миролюбия и старости; наконец, многих он напугал гневом царя и необходимостью самозащиты.
Таким образом, у Тарквиния быстро составилась сильная партия, готовая защищать его и словом в сенате, и криком на форуме, и даже оружием, если дело дойдет до открытой борьбы.
Царь Сервий хмурился; деяния зятя, очевидно, не нравились ему, но он, по старческой медлительности уже угасающей энергии духа, сдерживался, не высказывал своих мнений; карать воспитанного им с колыбели Тарквиния, который ему был все равно, что сын, особенно с тех пор, как по его приказу стал мужем его дочери, карать такого регента за гибель своих дальних родственников или любимцев миролюбивому Сервию было очень трудно.
Притом, старого царя одолевали военные действия мелких стычек партизанских шаек этрусков, которые официально принесли полную покорность, но тайком продолжали докучать набегами на римские поселки и даже тревожили самый стан царя по ночам.
Поход затягивался против всех правил тогдашних римлян, еще не привыкших воевать зимою, потому что не имели ни лагерных палаток, ни вообще обоза, довольствуясь тем, что отыщется на месте стоянки, и принесенным багажом каждого воина, на его плечах.
Войско хворало от простуды на ветру и голой земле; хворал главнокомандующий Эмилий Скавр; царь тоже чувствовал себя не хорошо.
Он вздыхал, отмалчивался, обещал вникнуть и разобрать деяния своего зятя, но медлил возвращаться в Рим до окончательного замирения бунтующих этрусков, пока новая, еще более страшная весть, не поразила старого царя уже в самое сердце: Тарквиний казнил его дочь, свою добрую жену, задушил в постели.
Жрецы Прозерпины, пришедшие готовить тело к погребению, со страхом взглянули на убийцу.
– Я убил ее за супружескую неверность, – мрачно объяснил им гордец.
По тогдашним законам, жена составляла полную собственность мужа, как и дети; он имел право лишать жизни, кого хотел, из них, даже без всякой вины, как ставших лишь неугодными главе семьи, не отвечая перед судом, одинаково, что и за убиение раба.
Несчастную царевну унесли, сожгли, и похоронили в фамильном склепе царской семьи без всякой торжественности.
Никто, кроме жрецов-погребателей, не смел подойти к ее костру для прощанья; ни одной ветки не положено, ни капли благовония не возлито на тело «преступницы» жертвы проскрипций тирана.
Злая сестра ее Туллия торжествовала.
Обе дочери Сервия носили одно имя, его фамильное прозвище.
Таких прозвищ у римлян было бесчисленно много, но личных имен известно в истории весьма ограниченное количество: Кай, Кней, Квинт, Марк, Децим и др., не больше 20-ти; поэтому у них во всяком собравшемся обществе являлись люди с одинаковыми именами.
Имена древние вроде Нумитора, Ромоула, Рема, тогда не употреблялись, а женщины личных имен не имели.
Туллия была вдовою брата Тарквиния.
Одна только преграда осталась для достижения ее заветной цели, сделаться царицею Рима – отец.
Это был родной, любящий, заботливый, ласковый отец, стоящий уже на пороге старческой могилы, не обещающий долго прожить по естественной близости кончины.
– Ждать нам его смерти? – угрюмо спросил Тарквиний злодейку.
– Нет, – хладнокровно ответила Туллия.
И царь Сервий попал в проскрипты Тарквиния Гордого.
Ни одного возражения совести не шевельнулось в черном сердце Туллии; ни одного проблеска чувства дочерней любви, воспоминаний детства, сознания, что Сервий для Тарквиния благодетель-воспитатель, ей – родной отец, обоим – царь.
Тарквиний и Туллия обручились без позволения и благословения старшего в роду, настоящего главы их семьи, Сервия, зато их слишком многословно благословляли, поздравляли и приветствовали благоволившие к ним римские жрецы с юпитеровым фламином во главе.
Руф торжествовал, предвкушая близкую возможность сгубить своего последнего соперника славы и царских милостей, Эмилия Скавра.
Он усердно помогал Тарквинию распространять молву, будто царь Сервий болен от ран, простуды, всяких старческих немощей, а потом – будто он даже умер, но Скавр по каким-то неблаговидным, ему самому выгодным причинам, скрывает его смерть.
Рим волновался этими слухами изо дня в день сильнее, но в нем мало было таких людей, кто понимал, откуда шли эти интриги; особенно плебеи, простонародье, верили в естественную возможность смерти старого царя.
ГЛАВА XXXIV
Улица злодейства
Граждане сходились на комиции почти ежедневно, шептали, кричали, толкались, домогались услышать что бы ни было новое про Сервия, перевирали услышанное, спорили и препирались о новой молве без конца.
В один из наиболее запутанных моментов такой народной толчеи среди форума, бесцеремонно расталкивая этих Тициев и Сейев палками, показались ликторы, а за ними Тарквиний, одетый в парадное царское платье – пурпурную мантию и большую диадему, уже не повязку, а корону, сделанную по образцу венцов восточных царей.
Большинство простонародья разинуло рот и вытаращило глаза от изумления, ослепленное невиданным великолепием одежд, расшитых золотом и всякими бусами азиатской работы, чего скромный Сервий ни сам не употреблял, ни в своей семье не допускал.
Пользуясь этим замешательством народной массы, Тарквиний взобрался и сел на царское место форума.
В его уме невольно проносилась мысль, что теперь нет в этой толпе никого, кто мог бы ей растолковать тщательно скрытую им правду: почти все намеченные тираном проскрипты погибли; бояться ему стало некого. Тарквиний, окинув народ взглядом торжества, велел трубить призыв сенаторов на форум, сигнал необычайно важного события.
Народ притих, глядя с безмолвным любопытством, как сходятся важные лица к регенту, одетому, как царь.
Когда патриции и жрецы заняли места подле нового владыки, Тарквиний со спокойной важностью, точно совершенно правый человек, начал речь:
– Вы знаете, квириты, народ римский, что Сервий сын рабыни; по случаю моего малолетства, он захватил царскую власть не по закону и не по выбору всего народа. Мои права на римский трон более законны. Мой отец, славный Приск, был вашим царем; его тень повелевает мне низложить сына пленницы.
Народ начал было шуметь в недоумении от неожиданной речи, из которой стало ясно, что Сервий жив, молва о его смерти – ложь, но все снова моментально притихли, услышав отдаленный гул топота коней и идущих пешком воинов; трубы играли военный марш победителя; царь Сервий вступал в столицу, получив от кого-то извещение о задуманной узурпации зятя.
Старый властелин поспешил на форум, с трудом пробираясь сквозь тесную толпу.
– Что это значит, Тарквиний? – спросил он, остановившись у трона, – как ты смеешь сидеть на моем месте при сенаторах? Я еще жив, я еще царь.
– Я сижу на троне моего отца, – ответил Тарквиний спокойно и равнодушно, – я имею на это больше права, чем ты, сын рабыни. Пора положить конец твоей власти; я теперь взрослый человек; твоя опека не нужна. Я твой законный повелитель. Друзья, ко мне!.. Возьмите этого узурпатора и бросьте в тюрьму, которую он сам выстроил для других!
– Граждане, защитите меня! – вскричал Сервий.
Приверженцы двух царей кинулись одни на других; на форуме произошла кровавая борьба.
Тарквиний схватил Сервия своими мощными, молодыми руками и сбросил с возвышения, где было царское место, куда старик взобрался укорять неблагодарного воспитанника.
Видя, что его приверженцы взяли верх, Тарквиний ушел в здание Сената.
Форум опустел, только избитый старик валялся там на камнях мостовой без чувств, подобный трупу.
Сервий исходил кровью, но еще был жив. На груди его зияла рана от кинжала, нанесенная Тарквинием.
Он несколько часов спустя очнулся, вспомнил все происшедшее и решил спасаться бегством. Были еще люди в Риме верные ему, могшие скрыть, неузнаваемо переодеть, и проводить несчастного царя к войску, неосторожно оставленному им за городом, а там Скавр, Брут, Спурий, несомненно останутся на его стороне, ненавидящие Тарквиния.
О, как жалел теперь Сервий, что не слушал никаких сообщений этих людей о молве про его зятя! Еще вчера они остерегали его; припомнив все это, раненный старик поднялся и побрел одиноко из улицы в улицу; прохожие сторонились от него прочь; едущие спешили умчаться; закрывались наглухо ставнями, как перед бурей, те окна, к которым он приближался, и запирались изнутри двери, в которые он стучал с мольбой о защите.
Почти дойдя до дома Скавра, где рассчитывал укрыться среди верной прислуги, Сервий упал, обессиленный кровотечением из раны.
Туллия долго ждала Тарквиния до самого вечера пробывшего в Сенате, и наконец, не дождавшись, поехала к нему, одетая так же, как он был утром – в атрибутах царского сана.
Поздравив его, приветствовав, как римского царя, она, торжествующая и ликующая, возвращалась домой.
Ее возничий вскрикнул в ужасе, остановил лошадей, указывая на окровавленного Сервия, лежащего без чувств.
Безумное исступление ярости охватило сердце Туллий; столкнув раба с золоченой колесницы, она взяла вожжи, ударила коней изо всей силы бичом, и понеслась...
Совершилось преступление, беспримерное не только в Риме, но и во всей Истории женщин мира: дочь раздавила отца, умышленно, нарочно[17]17
Т. Ливия кн. I, 48.
[Закрыть].
Народ прозвал это ужасное место «Улицею злодейства» и многим долго мерещилась тень Сервия, грустно стоящего там, понурившись в раздумье о том, проклинать ли ему дочь-злодейку или жалеть ее в виду мучений, какие Туллия устроила сама себе в грядущем?
Римляне поздно поняли истинный склад характера Тарквиния и Туллии, поздно раскаялись в своей приверженности к гордецу и возненавидели его.
Что осталось им? – Изнывать под гнетом тирании.
В эту эпоху расшатанности всех условий римского быта, нуждавшегося в радикальном обновлении, как царем, так и великим понтифексом, мог быть полезен государству только человек с железною волей, но такие появлялись в тогдашнем персонале вельмож лишь среди подчиненных, а попавши в начальники, став во главе дела, каждый оказывался подавленным до полной невозможности введения каких бы ни было реформ.
Свержение Сервия Тарквинием нельзя назвать полностью узурпацией, так как он был сыном римского царя; поэтому негодование хороших людей вызывалось не самим фактом дела, а его нравственными сторонами, мрачными, злодейскими подробностями, какими оно обставилось: игнорированием воли сената и комиций, нетерпением дождаться естественной смерти старика, убийством благодетеля и т. п.
Люди благодушные, каким был Сервий, тогда могли иметь только печальный конец.
ГЛАВА XXXV
Праздник дураков
Виргиний, находившийся около царского места среди верховных жрецов подле своего деда Руфа, был жестоко избит наскочившею на него чернью при начале свалки. Он честно исполнил свой долг, защитив старого фламина, и принесенный после побоища в его дом, уложенный на постель, сильно расхворался.
И сознательно, и в бреду, он просил у деда, спасенного им, единой награды – позволения иметь Амальтею вместо жены.
Относительно этого фламин отмалчивался, уклончиво отвечая фразами вроде:
– А вот увидим, когда оправишься! Может быть, ты сам передумаешь. Сначала надо выздороветь, окрепнуть и т. п.
Навещавшая его Стерилла, когда-то бывшая его нянькой и отчасти любимая им за ее ласковость, сообщала ему утешительные вести. Она уверяла, будто Амальтея живет при своей госпоже в Этрурии у все еще больного Скавра; Амальтея и ее ребенок вполне здоровы и всем довольны.
Но чтобы отклонить от себя подозрение в умышленной лжи, злая колдунья не говорила ни о своих личных мнимых свиданиях с Амальтеей, ни о другом таком, явно обманном, а ловко прикрывала это оговорками «так говорили», «молва носится», «старшины думают по деревням», «Тит от кого-то слышал» и т. д.
Она сказала, что Грецина взяли деревенские, подаренного им Тарквинием, и принесли в жертву, как уже много лет собирались.
О нем Виргиний жалел не сильно, не загрустил и о братьях Амальтеи, которые достались Руфу вместе с конфискованным у Турна и подаренным ему Тарквинием поместьем, а Руф тоже подарил их за преданность деревенским, в залог будущих взаимно хороших отношений, но что такое деревенские сделали с ними, Стерилла уверяла, будто не знает.
– Слышно, продали их бродячим грекам-скупщикам; слышно, заперли куда-то до праздника, – обрекли, вишь, одного Януса на Новый Год, а другого – Палесе или Фавну... Не знаю, молодой господин, о них ничего, ни крошечки.
Виргиний не узнал и того, какая печальная участь постигла семейство скрывшегося Турна, заботливо изолированный дедом от всех, кто мог был сообщить ему подобные вести.
Усадьба Турна, подаренная Тарквинием Руфу, составила, по-тогдашнему, богатейшее поместье.
Фламин радовался, величался, пировал в Риме, не зная пределов своему довольству победой над сенатором, с которым много лет судился без успеха у царя Сервия за пограничные участки.
Он чуть не поминутно напоминал больному внуку об этом в разных вариациях:
– Это я сделал только для тебя! Вот чем ты мне обязан! Ты теперь богатейший наследник! И т. п.
Вполне уверенный, что все обстоит благополучно относительно его конкубины и ребенка, молодой патриций собрался ехать в деревню, когда уже весна наступала.
Поселяне ликовали в своей священной роще у источника, справляя праздник «Дураков и Печи».
Молодежь навешивала на себя всякие рогожи, пестрые лоскутья, зелень, цветы, побрякушки, приделывала к физиономиям рога, длинные носы, крылья, ослиные уши, гоготала, кувыркалась, дурачилась на все лады, стараясь превзойти друг друга в безумных кривляньях, изображая глупость древних времен.
В их всевозможных шутках, остротах, каламбурах, преобладал возглас:
– Наши предки были дураки; они не умели делать себе печи, не умели варить себе пищу!
Многие жалели, что старшины замуровали придурковатого Ультима; в округе не было балагура потешнее его; Ультим несколько лет подряд выбирался в цари дураков этого праздника, а теперь поневоле молодежи пришлось взять на эту роль Ювента, сына одного из старшин.
Обыкновенный от природы, этот мальчик сделался почти идиотом от испуга с тех пор, как разбойник Авл чуть не утопил его в болоте.
Грот, из которого бежал священный поток, был давно открыт поселянами, решившими вынуть оттуда трупы казненных, чтобы они не оскверняли воды, и их полное исчезновение порадовало свидетелей, как несомненный знак, что жертва принята кем-либо из богов, обитавших в недрах этой горы.
Теперь около грота сидели на траве кружком «дураки» и делали вид будто едят из общего горшка сырую крупу, разведенную водой из священного источника.
– Предки были дураки!..
тянул один нараспев.
– Не умели печь блинки!..
рифмовал ему другой.
– Кашу не варили,
подтягивал третий.
Рыбу не солили,
Фиги не сушили,
Теста не месили, и т. д.
набирал каждый от себя.
Отведывая невареную крупу, они гримасничали, морщились, плевали, осмеивая предков-дураков, евших сырые. Рифмам и всяким другим прибауткам конца не было.
Тут же лежали заколотые для пира телята, барашки, птицы, над которыми веселая молодежь делала разные манипуляции изображавшие мнимое отведывание невкусного, сырого мяса, и тоже осмеивала предков, как над кашей.
В самый разгар общего веселья к кружку подошел «форнакарий» или «форнакатор» – «пекарь» – и стал говорить приличную случаю речь, довольно грубого, деревенского склада.
Его роль играл в этом году молодой поселянин Лукан.
– Дураки вы, дикари старого Лациума! Не умеете вы хорошей пищи приготовлять, не умеете печей складывать, ни варить, ни жарить. Цари премудрые и боги милостивые меня к вам послали, научить вас делу хорошему. Пойдемте за мною к алтарю великой богини Форнакс «Печи»; она вас накормит не бурдою, не тюрею, не сырым мясом, для одних зверей годным, а вкусным жареным и похлебкой.
Все сидевшие после этой речи радостно вскочили; одни схватили и понесли съестное, другие стали дудеть, бить, бряцать на всяких инструментах деревенскую музыкальную какофонию, третьи запели выученный заранее гимн в честь Форнакс и Вулкана «огня».
Веселая процессия деревенской молодежи направилась к пригорку с каменной эстрадой, служившей у них местом всех таких священнодействий, в большинстве веселых, но иногда омрачавших праздники трагическими эпизодами заклания или истязания людей, приносимых в жертву, борьбою с ними, их насильственным укладыванием, плачем родственников и друзей, выниманием роковых жребиев смерти при алтаре.
Теперь на украшенной цветами и всякими подвесками эстраде виднелась сложенная на скорую руку печь с ярко горящим костром внутри ее.
Форнакарий стал приносить жертву Форнакс и Вулкану, кидая плохие части мяса в огонь, а лучшее укладывая на сковороды и в горшки для приготовления пира.
Молодежь стала водить огромный хоровод около этого кургана, причем многие, разыгравшись, продолжали представлять «дураков», мешали хороводу своими кувырканиями и скатыванием сверху вниз, подвертывались под ноги, заставляли других падать, получая тумаки и пинки за это, особенно от девушек, которых было тоже немало участницами общей кутерьмы, хоть они и не принимали активного участия в самой процедуре дела.
Старики и старухи, напротив, почти не являлись в рощу; это был праздник не для них, а специально молодежи. Они считали для себя неприличным дурачиться, как и скакать с луперками на Арвалиях и др. таких празднествах игривого пошиба.
Среди этой веселой толпы почти целый день уныло слонялся Виргиний, надеясь встретить там Амальтею, дождаться, не придет ли она, как прежде, петь и плясать на обычное место к знакомым сельчанам, а если скорбь о гибели отца и братьев все еще не утолилась временем и сильно томит ее сердце, то не привлечет ли ее сюда хоть такая же надежда, как у него, на взаимную встречу, ведь этот священный поток был одним из мест их первых свиданий; тут без свидетелей вступили в свой брак-контуберниум – любовь благородного с рабой.
И мнилось Виргинию, что Амальтея непременно придет, если не днем, то когда свечереет, и останется ночевать у подруги в деревне.
Когда день стал клониться к вечеру, многие из молодежи устали плясать вокруг жертвенной печи; осипли их голоса от пения гимнов в честь Форнакс; сам Форнакарий Лукан едва стоял на ногах от утомления, а царь дураков Ювент давно спал в роще под деревом, наевшись досыта всякими сластями и пряниками, которыми его угощали, как главное лицо праздника.
Часть веселой толпы опять уселась на траву и камни подле источника; бойкий говорун Тит-лодочник теперь главенствовал тут в качестве повествователя занимательных сказок.
– Озерная рыба! – перебил его повествование резкий голос Виргиния, стоявшего под деревом в нетерпении, – довольно тебе эту небывальщину-то врать! Ты мне нужен, как никогда не бывал!
Компания расстроилась; одни из поселян засмеялись на внезапное появление фламинова внука, точно заставшего лодочника врасплох на шалости, другие заворчали, недовольные, зачем Виргиний перебил интересную сказку. Лодочник ушел с ним говорить по секрету.
– Где Амальтея? – спросил молодой патриций, весь дрожа от опасений за участь любимой женщины.
– Как же я могу это знать, господин?! – отозвался Ловкач, почесывая свой затылок в недоумении от неожиданности вопроса. – Где Амальтея? Стерилле лучше знать, где она.
– А Стерилла говорит, будто ты это лучше ее знаешь.
– Я... то есть я-то знаю, да... да, господин фламин, твой дедушка, знает еще лучше меня, где она.
– А если знаешь, то и приведи ее ко мне.
– Привести к тебе... она, говорили, в усадьбе Скавра живет.
– Врешь!.. Я ходил вчера туда; там все разорено, даже сторожей куда-то увели; никто не мог мне сказать, куда девались и господа, и слуги; все, кого ни спрошу, дрожат и молчат.
– Дети Турна у Брута, господин.
– А Амальтея с ними?
– Почем же я могу знать, господин? Я ведь не тутошний, я с Неморены.
– Знаешь ты, Тит, лучше всякого тутошнего, да только врешь мне. Берегись, Ловкач! Я тоже могу проучить тебя, как Аполлон ворона, о котором ты сейчас рассказывал, только навыворот, заставлю пить без конца здешнюю болотную воду в трясине!..
Сжав кулаки в гневе, Виргиний хотел удалиться, но лодочник остановил его.
– Господин! А господин!
– Что еще, озерная рыба?
– Я может быть и приведу ее, если найду, только не могу ручаться.
– Куда приведешь, угорь изворотливый?
– В пустую квартиру Грецина или на чердак в альтану Турнова дома. Я ведь право, боюсь твоего дедушки пуще огня, господин.
Виргиний стал после угроз упрашивать Ловкача, сулить ему пояс с золотою пряжкой и разные другие вещи в подарок, после чего тот, как бы постепенно сдаваясь на подкуп, таинственным шепотом сообщил, будто Амальтея скрывается после разгрома усадьбы Скавра в деревне, в избе у одного из старшин, бывшего приятелем ее отца.
– У Аннея?! Я лучше туда приду к ней.
– К Аннею нельзя, господин; он всеми богами заклянется, что ее нет и не было у него; там она тебе не покажется. Деревенские боятся твоего дедушки, боятся и Брута. Амальтея, слышно, Бруту самому приглянулась; он ее ищет взять в Рим, себе в экономки, и дед твой отдает ее: спора тут не будет.
– Дед отдает. Брут берет. Да разве я-то отдам?!
– Погоди кипятиться-то, господин! За твою доброту я все устрою; за самые марсианские горы помогу тебе ее скрыть, если желаешь. Потерпи денька два; я переговорю тут с тем-другим нужным человеком и дело уладится: придет она к тебе.
Они расстались в отношениях лучших, нежели в каких встретились, но все-таки не совсем дружелюбно: Ловкач ухмылялся себе в кулак, а Виргиний косился и хмурился.








