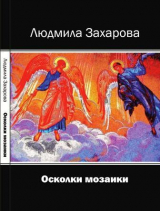
Текст книги "Осколки мозаики"
Автор книги: Людмила Захарова
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Я не замечал ревности Ольги, терзающей меня, где я витаю? Я не наслаждался тенью старого парка, торопил ее вернуться, чтобы застать тех двоих с непритворными лицами: печаль, ведущая к разводу. Я увидел печаль! Вечером я посвящал ей страницы дневника: моя… Беатриче, Лаура, Диана, Клеопатра, Франческа или Елена Святая? Я ждал – она не обманет. Иногда я не успевал сомкнуть глаз и все ждал, что она скажет свое имя. Услышанных было много, я им не поверил. До сих пор загадка – почему не удержал ее?
Мои многозначительные взгляды при встревоженных посторонних ее не смущали. Я даже решил, что в «ея» великолепии нет такого понятия. Почти месяц восхитительнейших измен свели на нет семимесячную связь с Ольгой. Мои посещения раздражали ее беспричинно. Наверно, неловко, что я усаживаюсь за спиной, вынуждая ее оборачиваться или укладываться на живот, округляя в ладошках лицо и так кукольно-смешное, чтобы увидеть меня. Чувствуя себя дирижером женских страстей (каковым и действительно был), я забавлял (и забавлялся!) падких на шалости чаровниц. Однако мне, отъявленному холостяку, к тому же кичившемуся этим, понравились вошедшие дети. Галантный «сыночка» с папиными глазами под локоток сопровождал кареокую Ксаночку (в маму, в маму). Она прежде подала им руку для поцелуя, затем прижала детей к себе и, быстро подставив висок для поцелуя мужу, словно клюнула детей в макушки. Потом она заговорила задушевным тембром, умилившим меня.
Я выпытывал у Ольги – сколько же ей лет? И оказалось, что она старше его на два года, а девочка старше сына на полгода, хотя меньше ростом и более хрупкая, чем он. «Вероятно, вы с нею ровесники», – подруга продолжала охотно ссыпать эмоции и факты в раскалившееся воображение. «Не может быть», – прикидывал я. Она изящнее Ольги, которой нет и двадцати, чья спортивная фигурка стоила трехнедельного обхаживания (с шампанским что ли? забыл).
– Господи, да во сколько же лет она родила дочь? – не выдержал я, запутавшись окончательно.
– Ксюша – его дочь от первого брака, женаты они почти три года и, соответственно, очаровательный молодой человек женился рано. Очень рано. Дети красивые, да только не в них. Так-то, дружок, – Ольга ехидно рассмеялась на мою «проницательность» и, пресекая любопытство, больше не стала уводить меня на свежий воздух в часы посещений.
На следующий день я опоздал. Мое место было занято визитерами. Муж (!), бережно подавая тапки, не дышал. Крутой подъем ступни и тонкие щиколотки тут же скрыли опавшие оборки в белых топорщащихся кружевах. Приятная ночная рубашка ласкала руки, трепетно поднимавшиеся вплоть до острых, туго очерченных коленок, задрожавших в испуге. Она выпрямилась, стряхнув немнущийся шелк раскрытого халата, и, словно скрываясь, прильнула к его плечу. Муж так же аккуратно расстегивал пуговку (круглую, обтянутую той же тканью) на манжете, освобождая из чрезмерно кокетливых крылышек правую руку, оголяя ее до плеча. В первый раз я увидел ее в полный рост (чуть выше среднего, но на голову ниже этого мужа). Она опустилась, откинув безжизненно руку перед собой на спинку (на жесткую спинку) подставленного стула, на котором я изводил свое время. Муж (его звали также как меня!) отошел к окну – вздыхать, протирая оригинальные очки. А у седой приятельницы сегодня что-то не ладилось: вена ускользала и ускользала от нее. Оставленная маленькая иголочка бескровно покачивалась. Такие манипуляции производились ежедневно. В легкомысленном отделении не нашлось виртуозов для тонких и ломких вен, и в подставку для капельниц были воткнуты цветы в знак сочувствия попавшим сюда. Ольга испытующе наблюдала за мной, а я за происходящим. Славик резко одернул подругу и, справившись сам, подпустил, подшучивая над ее манерой прижимать коленом сиденье стула, отпуская жгут. Она вытянула струйку темной крови в шприц (по вискам струился пот), нервно переводя дух и очень медленно нажимая на поршень, требовала определенного ритма дыхания от моей (?). Она так и не назвала себя.
Через лазейку я проникал в клинику в тихий час – час, когда мы, сдерживая душераздирающий смех, обычно пили чай. Наконец-то ей надоело притворствовать. Я сидел у ея пустующей постели. Сейчас она войдет, пойдет мне навстречу и глаз не отвести. Я повертел раскрытую книгу, заглянул в кофейник – вода налита, включил в розетку. На дне чашки с перламутром помады (ее губ), в остывшем чае лепестки розы. Косметичка рассыпана по тумбочке, из ящика видны сигареты (ушла курить). Я поднял упавшие спички, заметив вышивку в китайском стиле на бархатных тапках, крохотных рядом с моей ногой. Дверь распахнулась. Ольга подскочила так, что у меня сердце екнуло, рванулась навстречу. Ясные глаза затуманились, но мальчишка импозантен, весьма импозантен.
– Как! Не может быть!
Он остолбенел, не понимая таких же недоумевающих слов Ольги.
– Не знаю, почти под утро. Спросите, просили вас зайти. Вы… Вы зайдете?
Ольга мяла подхваченный букет, пока скрипящую дверь не прихлопнуло сквозняком. Дремавшие девочки словно очнулись.
– Ушел?
– Да.
– Я не понял, что он сказал? Что такое? Где она? Выписалась? Сбежала? Она оставила телефон?! – Пытал я всех до хрипоты. Ольга с глубокой обидой, не желая устраивать сцен, произнесла тихо и четко.
– А тебе, она просила передать… тебе просила ничего не говорить. Да, это все.
Койка пустовала три дня, затем я забрал Ольгу домой, но беспечная прежняя близость не вернулась. Мы расстались, не выясняя отношений.
19. Не может быть
Прошло пять лет. Теперь я редко вижу удаляющийся волнующий силуэт. Настигнуть не удавалось. Не удалось. Я уже не злюсь, но хотел бы объясниться или проститься. Я жаждал этого даже тогда, когда приходил к речной излучине, где крутой берег нависает гребнем. Она любила застыть с запрокинутой головой – дразнить меня распущенными до пят волосами. Именно туда я кощунственно приводил девушек, которым морочил голову любовью. Они становились податливее, принимая явную ложь, не подозревая простой истины: «Чем женщина не доступней – тем она прекрасней».
Я перестал звать, писать письма, перечитывать их из года в год. Я устал. Облезлый дон Жуан устал просыпаться с милейшими красотками, поочередно устраивающими истерики, скандалы, беременности. Я выгонял их, без сожаления. Но иногда прощался с ними и без повода, ибо приходила она. Я сказал – все реже и реже. И я уже не был уверен, что снова увижу ее. Я чувствую, как она проводит кончиками пальцев по волосам, по бровям, по ресницам. Легкими касаниями повторяет мой профиль, очерчивает губы, глаза смеются совсем не бесстрастно. Хочу поймать руку – спешу воочию увидеть и…
Я вновь грезил пройтись по бульвару, бродил осенними улицами, высматривая ее в квадратах окон, я не бредил. Я же знал, она живет в этом районе, и спешил вернуться в аллею с шумного перекрестка, на который уходит она и теряется. Много лет. После такого отчаянного пробуждения я столкнулся с Ольгой. Она с коляской и замужем, и счастлива, и, слава Богу. Я решил разыграть ее, может быть, сейчас проболтается.
– Ты помнишь капризную даму из палаты №209?
– Да, а что?
– Ну вот, поздравь, мы нашли друг друга.
Ольга вздрогнула, изменилась в лице и заспешила кормить спящего малыша, остановилась изумленно, услышав мое краснобайство о встрече в конце аллеи, о погоде солнечной в день, когда она стала моей тайной женой; о злоключениях с очередным ее разводом (других проблем нет); о венчании год назад – без единого гостя: икон и свеч было мало, еще пахло сыростью и побелкой (торжественность в душе). Мы были первыми в воспрянувшей церкви, которая все еще реставрируется – там, за клиникой. Я клялся в чистой правде, ее убеждая и кляня в том, что все должно было произойти раньше и проще. «Едва я вошел в палату – я понял, что хочу подарить ей бриллиантовые острова». – Ольга как-то странно отшатнулась от моей счастливой уверенности и, словно подписала приговор смертный своим ответом. Я накричал на нее.
– Нет! Почему нет?! Неужели я не способен увести жену номенклатурного миллионера? – Я даже встряхнул ее за плечи, обозвав дурой, ничего не смыслящей в жизни. – Желание дарить – желание! Желание гораздо важней самой возможности! Я со дна морского подниму эти острова, хотя она достойна большего. Ради красоты жеста подарю ей на день святой великомученицы Людмилы Чешской, день нашей свадьбы.
Ольга гладила меня по щеке, надеясь успокоить, но не верила. Плакал ребенок, она оправдывалась.
– Что я могу поделать, она велела сказать так, если ты устанешь, устал искать ее. Чем я могу помочь, если она так просила. Хочешь? Хочешь зайдем ко мне, я отдам ее вещи. Симпатичные тапочки можно прибить на стену. Сейчас это модно – вешать подковы, лапти. Косметичка и гребень с инкрустацией – музейные. Книга, записи (я их не читала), чашку, конечно, не отмыть. Лепестки присохли, конфеты окаменели. Столько лет. Много полезного для девушки я переняла от нее. Пригодилось, как видишь, муж не догадывается. Времени не хватает, но я не допускаю, чтобы он заметил не осветленные, отросшие корни волос.
Затем она проводила меня, болтая совсем не о том, что я хотел знать. Я обрывал ее, умоляя дать номер телефона, указать дом. Кричал ребенок истошно, но как во сне. Ударами колокола в висках отдавались горькие слова моей (так и не назвалась!). Я все еще слышу ответ, отравивший меня бесконечностью одиночества, ответ достойный щемящего проклятия, от которого она все-таки уходит. Уйдет всегда. С тех пор я избегаю детскую площадку с резными фигурами зверей, качелями, домиком Бабы-Яги бревенчатым, – разделившую бульвар на излюбленные аллеи. Одна уводит к нашей церквушке над набережной, другая – к перекрестку. Избегаю. Но и во сне я вновь и вновь переживаю тот день (утро?).
Ольга вздрогнула (медленно вытягивается лицо), поднимается с низенькой лавочки, заторопилась вдруг. И через десять лет хочется кричать: «Иди, не оглядывайся! Иди, не жалей блудливого игрока и писаку, который не пожалел твою юность и не вспомнил бы никогда, если бы не она – моя неуловимая мечта – бессонная, безымянная. Иди… Я не был твоим первым мужчиной, не навещал тебя, не был знаком. Никогда!»
Зачем она так изумленно оглянулась, услышав навязчивый бред хвастунишки? Остановилась всерьез и на мою растерянную улыбку строго прошептала: «Не может быть».
20. Перемена света
Белый свет, свет белый, свет белый… Белый цвет, белый. Потолок белый, ограниченный двумя линиями. Коридор. Линия над дверью, белой дверью, параллельна потолку, значит, пол не имеет растущего уклона? То тупая, то сверлящая боль вибрирует, заполняет пространство. Скольжение вертикально. Белый… потолок белый. Устала искать себя, а посему потолок исчезает плавно, стараясь не быть навязчивым. Вот и покой – золотисто светящийся овал. Пятнышко еще пульсирует, но уже легко и мне нечем пошевелить, причиняя себе боль.
Как странно мы говорили: тот свет. Неправильно, вот он мой свет – золотистый светлячок. Ясно вижу оголенное плечо с моей родинкой, крапчато-красный шелк моего халата. Я вижу глаза, много, глаза знакомые, родные, но я вас боюсь. Не всматривайтесь, не приближайтесь, вы уже топчете душу. Я хорошо всех вижу, не сгущайтесь… Наверно, интуиция сдерживает ваш порыв – сделать шаг и раздавить меня. Зачем вы искали меня? Поздно. Я устала. Вы все такие разные, но сливаетесь – образуете воронку… черную. Все меркнет. Свист монотонен и бесконечен. Пятно, дрогнувшее пятно света вжимается и стремительно падает в вас! Скольжение, потолок… Уйдите! Не стойте над душой, прошу… Вспомните, однажды виденный сквозь толщу воды, морской воды, зябкий солнечный луч. Уйдите, я всплыву. Уйдите, мне больно.
В такт моим мыслям вы блекнете, рассеиваетесь где-то вокруг меня, между вами, отделенными сейчас друг от друга, хлынул поток белых снующих пятен, расползающихся по халатам. Яркий свет. Ослепительно белый, колеблющийся, разделяющий солнечный день на клетки. Окно. Обыкновенное окно… Ощущение тела приходит острой игольчатой болью. Невесомо поворачиваю голову, ищу вас. Мне холодно, а вас нет. Ледяные пальцы перебирают скользкую ткань, упрямо и зло пытаются стянуть этот несвежий покров, трогают онемевшие губы. Рука белеет, продолжает белеть, достигая ослепительно-белого цвета, гаснет нечаянно. Легкий толчок. Уплывают коридорные матовые лампы. Одна за другой, одна за другой, одна… Неужели я здесь одна. Не может быть!
21. Мир перевернулся
Мир перевернулся и, как никогда, все встало на свои места. Друзья стали врагами, враги – друзьями, близкие стали прохожими. Чужие удобно усаживаются на край моей пропасти и так забавляют, что я все чаще и чаще отвлекаюсь от манящей пустоты, где оседает туман желанных миражей, оставляющих досадный скрежет на зубах.
Время, совершенно застывшее, сдвигается, оттолкнувшись от той самой точки, что остановила его. Но это уже не важно – мир перевернулся! Мы топчем небо, не опуская глаз, – мы привыкли, и это не пугает. Дышится легче, а кислород кончился, как сигареты в бессонную ночь. Мы забыли дышать раньше. Мы решаем, наконец-то, довериться Судьбе – гувернантке Судьбе, покориться ей, примириться. Поздно. Она не играет с нами и уже не захочет помешать.
Пожалуйте, мадам Свобода! Мы перестали бороться за тебя, а ты пришла и долго куришь, скучая в кресле, – ожидая внимания к своей персоне, листаешь старые журналы. Но ты всего лишь девчонка с короткой мальчишеской стрижкой, ты нам безразлична. Мы освобождены Забвением.
Мы очень долго шли навстречу друг другу, мечтая открыть резную дверь, одновременно, но с разных сторон. Попытка удалась! Каждый получил по лбу. Неизвестно, кто же оказался сильней, но вместо венца – развеселые запоздалые поминки.
Среди шумных гостей (благосклонный поклон великой княгини Разлуки) мы танцуем оглушительное танго прощания, радуясь такому исходу. Никто не удивлен, все счастливы... Крохи былого. Они волновали. Сейчас их уже нет, и подступает душевное равновесие – вместо смерти. Смерть явилась раньше. Невзрачная подруга нашей жизни осталась незамеченной на балу герцогини Трагедии. Все кончилось. Ничто не сможет удержать нас. Мы летим в Бесконечность Неизвестную. И нет нитей связующих нас – мы их не заслужили. Нет причин, нет сторон, нет времен, да и всего, что могло быть. Мир перевернулся. Острова бриллиантовые, жемчужные – сбылись… И как никогда подступила тишина. Уединение.
22. Осколки меланхолии
Печальный призрак отшатнулся от встречного взгляда. Зеркальный занавес закружил, но не открылся, не раскололся, даже не запотел. За ним стынут свечи, стынут в неминуемом ожидании катастрофы. Катарсис строфы, открывающий иное со-существование. Обрывки мыслей, презревших условности, ускользают в неизвестность «я». Былые тени, сорвавшие завесу в иное измерение, где пыль и тлен. Это не зеркала, не трещины на них, не воображение, собирающее мозаику из осколков меланхолии, – просто хаос пустыни и миражей.
Сон – единственно возможное обиталище, призрачный миф о целостности двух человеческих душ. Блаженство, где никто из соглядатаев не заметит ничего запретного, ибо время остановилось и для них. Тысячи лет промелькнули, но возлюбленные находят друг друга, уловив синхроимпульс. Им известно о часе покоя, где не властна реальность. Головокружительные всполохи ведут по лабиринтам. Интуиция? И возвращаются неузнаваемыми тени. Их спасает движение, перемещение в зеркалах. Интуиция – знание, рассеянное во времени. Или наоборот? Время, сокрытое в пещерах памяти…
Высший суфлер скомкал рукопись, отшвырнул в угол. Шелест. Дуновение. Бумаги зашуршали, выпрямляясь. Алфея распрямилась струйкой дыма, пытаясь быть хмурой, спросила: «Что-то не так, Странник?»
– Я безудержно стремлюсь к тебе, спешу, падаю, бегу навстречу и просыпаюсь. Мне мешает ветер непременного быта. Я чувствую несовершенство внешней оболочки, сдерживающей возможности. В этом свете нет счастья, а лишь претенденты. Тоскливо, только смутная память в кошмарах бессонницы, где маски добродушно лживы. Я отдыхаю, лишь вырываясь в безграничность. Обыденность. Ее прикосновение обжигает. Ты и я – жестоко. Я помню.
– Мы неразделимы, Странник. Сегодня, наверно, семнадцатое, во всяком случае – здесь понедельник. Сумерки, берег оживает. Каменные лунки лабиринтов разрушенных дворцов, удивительный холод. Я понимаю: ты заблудился, проснувшись.
– Меня раздразнила пыль на зеркалах.
– Это с другой стороны… пыль, – она обошла стол, вытянувшийся вдоль одной из многих стен, просматривая рассыпанные листы.
– Зачем ты звал меня?
– Мне плохо без тебя.
– Я всегда рядом, – возразила она, удобно вытягиваясь на столе, устремив взор ввысь. Он склонился над ее лицом, излучающим не земной, но теплый свет. Ресницы не дрогнули, не приоткрыли тайны. «Где ты?» – спрашивали прикосновения, очерчивая изысканные линии. Пытливая ласка рук исполнилась любования. Нет, это не плоть, это выше. Красота столь совершенная духовна. Красота тела, красота чувств.
Любовь неотразима, она сильнее страданий. Города и миропорядки поглощаются веками, тысячелетия уходят в пыль. Остается она. Меланхоличный взгляд в бездну – интимное познание мечты о ней. Неторопливый жест очарователен. Она есть. Мир внешний – суета. Истинную реальность люди склонны искажать, превращая в забаву, – чисто земное, грубое, примитивное познание.
Он вздрогнул, поднимая упавшие покровы, озираясь на зеркала. Их слишком много и много пыли на них. Она свободна и вольна уйти. Он никогда не будет готов к прощанию. За окном стынут звезды, стынут свечи, перекликаясь за зеркалами. Он вернулся к столу, к манящей белизне листа. Еще один день прожит в ожидании катастрофы. Нет повода, но есть строчка, к ней примкнула другая, немного неуклюжая, он не звал их. Конфликта нет. На пыльной поверхности он вывел: Ты… Он что-то хотел сказать ей сегодня, но не помнил – что же… добавил: и Я! Поздно. Как приятно сказать себе: уже поздно, пора на покой и отказаться от притягивающего пера. Он замер, остановился, почувствовал.
Мечтательный взгляд теряется в бесконечности черного неба. Автор искал истоки, начало существования, но всякий раз приходит она – тайна закравшейся ошибки. Она невыносима! Он позволял себе предположить, что и его «странник» (впервые) появился на полях рукописи и продолжал жить в поисках себя. Она умела понять, но…
– Но порой этого бывает мало, – она вздохнула и потянулась внезапно исчезающей дымкой.
– Я снова задремал. Когда-нибудь я растаю в отражении зеркал, и это станет победой над разумом.
Он прижался лбом к видимой глади, созерцая мутное, местами в пятнах, по краям граненое стекло. Именно толщина граней отражает колеблющийся свет радужным спектром. В который раз он подходит к зеркалам в сумерках, протирая их рукавом? Своеволие бесполезно, ткань более прозрачна, чем манящая поверхность.
– Кто ты, приходящая внезапно? Иллюзия, реальность сновидений? Но я не закрываю глаз. Я раскручиваю колесо времен, если невыносимо пусто. Ты чувствуешь движение? – Он резко оглянулся, застав свое отражение напротив: высок, статен, светел.
– Ты мил, – Алфея поправила его, спадающие на плечи, волосы и, заслоняя собой все, рассмеялась. – Странник, ты становишься философом. Назовем это – память времен. Не гадай, просто: ты и я.
– Совершенно неуместная игра. Странно, маски необходимы людям, играющим роль, это игра в прятки. Кто они – эти гости?
– «Так не бывает», – скажут они, убеждая нас в том, что нас нет. Беспамятность – сокрушающий удар. Они найдут себя здесь и уйдут – рано или поздно. Будь добр с ними.
– А ты?
– Это тоже я. Неудачные наброски жизни на полях вселенной.
Он обходит непрошеных гостей, отвлекая от холодящих стекол, сквозь которые они, уткнувшись лицом и всхлипывая, желали вернуть мир, покинутый ими. Стенания затихали, пылевая завеса не пропускает свет печали.
– Высший суфлер это Бог? – кто-то тронул его за край балахона, робко улыбнувшись. Юноша озирался в недоумении, выискивая сочувствие у других, рассеянно плутающих в непривычной обстановке. Их стало чуть больше, они спокойно проникали в зеркальный лабиринт.
– Суфлер?! – впервые он растерялся. – Я автор, конечно, но я не знаю – зачем мне сей дар? Я лишь слуга – посредник. Вы можете уйти, если знаете куда, – он вспомнил предостережение и добавил: – Располагайтесь, дышите музыкой, наслаждайтесь игрой, выбирайте роли. Наверно, вам рано идти к Нему, располагайтесь, пища на столе.
Сквознячок забвения слегка покачивал кресла. Странник поднял перо, мучительно рассматривая острие, он уже не хотел вспоминать: где и когда это было. И звенящий голос: «Не закрывай глаз души, не забывай!» Ветерок, не ранящий, не опаляющий коснулся его. «Люди, а не годы, не серые будни, не века, но люди», – догадался он и вышел. Редкие путешественники отвечали на его поклоны. Уже ночь. На берегу моря оживают призраки, замкнув круг его заблуждений. Остывает раскаленный песок, засыпая сливающиеся тени двоих, возносящиеся в безграничность мерцающего космоса. «Что есть судьба и что есть глупость?» – спросил он себя и тихо рассмеялся над своим побегом.
Алфея заметила свечи, осмотрелась: какая долгая жизнь. Она покачивается в кресле, грустно улыбаясь. Он торопливо пишет, зачеркивает, в сердцах отшвыривает скомканный лист.
– Что-то не так, милый?
– Я был убежден, что нас уже не будет никогда. Смирился. Смотри, а все лишние ушли бесследно. Ни строчки черной не оставив. Я заточу перо и начну все с самого начала. Всегда можно остановиться на многоточии, не допуская даже упоминания о меланхолии.
– Действительно, только чистые листы и свежие чернила.
– Ты и я – глупо? Я не знаю: кто ты, и кто я? Это нелепо. Нас нет. Нет – «мы». Нет единения, все метафорично, загадочно, неуловимо. Просто бумага, чернила, иногда красивые слова…
– Просто. Не видеть меня, философ, слишком просто.
Алфея отворачивается, поправляя спадающие волны волос, собираясь раствориться отражениями в зеркалах. Он застыл, дрогнувшие губы не приоткрылись, не прошептали ответа, подтаяв обжигающей льдинкой. Он впитывает живительные перемены на лице, чувствует запах подтаявших свеч, встречное движение. Молния ослепила их, ливень распахнул окна, разметал рукописи, он ринулся к ней, закрыл собой от стихии… Она осталась, предпочла остаться неузнаваемой. Алфея была в его жизни. И потом она приходила в особенно удавшихся местах.
Прохлада разбудила автора на заре. Он сразу проснулся, ощутив острую жажду крепкого кофе. На листьях, стекая, зависали бриллиантовые капли ночного дождя. Он не помнил, когда он видел такое яркое умытое небо, когда в последний раз так радовался созерцанию просыпающегося города…
23. Вечеринка
Медлительные сумерки за окном грозили наполнить стекла отражениями. Он задернул шторы, охотно добавил свечей, и чад дружеской беседы не замедлил вознестись к непознаваемому. Иногда споры длились до утра, но не сегодня, он понял ее. «Нет-нет, не сейчас» – кивнула она, возмущенно поднимаясь из глубокого кресла. Он напряженно проследил ее перемещения по гостиной. Он боялся зеркал, друзья заметили это и, когда она скрылась на кухне, переглянулись.
– Поздравляем, старик! Весьма оригинально, талантливо! Да-да, увидим, в другой раз, – они стали прощаться.
– Странно, что я не услышал критики. Я только хотел сказать, что конфликта как такового ведь и нет.
Алфея сидела, вытянув ноги на подоконник, упираясь подбородком в колени, созерцая ореолы фонарей огромного города. Он скомкал листок, мечтая забыть, навсегда забыть строфу: «Любовь уходит, не прощаясь, едва лишь в мыслях предаем. Любовь уходит, завещая любимый призрак за окном».
– Нам не будет скучно в этом мире, – прозвучало оправданием.
– Нет, не будет. Там еще осталась посуда? – бесцветно справилась она.
– Может быть – я сам?
– Я вымою. Это тоже лекарство от тоски. Ее можно разбить.
– Тоску или посуду? – удивился он.
– Не все ли равно, одно переходит в другое и наоборот, а результат всегда непредсказуем.
– Они расстроили тебя?
– Нет, они просто не верят в мое существование. У них мысли столь зависимы от материи. Все понятно и обыденно. Можно возиться по хозяйству, витая в облаках, сочиняя сюжеты.
– Послушай, фея, но когда я пишу, надеюсь, я абсолютно свободен? Уверен, это именно так. Но записанное вне меня, словно кто-то надиктовал текст.
– Любой текст – будущая реальность. Ты откликаешься на зов, тебе есть что сказать.
– Мне?! Но я поясняю, сие от меня не зависит, следовательно, я заблуждаюсь.
– Нет и нет. Автор всегда знает, какими словами передать ощущение полета, напоминает о несовершенстве пут, в которые все заключены.
– Это и есть повод для твоей грусти?
– Вероятно.
Скрывая ноги, спадает полупрозрачная туника. Она застывает изваянием у зеркала. Лишь краткий миг безумья моего?.. Я не готов, так скоро, милая? Но что я говорю?! Это незыблемо – непреходяще, неразделимо: ты и я.
– Ты молчишь, – Алфея не взглянула на него, задувая оплавившие свечи.
Он решил не вдаваться в подробности, вернулся в кабинет опробовать золотое перо «паркера» – подарок друзей. У книжного шкафа юнец пристально вглядывался в портрет, затем открыл дверцу, взял его, ничуть не смутившись присутствием хозяина, вышел к свету, чтобы рассеять сомнения, лучше рассмотреть фотографию. Несомненно, он узнал себя шестнадцатилетнего. Автор решил освободить стол, взял стопку книг и разместил на полке. Кто-то предусмотрительно протер пыль, приготовил место. Улыбчивый парень, постукивая рамкой по ладошке, высматривал что-то в личной библиотеке. Оставалось только покачать головой на самоуправство. Даже кот удобно распластался на пачках нераспакованного тиража. В проеме окна он узнал силуэт странника – только в хорошем костюме и шляпе, присевшего на подоконник. Он закурил, не найдя пепельницы, поднял скомканный лист, расправил, перечитав, аккуратно спрятал во внутреннем кармане, снисходительно оглядывая разношерстную компанию.
Более всего передвижению по комнате мешали вытянутые скрещенные ноги девицы в алом облегающем платьишке, вальяжно растекшейся в мягком кресле и стряхивающей пепел прямо в вазу с живыми розами. Выгнать ее на бульвар, так ведь сразу поскользнется на дурацких шпильках, шлепнется в лужу полуприкрытым местом (листопад же!) или того хуже – ногу подвернет, завоет на всю округу, тащи ее назад на себе… разбудит Алфею, которая спит, пожалуй, утомившись с приготовлением банкета. Надо же, справилась без помощи, совсем было некогда с этим торжеством.
Он хотел присесть к столу, но мальчишка уже достал запылившийся «ундервуд», водрузил на старое место и увлеченно стучал на машинке, поглядывая на влюбленную парочку на диване. Девушка млела от поцелуев, молодой человек почти утонул в ее груди, не забывая расстегивать платье. Она теребила его кудри, покрывала неумелыми поцелуями лоб и брови, а он вновь проваливался в складку меж грудей, ничего вокруг не замечая. Дело к соитию, шли бы они отсюда уже в более укромное место. Рядом с ними женщина, тоже бесцеремонно, оголила грудь, к ней сразу подбежал малыш. Он сосредоточенно кормился, причмокивая, раскрывая рот для передышки, смотрел внимательно на милующихся, толкая их ногами. Молчали все. Не найдя себе места, автор решил принести табуретку с кухни, чтобы испробовать перо.
Алфея сидела спиной к двери, вытянув ноги на подоконник, захваченная чтением новой книги, словно не она корректировала содержание. О! Женщины! О! Чаровницы! Как же они любят восхваления себе – любимой. Стишок ли, просто комплимент или песенка про нее, хотя бы немного про нее. И они сразу погружаются в театральные – чужие эмоции, о которых автор и не задумывался, сочиняя. Без лестных обещаний – жизнь не в радость. Зачем им это (?!) мужчинам не понять. А те, кто знают их слабость, не промахиваются, флиртуя. Самое обидное, что сейчас она его, виновника торжества, не замечает, войдя в роль главной героини. А раз так все удачно складывается, то пора разобраться с непрошеными поклонниками. Вероятно, кто-то из друзей забыл свою подругу – модель или актрису. Ее можно без слов облить водой из вазы, чтобы научилась пользоваться пепельницей.
В кабинете горела только настольная лампа, на рабочем месте сидел хипповатый студент, – по-свойски макнув перьевую ручку в антикварную чернильницу, он заглядывал за тяжелую портьеру и продолжал писать, ухмыляясь в усы. Там другая парочка предавалась утехам, сверкая наготой некоторых частей тела. Странник не стал дожидаться реплик, хмыкнув, перешагнул через длинные ноги красотки, вышел. Автору тоже пришлось перешагивать. Кормящая мамочка одевала малыша для прогулки, жалуясь вслух о том, что ей, все равно, не хватит денег на билет. Длинноногая поднялась из кресла, вызвала такси, неприязненно поморщилась, прежде чем показать свое превосходство.
– Надеюсь, вам не в Париж лететь? Хватит вам десятки.
– Почему Париж? Откуда вам все известно? – вспыхнула женщина.
Но два метра костей, одернув собравшийся в гармошку подол, гордо исчезла. Следом загромыхала коляска по ступеням. Молодые люди вяло оправляли одежды и не спешили помочь. Удивительное безразличие. Каждый не любил каждого только за то, что другой был (стал?) другим. Можно представить, что бы они наговорили, если кто-то из них был хозяином дома. Терпели друг друга сквозь зубы, одно непонятно – для кого устроено это представление?
Копошение за шторой затихло. Автор заглянул, но там уже никого не было. «Ундервуд» зачехленный стоял на подоконнике, как обычно. Все ушли. Отъехало второе такси, третье. В первом исчезли шпильки искательницы приключений. Он видел, как старательно тетка повязывает шарф его сыну, играющему с малышом в коляске…
Его озарило: бывшая приходила к нему за деньгами, а он никого не узнал – так все изменились с годами. И единственный сын, с которым не виделись лет семь, не решился, вопреки запрету, войти в квартиру, в родной дом отца! Они переходили бульвар. Отстав от матери, он остановился, долго смотрел на папу… Внезапно, взметнув ворох рыжих листьев, убежал. Если бы в тот миг, он мог предчувствовать будущее, как утверждала Алфея, он бы выпрыгнул в окно высокого первого этажа, крепко обнял, удержал свою кровиночку. Скорее всего, подросток сослался бы на то, что мамка одна, ей трудно с братиком. А он бы кричал, что она вовсе не одна – давно замужем, это он – один на один с собой…
В жутком сне он не мог представить, что в следующий раз он встретит сына в мире виртуальном, поначалу приняв фото со сложенными на груди руками за нестареющего странника. И мечты, и досада опали как листья, тихо.
24. Ноктюрн забвения








